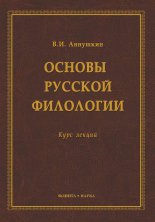Лондон по Джонсону. О людях, которые сделали город, который сделал мир Джонсон Борис

В соответствии с позорным Актом Батлера 1944 года, делившим учеников на «агнцев и козлищ», — актом, против которого вскоре выступит британский средний класс, — Кит считался менее способным к абстрактному мышлению, менее подходящим для буржуазных профессий, чем Майкл Филип Джаггер. Он, Кит Ричардс, выдавал на гитаре такие пассажи, что толпы девчонок стонали, как ополоумевшие менады, а официально умником считался Джаггер.
Этот нерешенный спор об интеллектуальном и творческом первенстве и был движущей силой Rolling Stones. Сердцем группы стали два колоссальных таланта, одновременно сотрудничающих и конкурирующих. Это соревнование принимало разные формы, и в каком-то смысле за пятьдесят лет вперед вырвался сэр Майкл.
Возьмите битву за женщин — первейшую схватку жизни. Можно сказать, что начиналась она на равных, и Кит ясно дает понять, что всегда добивался от девочек всего, чего хотел (если мне позволено выразиться с мужицкой прямолинейностью, характерной для первого из этих двух титанов).
Он не щадя наших чувств рассказывает, как именно он увел Аниту Палленберг от Брайана Джонса (если хотите знать, это случилось на заднем сиденье его «бентли» по кличке «Голубая Лена», в дождливое лето 1967 года, пока его ливрейный шофер мчал их по Испании в Марокко). И хотя Кит обвиняет Мика в шашнях с Анитой после съемок сцены в ванной в фильме «Представление» (Performance, 1970) — правда, сама леди до сих пор все это отрицает, — Кит, чтобы вернуть мяч на половину Мика, на всякий случай переспал с Марианной Фейтфулл, как раз тогда, когда она якобы была верна Мику. Однажды, рассказывает Кит, ему пришлось при появлении Мика так срочно уносить ноги через окно спальни, что он забыл носки, — как я понимаю, они с Марианной до сих пор вспоминают об этом и весело смеются.
Опять-таки оба они — и Кит, и Мик — будто бы спали с задумчивой секс-бомбой Уши Обермайер, которая потом польстила Киту, огласив свой вердикт затаившей дыхание планете. Мик — «настоящий джентльмен», а вот Кит как любовник получает оценку повыше, потому что лучше знает женскую анатомию. Да, был, конечно, еще и Билл Уаймен, о котором говорят, что он обслуживал фанаток с регулярностью метронома, и Кит вроде бы подтверждает эту репутацию, но тут же замечает, к всеобщему разочарованию, что девушки, которых проводили в комнату Уаймена, получали чашку чая с молоком — и больше ничего.
Дело в том, что Кит живет конкуренцией и хочет, чтобы все знали, что у него полно женщин всех форм и размеров, но большинство сторонних наблюдателей скорее решат — и, наверное, правильно сделают, — что в итоге Мик вышел победителем в этом безумном показательном матче-марафоне за первенство в гетеросексуальности. В итоге с именем Мика связывают список подлиннее женщин пошикарнее — именно он доказал свою способность вызывать самое непредсказуемое поведение у женского пола.
Много лет назад девушка, с которой я встречался, вернулась с вечеринки (на которую меня не позвали) и сказала, что встретила Мика Джаггера. «Конечно, я поцеловала его», — сказала она. «Почему?» — спросил я. «В щечку, конечно. Мне показалось, что так надо». Не факт, что Киф вызвал бы такую инстинктивную реакцию. И поэтому, обсуждая эти вещи в книге «Жизнь», он говорит, что не очень-то ему и хотелось выиграть это соревнование, и что на самом-то деле он с девчонками довольно застенчив (в приключении на заднем сиденье «бентли» инициативу проявила Анита), и в отличие от древнего сатира Джаггера Кит провел последние несколько десятилетий в счастливом моногамном союзе с Патти.
В том, что условно называют «карабканьем по социальной лестнице», Кит тоже не пытался тягаться с Джаггером. Оба представляли в общем-то небедный средний класс: Джаггер — сын и внук учителей, Кит — внук женщины-мэра Уолтемстоу (она наверняка была на тех собачьих бегах, где в 1945 году освистали Черчилля). Лондонская тусовка в 1960-х была смесью «новой аристократии» и старой. Здесь были взлетевшие к славе таланты из простолюдинов-кокни: звезды кино, дизайнеры, наглые фотографы, были рок-звезды и модели из маленьких городков — и была группа манерных и более или менее аристократичных выпускников престижных школ типа Итона — наркоманов и арт-дилеров.
Мик одно время подумывал заняться политикой, он, похоже, вообще любил компанию сливок общества. В опросе одного журнала их обоих попросили назвать своих героев. Мик написал «герцоги». Кит написал «участники Великого ограбления поезда». В 2003 году наступил момент абсолютного предательства, когда Мик позвонил Киту и сказал, что он решил принять предложенный ему рыцарский титул от Тони Блэра. Он сказал, что просто не представляет, как он может отказаться. «Ты, приятель, можешь отказаться от чего угодно», — грубо сказал Кит.
Присвоение титула — это «такая нелепость», жаловался Кит потом. Музыканты не выходят на сцену «в короне и горностаевой мантии», бушевал он. Джаггер нанес ответный удар — заявил, что Ричардс «несчастный человек». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что он несчастный?» — спросил интервьюер. «То, что я сказал, — ответил Мик. — Он несчастный. Если вам это непонятно, значит, вы ничего не понимаете».
Можно понять, почему Киту не понравилось такое выборочное признание заслуг группы — в лице одного члена группы. Нельзя же считать Мика блестящим примером для подражания, а Кита при этом — старым распутником и наркоманом. Не тот случай.
Их обоих арестовывали за наркотики. Обоих сажали (ненадолго) в тюрьму. Что касается заслуг перед обществом, то давайте скажем прямо — Мик получил рыцарство, потому что Блэр перед ним преклонялся. Это часто случается с выпускниками элитных школ, которые хотели, да не смогли стать рокерами, и, наверное, Алистер Кэмпбелл решил, что список награждений надо бы припудрить звездной пылью.
Что бы Кит ни говорил, ясное дело, что он был обижен, поскольку не получил равного признания. В книге «Жизнь» он очень хвалит Мика за таланты музыканта и автора текстов, которые тот сочиняет быстро и очень хорошо. А тексты были самые разные — непристойные, упадочнические, сатирические, сентиментальные, душевные, псевдодушевные и сатанинские. Вспомните песню «Brown Sugar»: там есть «старый, в шрамах, работорговец», которому так нравится стегать женщин плеткой «ближе к полуночи», а хор при этом выводит: «О-о, шоколадка, моя черная конфетка, какая же ты сладкая, ай-ай-ай!»
Почему этот расистский и сексистский текст не подвергают всеобщему остракизму? Честно говоря, потому, что почти никто за всю жизнь так и не понял, о чем он поет. Я встречал массу упившихся джином королев бара на сборищах тори и не один десяток лет слушал «Honky Tonk Women» — «Женщины из бара, где играют кантри», — пока кто-то не вывел меня из неведения и не объяснил, что в самом начале песни автор говорит, что встретил упившуюся королеву бара в Мемфисе.
Я всегда думал, что первая строчка песни «Wild Horses» («Дикие лошади») — «Устал от жизни», а теперь я узнаю, что это «Остался в той жизни», и это про детство. К чему я клоню — к тому, что слова, конечно, важны для общей эмоциональной ауры, но силу им придает только мелодия. Мелодию вы напеваете, под нее танцуете — а большую часть мелодий, похоже, написал Кит.
Да, Мик спел «Satisfaction» и написал к ней слова, но мелодию нашел Кит. Однажды утром он проснулся и включил свой кассетник — и вдруг оказалось, что во сне к нему явилась муза, и он встал посреди ночи и записал мелодию. Дилетанта вроде меня ужасно возбуждает, когда читаешь его откровения о том, как правильно играть на гитаре, как ее настраивать, о придуманной им «открытой» нестандартной настройке (или как там ее). Он рассказывает, как это трудно — заставить инструмент выдавать именно те звуки, которые звучат у тебя в голове, читаешь — и сразу чувствуешь в нем знатока.
Как будто великий художник удостоил тебя рассказа о своей технике и ты зачарованно смотришь, как он делает первые загадочные штрихи на холсте. Когда он настраивает усилители, проводку, магнитофоны в надежде ухватить какой-то ускользающий эффект, он чем-то напоминает одержимого ученого. Иногда, стремясь довести песню до совершенства, он проводит в студии столько времени, что все остальные уже вырубились и спят на полу вповалку, и только заведенный наркотиками Кит грохочет всю ночь, пока не добьется чего хотел.
Другими словами, есть что-то немного парадоксальное в автопортрете Кита. В интервью 2005 года он снова пытается убедить, что Мик зубрила, а сам он — почти без амбиций. «Что я? Я просыпаюсь, благодарю Господа и сразу отключаю все телефоны. А Мик должен утром проснуться с готовым планом». Мне это напоминает чисто британское кокетство — ложную скромность и желание прикинуться дилетантом.
Абсолютно ясно, что Кит вовсе не какой-то там вялый придурковатый наркоша. Он творческий stakhanovite — стахановец. Длинные технические описания в книге «Жизнь», уверенный анализ перехода блюза в рок-н-ролл, его рассуждения о месте группы в истории — все это заставляет сделать один важный вывод. И вывод этот заключается в том, что Кит ничуть не уступает Мику интеллектом и что приговор начальной школы на экзамене «11+» был ошибочным.
Чтобы вспыхнул огонь, нужно трение. Постоянная конкуренция, постоянное соревнование, стремление превзойти друга — вот что вызвало вспышку гениальности. Это был внутренний генератор, который питал группу, но — как будто этого мало — было еще и огромное внешнее давление со стороны соперников. Так же как есть те, кто за Мика, и те, кто за Кита, человечество делится еще и на тех, кому нравятся Beatles, и тех, кто предпочитает Rolling Stones (а еще куча людей любят и тех и других — в зависимости от настроения).
Обе группы чисто мужские, обе очень выиграли от творческой конкуренции внутри пары лидеров. Обе отправились покорять Америку и с триумфом в этом преуспели, и хотя они сотрудничали в работе над несколькими песнями и даже координировали релизы своих альбомов, чтобы не портить промоушн другой группе, но с самого начала было ясно, что они заклятые конкуренты.
Своеобразный человек Эндрю Луг Олдэм, который раньше продвигал в своих публикациях Beatles, а потом каким-то образом стал менеджером Stones, понимал, что, если Мик и Кит хотят настоящего успеха, им нельзя просто копировать диски Чака Берри. Им нужно следовать за Джоном и Полом. Поэтому он запирал их в комнате и заставлял сочинять собственные вещи, и все то славное десятилетие Beatles и Stones находились в полуофициальной конкуренции. Луг Олдэм понимал, как важно развести подопечных по углам, поэтому он придумал: пусть Beatles будут «хорошими», a Stones — откровенно сексуальными хищными троглодитами.
Beatles общались с милыми девушками типа Цинтии Леннон или Джейн Эшер. Подружек Stones — в шубах на голое тело, на куче надгрызенных батончиков Mars — арестовывали за наркотики, и полиция публиковала грязные инсинуации. Beatles увлекались психоделией, a Stones — психоделией и сатанизмом.
Beatles выпустили альбом «Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Stones скопировали его в «Their Satanic Majesties Request». Если оценивать успех по популярности, ясно, что Beatles немного впереди. Хоть они и распались еще до 1970 года, они выпустили больше хитов, вошедших в топ-10, больше хитов № 1, больше альбомов, вошедших в топ-10, и больше альбомов № 1, чем любая другая группа, включая Rolling Stones. Но ничто не вечно — и даже Beatles. Они писали хиты, но знали, что когда-то кто-то потеснит их с верхушки чартов.
К концу того десятилетия пригороды Лондона расцвели талантами. Пришло новое поколение, выросшее при обязательном мед обслуживании, бесплатной стоматологии, хорошей канализации, более высоких доходах на душу населения и прежде всего на приличном среднем образовании в школах и музыкальных колледжах. В спальнях и гаражах по всему городу прыщавые подростки преображались и превращались в крикливо-яркие создания в шелковых банданах, кожаных жилетах и грязных тулупах.
Что касается остальных членов группы: Билл Уаймен был из Льюишема, Ронни Вуд — из Хиллингдона, из семьи потомственных проводчиков барж по тамошним каналам, Чарли Уоттс — из Айлингтона, а Брайан Джонс, не надо забывать, начинал свою карьеру помощником продавца в магазине Whiteleys в квартале Квинсуэй.
Джимми Пейдж из Led Zeppelin был из Уэллингтона, что под Кройдоном. Почти все музыканты группы The Who получили образование в классической гимназии графства Эктон. Рэй Дэвис и группа Kinks были из Хорнси. Dave Clark Five — из Тоттенхэма, a Small Faces — из Истхэма.
Они играли в клубах лондонских предместий, большей частью на юго-западе Лондона. Таких как клуб Crawdaddy в Ричмонде, а также клуб Station Hotel и Richmond Athletics; и, конечно, клуб Eel Pie Island, и Ealing, и множество других. Площадь Лондона — 157 212 гектаров, это едва ли не самый разбросанный город в Европе: гигантская сеть деревень и поселков с хорошим транспортным сообщением. Огромное количество и разнообразие доступных талантов просто не могли не привести к буму рок/поп-музыки.
Конечно, пионерами рок-н-ролла были американцы: Чак Берри, Мадди Уотерс, Элвис. Но чтобы понять уникальный вклад Лондона, нужно помнить: немного найдется в Америке городов таких больших, как Лондон. В Америке множество центров музыкальной революции: Новый Орлеан, Мемфис, Детройт, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Нью-Йорк и другие. И при этом нет ни одного крупного города, где сконцентрировалось бы так много талантов.
Если вспомнить метафору с ядерным реактором, в ядерной укладке Лондона было больше урановых стержней, чем в любом отдельном городе Америки. И когда все это рвануло, вспышка, естественно, получилась такая, что осветила весь мир — это и были Beatles и Stones. И еще причина, почему Лондон стал ключевым центром. Белая молодежь Лондона спокойно играла черную музыку — двенадцатитактный блюз, — а белые американцы, наверное, стеснялись это делать.
Достаточно посмотреть, как Чак Берри поет «Johnny В. Goode», — и сразу ясно, откуда это взялось. Десятилетиями черные исполнители джаза и блюза обвиняли белых американцев в том, что они практически крадут их идеи и на этом зарабатывают, а поскольку обвинения были небезосновательны, то белые американцы стали неохотно использовать образцы блюза в стиле черных исполнителей.
При этом белые лондонцы из среднего класса — Ричардс и Джаггер — такими комплексами не страдали. Они не видели ничего ни смешного, ни плохого в том, чтобы петь, как они проснулись однажды утром и обнаружили, что любимая ушла совсем-совсем и навсегда и т. п. Они просто играли музыку, какую хотели. Поэтому то, что случилось в Лондоне с рок-н-роллом, — это прекрасный пример успеха импортно-экспортных операций, принесших этому городу славу и процветание.
Музыканты — такие как Мик Джаггер и Кит Ричардс — искали пластинки Мадди Уотерса и Чака Берри. Они сидели и слушали их в своих общагах и туалетах музыкальных колледжей. Они подражали им с религиозным фанатизмом и из кожи лезли вон, чтобы сыграть и спеть (по возможности) как черный исполнитель. Через какое-то время, примерно в 1964 году, появилось деление музыки на психоделику и поп, а потом, с песни «Jumping Jack Flash», появился и чистый рок. Но, когда Rolling Stones поехали в Америку и стали играть свои песни, выросшие из блюза, они практически знакомили американскую публику с музыкальным жанром, который зародился в Америке.
Это была победа Лондона, и, покуда церемония награждения подходила к концу, я решил, что об этом и спрошу Кита Ричардса. Было уже около одиннадцати вечера, и публика в смокингах начала уставать. На сцене уже отдали должное стольким звездам первой величины, что, казалось, все уже пресытились звездностью. И тут наконец объявили Кифа, он стал медленно, раскачиваясь, подниматься на сцену — с закатанными рукавами пиджака, обнажавшими его жилистые руки, с повязкой на голове, как у какого-нибудь Джона Макинроя старых времен, — мы все невольно вскочили на ноги.
Речь его была короткой, шутливой, скромной, и, как только он вернулся на место, я понял, что час пробил. Я быстро закончил свое выступление на сцене, представив Себа Коэ, а затем, довольно бесцеремонно, уговорил агента Кита, Барбару Чароне (милая женщина, с которой я встречался и раньше), усадить меня рядом с ним. «Хоть пять минут, Барбара, ну хоть три», — умолял я.
Кит наконец вернулся после фотографирования, и за честь сидеть рядом с ним разгорелась серьезная борьба. Позже мне сказали, что люди Кита не подпустили Стивена Фрая, перепутав его с премьер-министром Дэвидом Кэмероном.
Я ждал и надеялся много лет — и вот я сижу в сантиметрах от полубога с подведенными глазами и замечаю, что хоть лицо у него морщинистое, как у Одена, но зубы — по-американски белые. Для начала я вежливо сказал, что мне очень понравилась «Жизнь», спросил о его бабушке и дедушке и о том, каково это было — расти в послевоенном Дартфорде, где с ним произошел известный случай, когда взрывом «Фау-1» на его кроватку зашвырнуло кирпич.
Но толпа вокруг нас шумела и суетилась все сильнее, и я понял, что должен выдать свой вопрос.
«Э… Кит», — начал я.
«Да, мистер мэр?» — сказал он в своей учтивой манере.
«У меня есть такая теория, что… э-э…» Пока я мямлил, на нас, как гарпии, налетели всевозможные просители, умоляя его расписаться на салфетке, 20-фунтовой купюре, на левой груди и т. п.
На минуту-другую их оттеснили, и я на одном дыхании выдал историю, которую рассказал Джо Уолш, божественно одаренный гитарист группы Eagles.
«Джо Уолш говорил, что ни разу даже не слышал Мадди Уотерса, пока не пошел на концерт Stones, так?»
«Да, так», — кивнул Кит.
«Значит, — продолжал я, — можно утверждать, что Stones критически важны для истории рок-н-ролла, — теперь я почти кричал, — потому что они вернули блюз Америке».
«Пожалуй, соглашусь», — сказал Кит бесконечно дружелюбно.
И я с этим согласен, Кит. Из этого и надо исходить. Это было, наверное, не самое длинное интервью в истории рок-журналистики, но оно было намного полезнее, чем моя беседа с Шираком.
Мне не нужно было больше занимать его время, заставляя его сидеть в толпе фанов, воющих как мартовские коты, и вновь повторять жеваные-пережеванные истории из его книги. Он подтвердил мой главный тезис. Без Stones великая американская группа Eagles никогда бы не заинтересовалась Мадди Уотерсом. Без посредничества Кита Ричардса Джо Уолш никогда бы не стал играть свои эпические гитарные соло, такие как diddle-ee diddle-ee diddle-ee diddle-dee did did diddiddle-eediddle-eeDEE, в кульминации песни «Hotel California».
Как Лондон XIX века завозил сахар и апельсины и перепродавал их всему миру в виде мармелада, так же и Лондон XX века импортировал американский блюз и реэкспортировал его в виде рок/поп-музыки. Прекрасный обмен!
Пришло время Киту Ричардсу совершить свой королевский выход из здания Оперы, и я последовал за ним позади толпы его обожателей. Фотовспышки озаряли все вокруг, словно петарды в китайский Новый год, и, пока его свита забиралась в огромный лимузин, я думал о том, как многое изменилось в Лондоне со времени его первого появления на сцене.
Когда Киф был совсем молодой, главной чертой рок-н-ролла было то, что он подрывал устои — его не одобряли. Журнал Melody Maker писал, что рок-н-ролл — это «самая ужасная беда, которая могла случиться с популярной музыкой». Когда сто двадцать стиляг выгнали из кинотеатра в Восточном Лондоне и они начали танцевать на клумбах и газонах, один из лучших дирижеров сэр Малкольм Сарджент пробурчал, что «эта музыка всего лишь примитивное буханье в там-тамы. Я считаю, что если рок-н-ролл способен подстрекать молодежь на бунт, то это безусловно плохо». Фильм «Рок сутки напролет» (Rock Around the Clock, 1956) был практически запрещен. Это было время, когда существовали жестокие законы против гомосексуалистов, существовала цензура пьес лорда Чемберлена, запрет на роман «Любовник леди Чаттерлей», а полиция нравов была настолько дубинноголовой, что в 1966 году ворвалась в магазин открыток в Музее Альберта и Виктории и арестовала тираж картинок с изображением Обри Бердслея.
Эта атмосфера осуждения породила контркультуру, в которой сладким считается само бунтарство как запретный плод. И Кит — с его наркотиками и женскими одежками — конечно же был частью этой контркультуры, такой яркой и живой — пока она была жива.
Контркультура 1960-х пережила полицейские рейды, обывательские истерики и драконовские меры городских властей. Она цвела и пахла, пока ее пытались подавить. Ну и понятно — единственное, чего она не могла пережить, это одобрение истеблишмента.
Я бы сказал, что загнивание началось 1 июля 1967 года, когда газета The Times опубликовала передовицу о печально известном аресте Rolling Stones за наркотики в особняке «Редлендс». Словно дряхлая старуха Викторианской эпохи распустила корсет и пошла дергаться в танце — The Times вдруг высказала мнение, что наказали их слишком сурово. «По воробьям из пушки?» — был довольно остроумный заголовок автора статьи Уильяма Рис-Moгга.
Это означало, что The Times — этот Громовержец! — становилась на сторону этих женоподобных нюхающих наркотики бездельников, а для контркультуры 1960-х это стало началом конца. Шли годы, принимались все более либеральные законы — в защиту прав геев, гендерного равенства и свободы самовыражения, — так что и сама идея контркультуры во многом себя изжила.
Ценности контркультуры стали общепринятыми, истеблишмент пригрел их на своей надушенной груди и гладил по головке на церемониях награждения. Я недавно высказал эту мысль на радио, и на меня сразу набросились в интернете какие-то люди, которые ужасно возмущались и заявляли, что они занимаются «садо-мазо» и некрофилией и другими вещами — а значит, они славные продолжатели контркультуры, потому что их ценности все еще отвергаются традиционным обществом. «Ну и в добрый час», — говорю я им и подозреваю, что они так и останутся воинственным меньшинством и будут этим вполне довольны.
Есть еще, конечно, группа молодых людей (в основном мужчин), которые внушают опасение остальной части общества. Они напрочь отвергают те самые ценности — сексуальную терпимость и свободу, например, — которые так дороги бунтовщикам 1960-х. Возможно, кто-то скажет, что эта новая контркультура — не что иное, как крайне нетерпимая фундаменталистская версия ислама.
Но та прежняя контркультура была принята обществом, выросла в нем и стала неотделимой от него, что только пошло на пользу Лондону и его экономике. Там, где когда-то одна Мэри Куант щелкала ножницами в крошечной комнатушке, теперь существует лондонская индустрия моды с объемами продаж 21 миллиард фунтов, в которой заняты 80000 человек. Вместо растленных типов вроде Уильяма Берроуса и Фрэнсиса Бэкона мы имеем «молодых британских художников», которые заламывают (и получают!) фантастические суммы за украшенные бриллиантами черепа, мы имеем блестящую Трейси Эмин, которая абсолютно не стесняется заявить миру, что она — консерватор.
Еще шумит клуб The Colony Room, но теперь он соседствует с клубом Groucho и десятками других заведений с шикарными сортирами — в этих заведениях сидят люди творческих профессий: рекламщики, медийщики, пиарщики, телевизионщики, киношники и тому подобные. Есть масса причин, почему Лондон стал одним из важнейших мировых центров для этих «творческих, культурных и медийных» профессий.
Среди причин можно упомянуть английский язык, близость динамичного финансового сектора и связанных с ним юридических и бухгалтерских служб с их бездонными потребностями в творческих работниках разных направлений. Можно упомянуть тесные связи Лондона с ЕС и США. А еще надо упомянуть один конкретный вид искусства — тот, который, как ни один другой, будит эмоции, создает атмосферу, порождает настроение — через чувство сопричастности. Один вид искусства, как никакой другой, способствует тому, что город считают «модным». Этот вид искусства — музыка, а если ваш город любят за музыку, то и представители всех прочих сфер культуры тоже всегда будут рваться сюда.
В Лондоне больше заведений с «живой» музыкой, чем в любом другом городе мира, — около четырехсот, — и каждый вечер в Лондоне происходит больше интересного, чем где-либо еще. В 1960-е Лондон стал рок-н-ролльной столицей мира, и Кит Ричардс — как движущая сила группы Rolling Stones — сделал огромный вклад в это. Так заслужил он рыцарский титул? Конечно, заслужил — но это как минимум.
Мидленд-Гранд-отель
Я знаю, что моя сотрапезница неизбежно опоздает — значит, у меня в запасе куча времени, чтобы изучить ресторан и его персонал. Что за шикарное место этот ресторан! Целых три блондинки принимают у меня из рук велосипедный шлем и рюкзак и провожают меня за довольно тихий столик, где я падаю на стул и осматриваюсь по сторонам.
Стены богатого горчично-желтого цвета, насыщенного изысканного оттенка, который удачно оттеняет золото буковых листьев в завитках капителей, венчающих стройные мраморные колонны. Потолок — буйство витых и спиральных узоров, как на каком-то безумном свадебном торте, да и все помещение плывет перед глазами, будто я смотрю на него уже пьяными глазами.
Моей приятельницы по-прежнему нет, но настроение мое улучшается: компания подвыпивших айтишников, обмывающих какой-то контракт, присылает мне в подарок бокал вина. А когда она наконец появляется, я уже так разогрелся, что готов съесть все что угодно из здешнего меню. Я не ресторанный критик, но скажу — как скоро выяснится, здесь шикарный харч.
Нам почему-то приносят небольшой керамический супник с чем-то желтым. Это суп? Или мусс? Трудно сказать, то ли это что-то из томатов, то ли ванильное мороженое, то ли смесь того и другого. Но примерно час спустя мы уже направляемся к выходу в довольно приподнятом настроении, а там нас подстерегает человек по имени Тамир. Он хочет устроить нам экскурсию по отелю. Он все время повторяет, что этот отель — просто фантастическое место и что скоро мы сможем сами в этом убедиться.
Мы поднимаемся по двойной лестнице, витой, как структура ДНК, проходим мимо символических викторианских картин, где изображены сидящие женщины в классических туниках с названиями вроде «Трудолюбие» и «Терпение». Стены выкрашены в благородный красный цвет с набивным рисунком в виде золотых королевских лилий ручной работы. Теплый дуб перил отсвечивает лаком. Толстый ковер с густым ворсом прижат к ступеням блестящими медными прутами. Тамир хочет показать нам люксовый номер, он связывается по радио с портье, чтобы узнать, свободен ли он, а мы тем временем даем волю фантазии — какую роскошь мы там увидим. Шкаф для одежды в виде комнаты? Джакузи? Увы, те, кто снял этот номер, в данную минуту используют его на всю катушку — и разве кто-то их осудит?
Поэтому мы идем дальше через помещение, которое называется «дамская курительная комната» — это название она, оказывается, получила в 1902 году в знак признания заслуг суфражисток. Своими великолепными внутренними арками она отдаленно напоминает Большую мечеть в Кордове, а потом мы оказываемся на балконе и вдыхаем аромат Юстон-роуд. Я смотрю на поток машин, с удовлетворением отмечаю, что он движется без задержек, потом смотрю на само здание, вверх, на зубчатые башни отеля, на чердачные окошки на крутой черепичной крыше, похожие на пушечные порты военного корабля, на конические крыши башен, похожие на колпак звездочета. Того и гляди, вылетит фея Динь-Динь или даже появится Дамблдор. Все это выглядит так, будто спроектировать привокзальный отель пригласили баварского короля Людвига, а он разрывался между венецианским Дворцом дожей и Большим дворцом в Брюсселе. Получилась фантазия на тему викторианской готики из ветчинно-розового кирпича, и история этого отеля — это история Лондона за последние 140 лет.
Мы здесь не затем, чтобы просто поесть. Мы — исследователи, изучающие славную историю здания, которое помнит подъем, упадок и новый всплеск веры города в себя. Когда в 2011 году Мидленд-Гранд-отель был вновь открыт под именем Millennium Hotel с люксовыми апартаментами на верхних этажах, все признали, что это шедевр реставрации, который наконец отдал должное идеям его создателя, Джорджа Гилберта Скотта. Это вообще чудо, что здание сохранилось. В течение всей моей жизни, да и большей части XX века, оно было закрыто, покинуто, осмеяно и заброшено, а в 1966 году его собрались снести.
Когда Мидленд-Гранд-отель только открылся в 1873 году, он задумывался как последнее слово искусства — вершина всего, что сделано в этой области, самый шикарный из лондонских привокзальных отелей. В люксовых номерах стояли рояли, на полу — аксминстерские ковры. Специальные лифты с ручным приводом доставляли в номера верхнюю одежду и багаж. Имелся винный погреб, оснащенный даже разливочным цехом, и прачечная — стиралось, сушилось и гладилось 3000 комплектов постельного белья каждый день, а грязные простыни спускали вниз по специальному трубопроводу. После его открытия журнал Builder сообщал, что «все здание украшено самым изысканным и роскошным образом — явно без оглядки на затраты».
Сын священника из Бакингемшира, Джордж Гилберт Скотт (1811–1878) был звездой архитектуры — как Ричард Роджерс или Норман Фостер в свое время — и ярым приверженцем готической идеи. Это был не просто отель. Каждая декоративная панель, каждый шпиль и завиток, всякий бесполезный элемент декоративной избыточности слал сигнал, который гласил: «Вот мы какие. Вот мы какие, лондонцы Викторианской эпохи. Так мы строим наши привокзальные отели — а представьте себе, как мы строим наши парламенты и дворцы!»
Эта формула, казалось, работала пару десятилетий. Мидленд-Гранд-отель стал излюбленным пристанищем в Лондоне для производителей столовой посуды из Шеффилда, торговцев шерстью из Вест-Райдинга и кораблестроителей Клайдсайда, которых ублажали все лучше и лучше. В 1880-х появилось электрическое освещение. Когда постояльцы пожаловались на шум гужевого транспорта, отель оплатил переделку дороги, и ее вымостили деревянными блоками на подложке из резины. В 1899 году были установлены одни из первых в городе вращающиеся двери, и хотя номера с ванной можно было пересчитать по пальцам (такие хватило ума оборудовать в отеле Savoy), место это процветало вплоть до Первой мировой войны.
Тогда, 17 февраля 1918 года, билетные кассы со сводчатым куполом — как в соборе — взорвало бомбой с немецкого самолета. Взрывом убило двадцать человек и многих ранило. Но настоящий гром апокалипсиса прогремел в 1921 году. Пришли более суровые времена. Управление железными дорогами перешло к государству, настал период рационализации. Было решено, что направления, которые обслуживала станция «Сент-Панкрас» — на Глазго, Манчестер, Шеффилд, Лидс и Ноттингем, — может с тем же успехом обслуживать станция «Юстон». Мидленд-Гранд-отелю стало не хватать клиентуры. Его великолепие постепенно угасало. К 1930 году этот район стал небезопасен — у члена австралийской команды по крикету украли багаж. Художник Пол Нэш в своих воспоминаниях написал, как в начале 1930-х ему здесь испоганили вечер: когда он сидел в тишине, радио было сломано, и ему принесли кофе — «такой гадости я в жизни не пробовал».
В 1934 году председатель правления LMS (железной дороги Лондона, Мидленда и Шотландии) сэр Джошуа Стэмп уже вслух рассуждал о том, чтобы снести этот шедевр. Это был остов корабля — досадное напоминание о викторианских претензиях, — который не вписывался в рынок. «Будет ли верхом вандализма снести его?» — спрашивал он с надеждой на одном из приемов. В 1935 году отель закрыли, и формально здание стало офисом железнодорожной компании. Но на практике содержание здания обходилось так дорого, что половину помещений заперли и бросили.
Через забитые досками двери иногда влезали дети, они поднимались по лестницам, по покрытым сажей коврам, и видели изображения напыщенных викторианских женщин, все также глядящих на Лондон, который не оправдал их надежд в плане трудолюбия и терпения. Историк архитектуры Марк Жируар вспоминал, как он попал в здание в 1950 году и обнаружил грязные пустые комнаты и лестницу, которая привела его на крышу западной башни, откуда открывался замечательный вид на Лондон. К 1960-м годам электрифицировали главную ветку железной дороги по западному побережью — и большую часть поездов перенаправили на станцию «Юстон». Станция «Сент-Панкрас» совсем утратила значение, и в 1966 году компания British Rail («Британские железные дороги») направила злополучный запрос правительству с просьбой «одобрить необходимые меры» и разрешить снос творения Джорджа Гилберта Скотта.
Заброшенный, обветшалый и униженный, отель был олицетворением культуры и общества, которые окончательно рухнули со своего викторианского пьедестала. Он стал символом города, который утратил глобальный статус, обеднел и потерял веру в себя. Впервые за более чем двести лет Лондон испытывал значительный и неожиданный отток населения. Начиная с 1940-х годов отцы города утверждали, что на Лондон приходится слишком большая доля экономики страны и что его потенциал следует как-то перераспределить по другим регионам. Эти планировщики за что боролись, на то и напоролись — и это им как-то не понравилось.
Та злосчастная кампания началась с работы комиссии Барлоу военного времени, которая решила, что в производстве и торговле Лондон слишком перетянул на себя одеяло. В 1941 году совет графства Лондон (т. е. сельский район вокруг города Лондона) поручил сэру Патрику Аберкромби подготовить его знаменитый план, который он представил к 1944 году. В этом плане было много хорошего. Аберкромби признавал, как важны старые городки и поселки лондонского района и как важно улучшать транспортные сети. Но главная идея плана Аберкромби — переселить 600 000 жителей из Лондона в «новые города», или «города-сады», и хотя намерения были, безусловно, благими, но вымощенная ими дорога предполагала насильственное переселение, которое часто сопровождалось разрушением родственных и дружеских связей и возведением в пригородах непопулярных высоток.
Остатки этой идеологии — подхода Барлоу — Аберкромби — видны даже в первом докладе Совета по развитию Юго-Востока 1967 года, где повторяются те же требования, которые сегодня кажутся безумной атакой на город, бывший когда-то двигателем экономики огромной империи и мастерской мира. Следовало предпринимать «серьезные и постоянные шаги по выводу предприятий обрабатывающей промышленности… постоянный контроль за офисной застройкой и всемерное поощрение перенесения офисных центров за пределы Лондона… вывод производств за пределы Лондона в интересах страны».
Сегодня в это трудно поверить, учитывая тогдашнее положение с занятостью в Лондоне. Создатели плана призывали изъять и перераспределить богатства Лондона по другим территориям — размазать, как джем по слишком большому ломтю хлеба, — при этом они фатально не смогли предвидеть упадок доков и спад традиционных производств.
В год, когда я родился, в 1964-м, доки явно процветали. Вест-Индские доки были центром торговли сахаром, фруктами и ценной древесиной, а примерно в пятидесяти километрах вниз по течению от Лондонского моста располагались нефтеперерабатывающие предприятия, электростанции, продуктовые хранилища-холодильники и огромные промышленные предприятия, такие как Ford в Дагенхэме. В то время лондонские доки ежедневно обслуживало 11 000 фургонов и грузовиков, на погрузке-разгрузке всего на свете трудилось 6300 барж. Но, при всем этом внешнем благополучии, не все было гладко в делах лондонского порта.
В доках давно бурлила профсоюзная работа: я никогда не забуду, с какой горечью великий человек — покойный Билл Дидс — рассказывал мне, как докеры отказались грузить его десантные корабли перед высадкой союзников в Нормандии — потому что у них, видите ли, «не было допуска» к этой работе — и как его бойцам пришлось делать эту работу самим, что привело к фатальным последствиям. Введенные в 1947 году «Правила организации труда в лондонских доках» устанавливали жесткие требования, которых не было у доков-конкурентов. Нужна была гибкость — ведь доки в конце концов убило не сокращение мировой торговли, а ее расширение.
В 1960-х зарождалась «контейнеризация»: товары стали прибывать в Лондон в металлических контейнерах размером 2,702,7013,40 м. Кораблям, привозившим эти товары, требовались причалы по 10 гектаров каждый. Им не нужна была армия докеров, носильщиков, стивидоров и складских рабочих со сложнейшей системой допусков — кому что позволено, кому что не позволено. Нужны были люди, способные управлять мощной погрузочной техникой. Старые лондонские доки сразу же стали невостребованными. Док Лондон и док Св. Екатерины продали застройщикам, и даже большие морские каналы поздней Викторианской эпохи к 1981 году перестали эксплуатироваться. Профессор Джереми Блэк в заключении к послевоенной истории Лондона сказал об этом так: «Относительный упадок Лондона в последние годы частично совпадает с упадком лондонских доков».
Подчиняясь экономической необходимости и воле стратегов, люди уезжали в Эссекс, Сент-Олбанс и другие периферийные города. Начиная с середины 1960-х население Лондона уменьшается довольно резко. В 1939 году оно составляло 8,7 млн, в 1951-м — 8,19 млн, в 1961-м — 7,99 млн, в 1971-м — 7,45 млн, в 1981-м — 6,80 млн, в 1991-м — 6,89 млн, а в 1993-м — 6,93 млн человек. Сегодня лондонцев около 7,6 миллиона, и мы не скоро вернемся на предвоенный уровень. Нет ничего удивительного, что разрушение традиционных производств и слом устоявшихся общин вызвали рост преступности, которая утроилась в период с 1955 по 1967 год и продолжала расти в 1970-х.
Радикальные планы решения транспортной проблемы, например внутренняя кольцевая дорога, были отложены из-за протестов жителей. Поэтому неудивительно, что с ростом преступности, при устаревшей транспортной системе, при нежелании властей создавать новые офисные площади, с упадком доков бизнес и промышленность начали бежать из Лондона. Проявилась не только «британская болезнь». Проявился и «лондонский фактор» — те самые, часто упоминаемые ограничения для инвестиций и роста. Я помню себя ребенком в Лондоне 1970-х, может быть, помните себя таким и вы. Я помню чудесные вещи: мороженое с шоколадкой в вафельном стаканчике или газировку за два пенни, бесконечные игры с другими детьми в парке и у канала (и если мы дрались, то на кулаках, а не на ножах) и как мы ставили доску на молочный ящик, чтобы прыгать с трамплина, как Ивел Нивел, на своих велосипедах Chopper, стараясь не наехать при этом на выцветшие собачьи какашки.
Я также помню хроническое ощущение экономического кризиса, мигающий свет ламп и бессмысленные войны между правительством и профсоюзами. Я помню, как однажды вечером мы проезжали мимо вокзала Кингс-Кросс и я, увидев с заднего сиденья нашего «Рено-4» вокзал Сент-Панкрас и мрачную дракуловскую громаду бывшего Мидленд-Гранд-отеля, спросил, что это такое.
А, это викторианское, ответили мне язвительно. В те дни «викторианское» означало старое, затхлое, нелепое. Если бы я тогда попал вовнутрь, я бы нашел это здание в еще более плачевном состоянии, чем Марк Жируар за двадцать лет до того. Ковры исчезли. Краска облупилась, доски пола поднялись, а двери сорваны с петель. В немногих комнатах, которые занимала компания British Rail, люстры заменили флуоресцентными трубками, свисающими с потолка, а стены перекрасили в казенный зеленый цвет, который так любят в начальных школах и психбольницах.
Никто не собирался избавить British Rail от этой обузы, и хотя Джон Бетжемен и другие дрались как львы, чтобы спасти здание от уничтожения, и даже добились, чтобы его включили в список исторических памятников первой степени, толку от него не было никакого, и уж конечно как отель оно никого не интересовало. Годами экс-Мидленд-Гранд стоял там, на углу, как memento mori — как напоминание о том, что у великих городов бывают не только взлеты, но и периоды упадка.
Поезжайте в Детройт, который потерял 58 % своего населения с 1950 по 2008 год, и вы обнаружите множество заброшенных бальных залов в полуразрушенных остатках некогда великолепных отелей. Поезжайте в Багдад, и вы с трудом поверите, что когда-то это был самый великий и многолюдный город на Земле. Как сказал Овидий: «Seges est ubi Troia fuit (Где была Троя, там теперь поле)».
Мидленд-Гранд-отель, как чемодан без ручки, передавали от одной госконторы к другой, но затем, в 1980-х, что-то случилось. Падение Лондона остановилось и стало сменяться ростом. Медленно поползло вверх население. Безлюдные портовые свалки превратились в желанные прибрежные участки. Кто-то или что-то вызвало этот поворот в жизни Лондона, и я понимаю, что анализ этого феномена вызовет кучу споров.
Если хотите, чтобы вас освистали на программе ВВС «Вопросы и ответы», самый простой способ — упомянуть Маргарет Тэтчер, или дух предпринимательства 1980-х годов, или взрывной рост финансовых услуг. Ее критики конечно же скажут, что нет ничего уникального в том, что случилось с Лондоном в ее смену. Очень похожее возрождение пережил Нью-Йорк: от портового города до центра банковских и других услуг. Сторонники Тэтчер могут похвастаться, что Лондон преуспел больше, чем Нью-Йорк, а британское правительство действовало решительнее, создавая условия для самого затяжного периода роста и динамизма за всю историю Лондона.
Правительство устранило ограничения на высотные офисные здания, отменив запрет, введенный лейбористским правительством Джорджа Брауна. Оно сделало все для «Большой встряски» — реформы рынка ценных бумаг 1986 года, и в Лондоне появился новый вид мощного финансового конгломерата. Правительство дало волю животным инстинктам лондонских яппи, со всей их отталкивающей вульгарностью, жадностью и подтяжками как у плюшевых медвежат. К 1996 году Лондон вновь появился на карте вместе с Нью-Йорком и Токио как одна из ведущих мировых финансовых столиц. Половина всей торговли французскими и итальянскими акциями проходила в Лондоне, как и 90 % всей трансграничной торговли европейскими акциями. В Лондоне совершалась половина мировых сделок по фрахту судов и половина сделок по слиянию и поглощению. Рост Сити и соответствующих услуг, таких как юридические, бухгалтерские и страховые, вызвал давление на рынке офисных площадей, и с ростом цен люди начали искать выгодные площадки на заброшенных территориях.
Наконец в 1989 году один добросовестный застройщик выкупил Мидленд-Гранд и разработал план по переделке его снова в отель. К сожалению, и на этот раз что-то не сработало. Требовалось еще одно условие — и за него, хотя бы частично, стоит, по-моему, отдать должное правительству Тэтчер. Я имею в виду транспортную инфраструктуру, благодаря которой в припортовом районе Кэнэри-Уорф на месте доков возник новый финансовый район — это Доклендское легкое метро (DLR) с веткой до Юбилейной линии. Именно Тэтчер согласилась с Франсуа Миттераном, что необходима постоянная связь между Британией и Францией под Ла-Маншем, и в 1996 году правительство Мейджора приняло смелое решение — построить скоростную линию из Европы через Стратфорд до вокзала Сент-Панкрас.
Эта новая железная дорога и полная перестройка станции изменили экономику отеля. Катастрофа 1921 года, когда поезда перенаправили на станцию «Юстон», была преодолена. Теперь Сент-Панкрас — это вокзал международной любви, на котором даже стоит чудесная большая бронзовая статуя обнимающейся пары. Это ворота на Париж, и благодаря поезду Eurostar Лондон стал пятым или шестым по размеру французским городом в мире, где проживает столько французских избирателей, что дальновидные кандидаты в президенты Франции приезжают в Лондон проводить предвыборную агитацию.
Сегодня, оглядываясь назад, ясно видишь, что середина XX века — это потерянные десятилетия не только для Мидленд-Гранд-отеля, но и для инвестиций в транспорт Лондона. Метро приходило в упадок. После массового строительства мостов в викторианское время единственной новой переправой стал мост в Чизике, построенный в 1933 году, а к востоку от Тауэрского моста до самого Дартфорда вообще ничего не строили. Сейчас, когда население Лондона растет довольно быстро (по сравнению с другими районами страны, конечно), мы не можем повторить ту же ошибку. Проектировщики департамента транспорта думают о второй линии железной дороги, Кроссрейл, коорая пойдет от Хакни до Челси, чтобы частично снять нагрузку со станции «Юстон» от планируемой скоростной ветки на Бирмингем.
Есть планы продлить линии Нортерн и Бейкерлоо на юге Лондона, ввести новую переправу через реку в Восточном Лондоне и расширить использование легкого метро DLR и трамваев Croydon Tramlink, и все это — вдобавок к неовикторианской по размаху программе прокладки высокоскоростной Кроссрейл с востока на запад, модернизации метро и строительства гигантского канализационного суперканала под рекой, что завершит наконец работу Джозефа Базалджетта. Что касается метро, его развитие не столько экономическая необходимость, сколько гуманитарная. Новые системы управления позволяют поездам двигаться быстрее, и большее количество кинетической энергии превращается в тепло — если мы не увеличим протяженность метрополитена для удовлетворения растущего спроса, то нашим пассажирам придется ездить в таких условиях, которые Брюссель сочтет недопустимыми для перевозки даже животных.
Еще один важнейший урок надо извлечь из неожиданного и шокирующего упадка доков. Из нижеследующего будет понятно, что проблема лондонских доков была не в падении спроса. Мировая торговля, в общем, продолжала расти, в течение всех 1970-х. Лондон мог удержать свое положение морского порта, такого же транзитного порта, как Феликстоу и Роттердам. Вопрос был только в инфраструктуре. Доки были слишком малы для контейнеризации, и, когда Лондон проиграл, эффект домино поразил производство, инвестиции, занятость и вообще уверенность в завтрашнем дне.
Прошло уже лет сто с тех пор, когда Черчилль приводил в ужас свою жену, поднимаясь в воздух на самолете, который тогда считался безумно опасным способом передвижения. Сейчас авиация жизненно важна не только для деловых поездок, но и для перевозки товаров. Более трети мировой торговли теперь совершается воздухом, в том числе 71 % только экспорта британских фармацевтических препаратов, и эта пропорция растет. Китайцы постоянно открывают или расширяют аэропорты в городах, о которых многие британцы вряд ли слышали, а британский бизнес довольно ограничен в возможностях добраться до этих новых рынков. Каждую неделю 17500 человек могут самолетами направиться в континентальный Китай из Франкфурта, 15 000 человек из Парижа, 11 000 из Амстердама и только 9000 из Хитроу. По прогнозам, и Китай, и Индия обгонят Соединенные Штаты Америки по ВВП — а мы затрудняем британским бизнесменам сообщение с будущими мегагородами из Лондона по сравнению с аэропортами наших конкурентов на континенте. Если вы хотите полететь в Чэнду, Нанкин, Ханчжоу, Сямынь или Гуанчжоу, вы можете добраться туда прямым рейсом из континентального конкурента Лондона, но не сможете попасть туда из Хитроу.
Решение, безусловно, не в том, чтобы расширять Хитроу, где от чрезмерного шума уже страдают 250 000 человек и где последствия для автомобильного движения по дорогам М4 и М25 будут катастрофическими… Если бы даже какое-нибудь правительство решилось втиснуть четвертую взлетно-посадочную полосу в западные пригороды Лондона — чего делать нельзя, — Хитроу все равно был бы меньше аэропорта Амстердама (6 полос), Парижа (4) и Мадрида (4). Сейчас ширится поддержка проекта создания аэропорта-хаба, экологически безопасного варианта аэропорта, работающего 24 часа в сутки, с четырьмя взлетно-посадочными полосами в районе устья Темзы или где-то поблизости, где будут минимальны вредные воздействия на людей и птицы будут в безопасности.
Этот проект не только помог бы возродить участок пути по Темзе от моста Тауэр до острова Шеппи, который сильно пострадал от упадка британской морской торговли. Он закрепил бы ведущую роль Лондона как коммерческой столицы Европы на поколения вперед. Да, самолеты создают парниковые газы (как, кстати, и корабли). Но когда-нибудь самолеты будут гораздо чище, и было бы умно подготовиться к этому моменту заранее.
Лондон добился успехов в Средние века благодаря порту и мосту и тому, что вода оказывает меньшее сопротивление при перевозке тяжелых грузов, чем суша. А воздух оказывает еще меньшее сопротивление. Воздух — вот транспортная среда XXI века. Лондон много потерял из-за того, что его морской порт слишком мал для его нужд, — а значит, сегодня нужно думать масштабно — по-викториански — об аэропорте. Не только потому, что выгодно возить элиту бизнес-сообщества и китайских туристов, но и потому, что развитие массовых перевозок идет на пользу всему населению. Кроме всего прочего, сегодняшние транспортные проблемы тяжелее ложатся на плечи людей скромного достатка, а ведь, как бы привлекателен ни был Лондон, лондонцы тоже заслуживают поездки в отпуск.
Мы строим высокоскоростные пути во Францию не только для того, чтобы бизнесмены с континента могли наслаждаться роскошью первоклассных отелей неподалеку от Сент-Панкрас. Мы строим эти транспортные пути из-за экономической выгоды, которую они несут сотням тысяч людей в этом регионе и за его пределами.
Я подчеркиваю значение новых возможностей для авиатранспорта, потому что, размышляя в этой книге о жизни лондонцев, я пришел к пониманию огромной важности всех видов инфраструктуры. Если бы Авл Плавт не построил тот мост, нашего города просто не существовало бы. А нормандская башня Вильгельма Завоевателя заставила саксонцев понять простую истину — то, что они побеждены, — и установила мир и стабильность, которые позволили Лондону возвыситься в Средние века.
Железные дороги и метро Викторианской эпохи превратили Лондон в первый в мире центр массовых пригородных перевозок рабочей силы. А имперский масштаб канализационных каналов Базалджетта позволил огромному количеству лондонцев жить вместе, исключив передачу ужасных заболеваний от одних другим. В холодном климате сегодняшней экономики мне это кажется очень важным уроком на будущее, хотя и далеко не единственным.
Из этой книги следует, что в течение тысячелетий Лондон демонстрировал постоянные противоречия между денежными мешками и политиками. Иногда эти противоречия были плодотворными, иногда деструктивными, но важно то, что с самого начала своей истории Лондон объединил в себе два города как два начала — Сити и Вестминстер.
Честно говоря, нет ничего удивительного в том, что сегодня лондонцы переживают период разочарования в банкирах и других, кого они винят за экономический кризис. История Лондона учит, что в этом нет ничего нового. Она полна примеров недовольства успехом богатых торговцев, особенно иностранцев. Это и враждебное отношение к Ротшильдам, и убийство фламандских и итальянских банкиров в 1381 году. Можно даже сказать, что эта враждебность к богачам заметна в восстании Боудикки и в том, как она вырезала все население города иммигрантов. Лондон преуспел, потому что политики в общем-то понимали, что эти конфликты надо улаживать, надо наводить мосты над вечной пропастью между богатыми и бедными.
Иногда политики выступали на стороне народа, как олдермен Тонг, позволивший крестьянам перейти мост и захватить город. Иногда они были на стороне торговцев и против привилегий короля, как Джон Уилкс. Иногда богачи вели себя эгоистично и глупо, а иногда банкир ведет себя так мудро и дальновидно и совершает такие благотворительные поступки, что имя его становится нарицательным и память о нем остается в веках, как это случилось с Диком Уиттингтоном. Для любого, кого волнует будущее западных экономик, история этих лондонцев, как мне думается, содержит множество утешительных и обнадеживающих моментов.
Лондон — это город, который возродится после чего угодно: резни, пожара, чумы, бомбардировок, и понятно, что гений лондонцев может прорасти где угодно, как трава на месте бомбежки. Невозможно было представить себе, что сын парикмахера из Ковент-Гардена внесет революционные изменения в живопись и станет источником вдохновения для импрессионистов. Железнодорожная станция «Сидкап», может, и хороша во многих отношениях, но все-таки, когда вы окажетесь там, вам в голову не придет, что здесь могла родиться одна из величайших в мире групп рок-н-ролла.
Если и есть что-то одно, что изменило и зажгло жизни этих людей, то это общество других лондонцев. Это та самая идея о циклотроне, которую я приводил уже несколько раз: эти выдающиеся таланты расцвели потому, что их «грели» другие таланты, за счет обмена, вдохновения и конкуренции, свойственных большому городу. Шекспир был гений, но он, конечно, написал своего «Короля Лира», зная о пьесе «Король Леир» Томаса Кида, а «Венецианского купца» он написал, зная о пьесе «Мальтийский еврей» Марло.
Есть также нечто особенное в атмосфере этого города, в том, как Лондон выглядит и как он живет. Я снова хочу напомнить, каким бы вы увидели Лондон, если бы взобрались на крышу собора Св. Павла в 1700 году: вы бы увидели скопище деревушек. И тут я вспоминаю мудрые слова великого лидера Индии Махатмы Ганди: «Настоящую Индию можно увидеть не в ее нескольких больших городах, а в ее 700 000 деревень, — говорил он. — Развитие нации зависит не от городов, а от деревень». Какое романтическое и трогательное заявление! Но совершенно ложное, это вам подтвердит любой, кто в последнее время был в Индии. У городских жителей Индии лучше медицинское обслуживание, лучше образование, более высокий ВВП на душу населения, у них меньше углерода в легких, чем у деревенских жителей, — именно поэтому индусы массово стремятся в города. То же самое можно сказать и о Лондоне, в частности об относительной производительности труда, которая выше примерно на 30 %, чем в остальной стране. Но слова Ганди все-таки задевают какие-то струны у нас в душе, не так ли?
Мы грезим деревней — тем Эдемом, из которого нас изгнали, сообществом безгрешной невинности и красоты. Пройдя по Лондону, мы увидим, что он по-прежнему — скопище 150 деревушек и поселков, более или менее удачно связанных общественным транспортом.
Город — отличное место, чтобы сохранить инкогнито, чтобы искать наслаждений, зарабатывать деньги, но иногда можно найти аргументы в пользу возвращения деревни в город. Поэтому разные службы управления Лондоном прилагают огромные усилия, чтобы сблизить отдельные общины, развивать обмен опытом и множество других вещей с целью развить и усилить чувство родного города — от посадки тысяч деревьев на улицах до призывов передвигаться по улицам на больших синих велосипедах — на технике, которая, как мы видели, усовершенствовали (если, гм-м, не изобрели) в Лондоне.
Оглядываясь на Лондон XXI века, невозможно не испытать чувство гордости за предыдущие поколения. Вы, конечно, ожидаете от меня этих слов — в общем-то это действительно моя функция говорить так, — ноя искренне верю, что город со славным прошлым может иметь замечательное будущее.
Лондон находится в подходящем временном поясе: можно в течение дня спокойно пообщаться и с Шанхаем, и с Нью-Йорком, и у нас подходящий для этого язык. Несмотря на обвалы кредитно-финансовой системы, мы все-таки обладаем самым мощным в мире сектором финансовых услуг, и хотя многие испытывают к иностранным банкирам почти такие же чувства, как в 1381 году, всегда стоит помнить о тех денежных активах и рабочих местах, которые они приносят в Лондон. Голливудские фильмы монтируют и оснащают спецэффектами в лондонском районе Сохо. Приложения для айфонов всего мира создают в Шордиче. Мы экспортируем велосипеды из Чизика в Голландию. Мы экспортируем пирожные из боро Уолтем-Форест во Францию («Пусть едят пирожные, сделанные в Уолтемстоу», — говорю я вслед за Марией-Антуанеттой). Мы экспортируем все больше балетных тапочек из Хакни в Китай.
В нескольких сотнях метров от моего офиса завершают строительство здания The Shard («Осколок»), и, как бы вы ни относились к проекту Ренцо Пиано, это будет самое высокое офисное здание в Европе, при этом The Shard — ничто по сравнению со строительством в Олимпийском парке, в Восточном Лондоне, в районе доков, и по сравнению с потенциальной реконструкцией выставочного центра «Эрлс Корт», застройкой в Баттерси, Кройдоне и других местах.
В каком-то смысле наши проблемы решаются просто: надо привести в порядок образование, надо продолжать инвестировать в транспорт, надо строить больше доступного жилья, устранить проблемы с авиацией и занять людей работой по теплоизоляции десятков тысяч домов — и тогда Лондон продолжит вести Соединенное Королевство к экономическому возрождению и вызывать восхищение всего мира. Ушедшие поколения лондонцев создали этот город-сад, с его парками и платанами и сложнейшими инженерными решениями, которые позволяют миллионам людей жить в одном месте и при этом быстро и удобно передвигаться по городу. Некоторые из них были гениями, чьи идеи преобразили мир. Но большинство остались неизвестными.
Они оставили нам в наследство гораздо больше, чем конгломерат драгоценных зданий, взглядов и транспортных систем. Они создали то, что так ценили римляне — глобальный бренд. Они оставили нам город с такой репутацией, которая заставляет людей стремиться сюда, чтобы топать по Лондонскому мосту в поисках денег, пищи, славы, дружбы — всего того, что заставляет человеческие существа вертеться.
Да, в конечном итоге это лондонцы — череда лондонцев, растянувшаяся на 2000 лет, — создали этот всемирный бренд и магнетизм этого города. Или как сказал величайший поэт и драматург Лондона: «И что есть город, как не люди?»
Эпилог
Мо Фарах
Большую часть времени я не мог даже смотреть на это. Первые несколько минут финального забега на 5000 метров казалось, что мы движемся к конфузу национального масштаба.
Наш бегун был не просто где-то позади. Он был самым что ни на есть последним. Что же это за тактика такая? Потом темп начал расти, шум толпы усилился, стал напоминать неистовство римской толпы в Колизее и сотрясать алый навес стадиона.
Британский бегун начал выдвигаться вперед, обгоняя остальных одного за одним, и вся гонка пошла уже явно быстрее, проходя круг за 61, а не за 71 секунду, и худые ноги бегунов двигались так быстро, их руки дергались так резко, что они просто сливались перед глазами. Не слишком уверенно знатоки начали делать прогнозы на победу: эфиопы, кенийцы, американцы.
А я снова заволновался, потому что бежать оставалось пару кругов, а Мо, казалось, застрял на четвертой или пятой позиции, его тонкую фигуру затирали более крепкие атлеты, решительно действуя и шипами кроссовок, и локтями, — и в ту минуту казалось маловероятным, что он возьмет хоть какую-нибудь медаль. Но потом, когда они вышли на последний круг, он сделал то, о чем мы все молились.
Неделю назад он говорил, что после победы на дистанции 10000 метров страшно устал, и многие решили, что и психологически он истощен, и у него нет бодрости, которая необходима для финального рывка. И все-таки он нашел силы для невероятного спурта.
Следующие 45 секунд вся страна находилась в каком-то припадке. Банки пива остались на полу, все подались вперед. Пульс нации участился. Руки вскинулись к лицам. Кровь взрывала капилляры. Раздавались непроизвольные вскрики.
По всему Соединенному Королевству в тот солнечный августовский вечер толпы стояли и следили за событиями на больших экранах, детей усадили на плечи взрослых, чтобы они не пропустили историческое событие. На станции метро «Лондонский мост» сотни людей начали скандировать его имя, в Гайд-парке — десятки тысяч. А олимпийский стадион как будто превратился в ревущую турбину: казалось, что рев зрительской толпы физически вращает его.
Когда до финиша осталось несколько сот метров, на плечах этого тонкого парнишки из Фелтема было четыре или пять соперников, и каждый раз, когда кто-то из них пытался вырваться вперед, мы еще громче орали его имя. «Мо! Мо! Мо!» — орала толпа, это имя сливалось в мощный неразличимый гласный звук, который гнал его к линии финиша, он летел как ветер и сумел сдержать последний отчаянный рывок соперника — 22-летнего эфиопа Гебремескеля, хотя оба они, казалось, прибавили в конце. Когда он пересек финишную линию, от изумления и восторга он просто вытаращил глаза с ослепительно чистыми белками.
Он шлепнул себя по блестящему черепу в каком-то невероятном экстазе, опустился на колени и вскинул вверх руки, как будто его сразили выстрелом в спину, словно в каком-нибудь фильме про войну во Вьетнаме.
Британия обрела нового героя — дважды золотого медалиста в беге на длинные дистанции. На следующий день все газеты вышли с портретом Мо на первой полосе: он или танцует свой «мобот» — руки на голове в форме буквы «М», или позирует с Усэйном Болтом. Попросите большинство британцев назвать ярчайший момент Игр 2012 года, и они назовут победу Мо — «момент Мо».
Люди любят его и тепло говорят о его открытости, скромности и искренности.
Когда я пишу эти строки, его огромное фото сверкает улыбкой с лондонских билбордов — корпорации поздравляют себя с правильным выбором объекта спонсорства и продают с ним все, что им нужно продать. Сейчас тем более странно вспоминать, что во время подготовки британской команды к Играм именно ему нанесли особенно грубое и гадкое оскорбление.
Некоторые газеты обозвали его «фальшивым британцем». Он, видите ли, родился в Сомали — как будто это лишает его права бежать за британскую команду Одна газета в марте 2012 года даже напечатала заметку под заголовком «Фальшивые британцы оскорбляют наши Игры». Эта газета написала, что всего их 61 — «фальшивых британцев», включая Мо Фараха и всех других рожденных за пределами Великобритании.
Само понятие «фальшивый британец» какое-то странное. Разве то, что вы родились за границей, делает вас «фальшивым»? Тогда 40 % жителей Лондона фальшивые. А в таких графствах, как Вестминстер, Ньюэм и Брент, людей, рожденных за границей, почти 50 %. Так что обвинение это абсолютно идиотское, а в случае Мо Фараха — просто смешное. Да, он родился в Могадишо в 1983 году, и действительно, когда он приехал сюда в возрасте 8 лет, не знал ни слова по-английски и не умел ни читать, ни писать в общем-то ни на каком языке. Правда и то, что его счастливая физиономия с выпученными от восторга глазами вызвала крики радости не только в Британии, но и по всему Сомали.
Его мать, и братья, и еще куча родственников все еще живут там — они живут в такой глуши в Северном Сомали, что в день его победы им пришлось пройти пешком шесть с половиной километров по саванне в поисках ближайшего телевизора. Но, когда он принимает вас у себя в квартире в Теддингтоне, он говорит не на каком-то сомалийском диалекте, а на самом что ни на есть чистом лондонском английском языке.
Мы сидим с ним на диване, глядя сверху на Буши-парк — удобное место для его тренировок, — а его жена Тания готовит нам чай. Его приемная дочь Рианна крутится вокруг, снимая все происходящее на видео, а два крошечных младенца спят в плетеных колыбельках. Это близнецы Айша и Амани, которые родились сразу после его двойного золотого успеха, — они спят с обманчивым спокойствием младенцев. Мо только оторвался от игры в футбол на PlayStation — он завзятый болельщик «Арсенала».
На нем футболка и тренировочные штаны, его босые бледные ноги — как на картинах Эль Греко — ступают по ковру. Он рассказывает мне свои смутные воспоминания о детстве в Сомали, о гражданской войне между севером и югом.
«Это одна страна, одна религия, один язык, но беда в том, что люди не образованны. Как ты знаешь, в Африке почти везде для людей важно их племя. Вражда племен приводит к войне».
Он говорит, что может отличить людей с севера или юга Сомали по внешнему виду. Не по зубам — у многих сомалийцев, как и у него, характерные большие резцы, — а по цвету кожи. Он вспоминает, как бегал по улицам Могадишо, пока не началась война и город стал небезопасным для северян. Они уехали в Джибути, а потом его отец — специалист по информационным технологиям — перебрался в Лондон и поселился в западной его части.
В школе Мо было непросто — ведь он не знал английского. Когда он слышал, как мальчишки кричат: «А ну! Давай!» — он думал, что это такое приветствие, и не знал, что так обычно лезут в драку Как-то раз юный Мо, желая присоединиться к игре, крикнул группе мальчишек: «А ну! Давай!»
Его тут же поколотили.
Учитель физкультуры Алан Уоткинсон взял его под свое крыло. На футбольном поле Уоткинсон заметил у мальчика поразительную способность переключать скорость — ему удавались невероятные ускорения. «Он посоветовал пойти в секцию бега, а я придумывал любые отговорки, только бы отвертеться, потому что я хотел играть в футбол».
«А в футбол играть — хорошо получалось?»
«Вообще-то нет. Мне казалось, что получается, но, если серьезно, у меня не было техники. Я умел пасовать, но вести мяч и обводить не мог. Меня обычно ставили на правый край — там я и играл. Как-то я был на “Радио-5”, и мой бывший футбольный тренер, Терри, позвонил в прямой эфир, и я его спросил: “Я хорошо играл?”, а он говорит: “Ничего хорошего”, тогда я спрашиваю: “А зачем же ты ставил меня на игру?” — и он сказал: “Понимаешь, ты бегал от бровки до бровки и успевал вернуться назад”».
Мо благодарен Уоткинсону и помнит, как тот взял его, шестнадцатилетнего, на молодежную Олимпиаду во Флориде. «Мы посетили все аттракционы Диснейленда в Орландо. Я вернулся другим человеком. Эта поездка изменила меня — я захотел стать бегуном, а не футболистом. Мне захотелось заниматься чем-то не потому, что кому-то это нужно, а потому, что сам вижу в этом смысл, — за какое-то вознаграждение».
Мо постепенно освоился в школе, и его учеба наладилась, хотя, когда он попал в университет Св. Марии в Туикенеме, он все еще был диковат.
«В универе я был обычным студентом. Я был обычный парень, у нас была компания друзей, и мы, конечно, всякое вытворяли. Однажды ночью гуляли, и я решил прыгнуть с Кингстонского моста. Кто-то крикнул, что идет полиция, и мы побежали».
«Ты был совсем раздетый, — вставляет свои три копейки Рианна, она выглядит лет на десять, хотя, оказывается, ей семь, — и спрятался в кустах».
«Ну и что? — говорю я. — Они все равно его не догнали бы».
К 2005 году он уже бросил бузить и серьезно занимался бегом, и его уже начали замечать как атлета. А с 2007 года у него уже отличный послужной список — золотые медали европейских и мировых чемпионатов на дистанциях от 3000 до 10 000 метров.
Видно, что Тания, жена Мо, имеет на него большое влияние — добавляет уравновешенности. Они встретились в колледже в Фелтеме, когда им было четырнадцать или пятнадцать. Оба они были атлетами, только ее больше интересовал спринт. У них была юношеская влюбленность, потом они расстались, а в 2010 году поженились, и на свадьбу к ним съехались спортивные звезды.
Тания готовит ему (по ее словам — мясо с картофелем и другую простую английскую еду), а до рождения детей занималась и его пиаром. Она явно гордится его успехами. Мы говорим с ней о некой видеозаписи, где она накануне победного забега на 5000 метров высказывается в резких выражениях, за что одна газета назвала ее потом «жалкой» и «обузой» для нашего нового национального идола. Тания объясняет, что она не ругалась с Мо, все было не так: она просто высказала кое-что одному функционеру олимпийской команды. «Мо сказал, что хочет побыть с семьей, а этот парень уперся — нет, надо продолжать тренировки. Просто отрабатывал свои деньги. Я разозлилась и высказала ему пару слов. Я хочу, чтобы все знали».
«Договорились», — отвечаю я.
Друзья, я скажу просто: Мо Фарах такой же британец, как Бифитер у лондонского Тауэра. Он часть Британии — как пинта горького пива, как бульдог, как дождливый праздник, как плохой каламбур в сериале «Так держать!..» (Carry On) или как горячий корнуолльский пирог в холодный день на платформе станции «Рединг».
Да, он действительно сейчас живет не только в Теддингтоне, но и в тренировочном центре Найк в Портленде, штат Орегон, — однако лишь потому, что там имеется удивительное оборудование, которое позволяет тренироваться даже при травмах. Не его вина, что приходится жить там, — это упрек британской системе поддержки наших великих атлетов.
Где бы он ни был, он все тот же парнишка, которого колотили в Фелтеме и который прыгал с Кингстонского моста. Он везде помнит воду рек и нежаркое солнце страны, которая стала ему родиной.
Конечно, он не забывает свои сомалийские корни. Он свозил жену в Сомали познакомить с родственниками (очень непростая для нее поездка), а еще он руководит благотворительным фондом по борьбе с голодом в Африке. Для сомалийской общины Лондона он просто находка — современный и звездный образец для молодежи, которая одержима культом банд и ножей. Он вообще хороший пример для всей молодежи.
Я бывал с ним в школах Лондона и видел, с каким обожанием смотрят на него дети, которые мечтают быть похожими на него и добиться того же, что и он. Он живой пример того, чего они могут добиться в жизни, если сильно постараются, — даже если их оценки пока не впечатляют. Он дал им прекрасный образец успеха, достигнутого трудом и терпением.
Он также является рекламой иммиграции в целом и убийственным ответом всем, кто требует захлопнуть двери перед беженцами. Мо Фарах — британец, потому что его отец родился здесь, в Хаунслоу, и, когда в 1991 году гражданская война вынудила его бежать из Сомали, Британия стала для него естественным убежищем. Что думает о приезде в Британию Мо Фараха эта антииммигрантская организация «Миграционный Дозор»? Неужели они предпочли бы не впускать его и лишить Британию двух золотых медалей и спортивного события, сплотившего всю страну? Ждем их заявлений.
В какой-то мере Олимпийские игры, словно действующая модель, продемонстрировали роль Лондона как глобального города. Игры собрали талантливых людей со всего мира и дали им возможность бороться друг с другом, и в этой борьбе одни добились бессмертия, а другие остались в безвестности.
Триумф Мо Фараха стал победой Лондона, потому что показал, как быстро можно стать лондонцем и как быстро лондонцы принимают тебя в свое сердце. Наконец, его успех важен и для мусульман. Он верующий мусульманин, и когда тысячные толпы кричали: «Мо! Мо! Мо!» — они, конечно, выкрикивали сокращенное имя Мухаммеда.
Я вновь спрашиваю его о реве стадиона. Помогало ли это?
«Честно скажу — помогало. Когда тебя кто-то подбадривает, это придает сил, я слышал, что крик становился все громче и громче, и я уже ждал, что тот парень из Эфиопии сделает рывок. Он действительно хорошо бежал под конец, и, если бы я опоздал на пару секунд и пропустил рывок, я бы не выиграл забег».
Если хотите, назовите меня сентиментальным, но мне приятно думать, что этот иммигрант-мусульманин выиграл свой великий забег благодаря яростной поддержке жителей Лондона.
Его история трогает меня, наверное, потому, что я вспоминаю о своем прадедушке-мусульманине, который приехал в этот город в 1909 году, спасая свою жизнь. Вот удивился бы, если б узнал, что его правнук станет мэром города, куда он прибыл беженцем (хотя, может быть, лондонские избиратели удивились еще сильнее).
А какое будущее ждет маленьких Айшу и Амани Фарах? Как говорится, не имею ни малейшего представления, но их отец доказал, что никакие пределы им не поставлены, — что делает честь ему, и, как мне кажется, городу Лондону.
Благодарности
Эта книга не была бы написана, если бы не щедрая помощь Стивена Инвуда, который создал, вне всяких сомнений, самый читабельный, умный и интересный однотомник о Лондоне и его истории. Во время быстрого (отчасти марокканского) обеда и прогулки по Чипсайду он — как истинный наставник — дал мне массу прекрасных советов и пожелал удачи. Он также согласился пробежать черновик, хотя я хочу подчеркнуть, что любые ошибки в изложении фактов, в оценках, а также погрешности вкуса, стиля и тому подобное — исключительно моя вина. Огромное спасибо моему коллеге по Баллиол-колледжу и бенефициару стипендии Брекенбери.
Я перерыл слишком много книг, чтобы упомянуть их все или выразить признательность всем авторам, но будет правильно порекомендовать читателям те из них, которые показались мне особенно занимательными и интересными.
Всем, кто хочет больше узнать о Боудикке, следует познакомиться с работой Миранды Алдхаус-Грин.
Ричард Абель написал очень полезную и увлекательную книгу об Альфреде Великом.
Если вам захотелось узнать больше о Джоне Уилксе, вам надо немедленно достать его великолепную биографию, написанную Артуром Кэшем.
Джек Ломан из Музея Лондона позволил мне приходить в самые неурочные часы, чтобы просматривать книги в его библиотеке, и я очень благодарен ему и его сотрудникам за все их терпение.
Ученый-энциклопедист Дэвид Джеффкок в очередной раз помог мне различными подсказками и поправками. Эндрю Робертс был очень добр и вычитал главу о Черчилле. Вики Спратт провела отличное исследование по многим персонажам. Дэниел Мойлан указал на возможность связи между названиями Magnus Martyr и Magna Mater. Лара Джонсон предложила несколько интересных соображений о происхождении полиции, а Джина Миллер помогла с пинг-понгом.
Джонатан Уатт героически трудился все время написания книги, и я особенно признателен ему за глубокое знание структуры средневековых гильдий и финансовых аспектов строительства моста. Я вновь выражаю благодарность Наташе Фэйрвезер за то, что она согласилась быть моим агентом, и более всего хочу поблагодарить моего издателя Сьюзен Уатт, без энтузиазма и мягкой настойчивости которой этот проект никогда бы не осуществился.