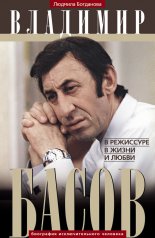Разлюбил – будешь наказан! Крицкая Ирина

Ну, я и подумала: Антон обалдеет, когда увидит меня, в обморок упадет, а потом водки выпьет. Зря я, что ли, помираю на беговой дорожке?
Каждый день! По десять километров! Бегу как танк, в офисе даже потолок трясется. Народ сидит за компами и головой качает: «Какая сила воли!» А если кто-то из клиентов интересуется: «Кто там у вас гремит?», муж мой шутит: «Это моя лягушонка в коробчонке едет».
– Ты про что сейчас подумала? А, красавица моя? А ну-ка, иди сюда. Ты не радуйся. Этот брутал только твое декольте увидит. А я со всем остальным мучаюсь!
Я иду к тигру. Целую в губы. Сажусь на стол. Обнимаю. Кажется, ко мне опять вернулось вдохновенье. Вдохновенье на любовь. Да, вдохновил один, а дивиденды достаются другому. Со мной это обычное дело. «Просто он рядом с тобой, а я нет».
Мы были еще в кабинете, когда тигру пришло новое сообщение от Вероники: «Буду в пятницу. Проездом в Адлер. Сможешь меня встретить?»
– Не сможешь, – говорю. – В пятницу вечером? После работы? Не сможешь. Она мне даже привет не передала!
Я была очень рада увидеть Веронику. Я одичала в ссылке, кидаюсь на гостей. Муж меня под столом толкает, чтоб отстала от человека со своей добавкой. Каждый раз смеюсь над одним и тем же анекдотом, все командировочные мне его по очереди рассказывают. А тут такое событие! Школьная подружка! Вероника! Первая любовь моего мужа! Ура! К нам! К нам!
Бонапарт засуетился, рубашку поменял, выбежал на лестницу. Такси подъезжает. Сюда! Сюда! И она выходит. И режет от бедра, как по дорожке Каннского фестиваля. Вся элегантно-неприступная, благородный серый и розовый, на лице отрешенная лирика и декаданс. Все та же лирика и тот же декаданс, что и десять лет назад.
– Какая она стала корова, – я тигру говорю, хотя Вероника не стала никакой коровой.
– Да, – он согласился рассеянно, а у самого глаза ой, ой, ой, как блестят.
Вероника собиралась замуж за моего мужа. А кто подкинул ей идею? Я. Говорю: «Вероника, если тебе так приспичило надеть белое платье, кадри Зильберштейна. Мальчик из хорошей семьи. Мозг, чувство юмора, и жену будет любить». «Да? Почему?» – спрашивает. Ей еще и объяснять надо!
Хоть бы улыбнулась мне, что ли, со мной все-таки она распивала свою первую бутылку водки. Нет. Молчит, хлопает ресницами, детей разглядывает.
– Какой у вас мальчик уже большой… Светленький в кого-то.
– А мы и сами не знаем, в кого.
Я хотела с ней пошутить, но Вероника меня не замечала. Стоит в моей прихожей, а меня не видит. Антон чмокнул ее в щеку. Она вздохнула удивленно: «Как ты возмужал» и пошла с металлоискателем по нашей квартире.
В столовой она остановилась, там висели снимки с рыболовными трофеями моего мужа. Вероника вперилась в один, где он раздетый, загорелый и заросший.
– Это на Кубани такие сомы водятся?
– Нет, это он на Волгу ездил, – говорю и бокальчики расставляю.
– На рыбалку? Так далеко?
– Тыща верст, – уточнил тигр.
– Расстояния теперь не проблема. Было бы что ловить, – я не удержалась.
– За встречу, – кивнула Вероника моему уссурийскому тигру и с этого момента обо мне не вспоминала, даже когда поднимала бокал, чтобы чокнуться.
Смотрит на моего мужа, считывает его радужную оболочку, ищет… Ищет ту его часть, того мальчишку, который остался в детстве, у нее. Я сейчас уйду, не буду мешать. Вон, мой сын во дворе в футбольчик с охранниками играет. Я к ним.
– Макс! Макс! – зову я собаку. – Ты-то, толстая морда, небось, и не помнишь свою первую девочку. А ее, между прочим, аж из Новосибирска к тебе привезли.
Я уже забила четыре мяча, искупала дочку в бассейне, полила виноград, когда они наконец-то вышли, мои одноклассники – мой муж и моя подружка. Все-таки она достучалась до того мальчишки, который давным-давно в саду, в цветущих яблонях хотел сказать ей «люблю».
Антон очень хорошо ей улыбался. Легко, свежо, своим настоящим человеческим лицом, не маской директора. Мне он уже сто лет так не улыбался. Смотрю на них и думаю: «Ну, все уже! Сколько можно! Целует она его! Обнимаются они! Давай, запихивай ее в такси. Пусть катит в Адлер… А может, не поедешь? Вероника, оставайся, на пару дней, шашлычок пожарим…»
– Ну, какова! – Дома я упала на стул и резко закинула ногу на ногу.
– А мне приятно… – задумчиво улыбнулся мой тигр. – Не каждый день на меня смотрят девушки такими жадными глазами.
Наши взгляды пересеклись на тарелке сациви. Мы одновременно двинули стулья поближе к столу. Я подставила ему свой пустой бокал. Мы стали энергично рвать белое мясо и топить его в гранатовом соусе. Мы впивались зубами в целые помидоры. Это была жратва на нервной почве. Самая беспощадная и вкусная жратва.
– Как-то мы едим неправильно, – сказал Антон с набитым ртом.
– На ночь?
– Да нет, не в этом дело. Рома не звонит!
– И что? – я его спросила. – Каковы ощущения?
– Не знаю… – Он пытался сосредоточиться. – Мне это льстит, приятно и, пожалуй, все.
– Врешь! Ты говорил раньше, что ее любил.
– Любил? Ну… да. Тогда я любил, как умел. Я рос. Мне хотелось любви. А тут мелькали все время перед носом ноги… Неплохие, кстати, ноги. Можно сказать, даже красивые стройные ноги.
– И что, секса не было?
– Да ты что!!! – Тигр ударил себя в грудь. – Я такое и не мог о ней подумать. Она была для меня чем-то воздушным…
– Сколько раз целовались?
– Один, – погрустнел тигр, – перед моим отъездом. – Он осторожно посмотрел на меня и засмеялся: – Да я и не хотел! Она сама меня поцеловала. Помнишь, вы все тогда у меня собрались? Ты там еще обнималась с этим длинным, белобрысым?
– Так, иди сюда, – я выпустила когти, – воздушным она была! Эта лошадь! Эта уездная корова! Это дитя «Газпрома»! Антон! Какое приданое ты упустил!
Я шумела просто так, для веселья, чтобы заглушить свою зависть. Вероника! Эта благоразумная ханжа может сесть на самолет и махнуть к мальчишке, который влюбился в нее десять лет назад. А я не могу. А почему я, кстати, не могу?
Сейчас, одну минуточку, пока мой тигр в ванной, смывает с себя амброзию, я быстренько выйду на этот прикольный сайт.
Да! Антон заходил на мою страницу! Только что был. Увидел и молчит.
Ох, как же раньше-то, при НЭПе, было хорошо: уехал человек на поезде – и нет человека. А теперь рука так и тянется нажать на кнопочку. И я опять включаю эту мерзкую, уже осточертевшую мне латино.
36. Страстная суббота
Мы с Антоном поругались по телефону. Я виновата, кто же еще. А потому что была пьяная вдрабадан. Что вы сказали? Шалава? Я?
Я – женщина, я – сучка, я – трофей. Я достанусь победителю. Меня нельзя оставлять без присмотра, как включенный электроприбор. Если хотите посадить меня возле чемодана, тогда командуйте: Сидеть! Ждать! Место! Мне надо чувствовать хозяина, свободная, я реагирую на новые запахи…
Ближе к теме. Наш лицемерный коллективчик собирается на шашлык в саду у Зильберштейна. А яблони цветут! Я еще в студии, как назло, пятый раз спотыкаюсь на слове «архимандрит», наконец выговариваю и спешу в магазин «У Гриши».
Гриша – хозяин первой частной лавочки, человек, открывший детям сникерсы. Очень грузинский мужчина, он застрял за прилавком, и его худенькая жена не могла протиснуться к кассе.
– Что ты стал тут со своим пузом? – она зашумела.
– Нам, уродам, тожи нужно жить, – ответил Гриша, смиренно опустив глаза.
– Что вам, дети? – нас спросили.
– Водки, – отвечаем.
– Сколько?
– Сколько людей, столько и бутылок.
С полными пакетами мы позвенели через парк. Мимо старых лошадок и лодочек, на которых катались в детстве.
На кухне у Зильберштейна наши приличные девушки резали колбаску и открывали банки с огурцами. Под окнами гуляли ньюфы, собаки поднимались на задних лапах и пытались просунуть в форточку свои большие добрые морды.
Из сада доносился приятный запах, мой любимый букет: цветущие яблони, дым и жареное мясо. Уездные барышни постоянно лезли к магнитофону менять кассеты. Так бы и дать им по рукам, чтоб на кнопки не тыкали.
У мангала над огнем махал картонкой Зильберштейн, он развлекал народ страшилками. Сказал, что на прошлой неделе грузовик его отца обстреляли на трассе, у нас тут, под носом. Среди бела дня! Там и есть-то один поворот через лес, из-за него и выскочила серая «Ауди». Стрельнули по колесам, заорали «Стой!».
– И что? Остановились?
– Щаз! Папаня на газ как нажал… Теперь с ружьем ездит и с ротвейлером.
– Приветик, – я к нему подошла, – какие ты страсти рассказываешь.
– Привет, – Зильберштейн обернулся, увидел мое первомайское декольте. – Ого, – говорит, – какая ты сегодня.
Я взяла у него картонку и обмахнулась как веером.
– Соньчик, – он захотел со мной пошептаться, – мне тут нравится одна девушка. И я ей тоже, кажется. И я подумал… Нужно признаться ей в любви.
– Ничего себе! – Я даже обиделась, – Антон! Ты смотри тут, не женись без меня!
– Не женюсь, не бойся. Но, все-таки, как ты думаешь? Сказать?
– А ты как думаешь? – Я вернула ему вопрос.
Смотрю на него и удивляюсь: «Неужели правда? Мой Зильберштейн! Влюбился в эту дуру Веронику!»
– Иногда мне кажется, все, – он задумался. – Сейчас скажу, момент подходящий. А потом меня что-то останавливает.
– Значит, и не надо, – говорю, – подожди, пока само скажется.
– Я не могу ждать.
– Почему?
– Мне скоро придется уехать, и я ее долго не увижу. Только это пока секрет.
– Куда? Скажи. Я никому-никому.
– Ну ладно. Я в МГУ документы отправил.
– Да?! Тогда тем более можешь ей ничего не говорить. Ты ее забудешь через три месяца!
Своему другу Зильберштейну я сказала, что думала. Только потом вспомнила, что почтальонша уже два года таскает мне письма из Костромы. И сегодня, наверно, уже принесла конверт, и он лежит сейчас в зеленом ящике.
– Антоха! У нас нолито! – позвали его мальчишки.
За столом теребили стаканчики, искали, куда бросить бычок, бросали в клумбу, снимали мясо с шампуров, разливали водку, передавали закусочки по кругу. Подходили какие-то друзья каких-то друзей, толкали речь, и уже запели нашу любимую пионерскую песню:
- А цыганская дочь за любимым в ночь…
Толстый Леха, наш одноклассник, предлагал всем свой подозрительный бренди. Неизвестно откуда он привозил коричневые бутылочки и продавал их на рынке, в одном ряду с детской одеждой, меховыми шапками, салом и живыми кроликами. Из бутылочки пованивало каким-то техническим спиртом.
– Леха, пей ты сам свое палево, – никто не собирался пробовать эту гадость, – только имей в виду, нам тебя хоронить некогда, у нас экзамены.
– Не боись, все проверено. Я умру в тридцать лет, – шутил смелый Леха и пил один свой левый бренди.
Блондинчик из параллельного положил мне салатик на тарелку и шепнул: «Ты похожа на Миледи». И я тут же начала строить из себя Миледи.
– Неужели я скоро проснусь и пойму, что мне уже не надо идти в школу? – Он вздохнул.
– Да скорей бы уже! – Я ответила ну точно как Миледи, мне не терпелось вырваться на свободу.
Приехал Джон, наш истинный ариец, прошел к столу тропинкой через сад. Девушки завизжали от восторга и кинулись с ним жеманничать. Он привез с собой ящик шампанского и прошмандовку Кочкину. Дамы не поняли: «Зачем он ее притащил?»
Джон был старше нас всего на пару лет, в детстве хотел быть космонавтом, поступил в Питер, в авиационное училище. Но что-то не сложилось, и с зимы он числился в стажерах у старшего брата, мальчики промышляли рэкетом.
Детишки начали мешать водку с шампанским, разливали стремительно, поэтому не помню, как я оказалась на яблоне. Сижу на толстой ветке и курю. Блондинчик подбежал с двумя стопками водки. Я выпила половинку, остальное пролила. Он раскрыл руки: «Прыгай, я поймаю». Я прыгнула. Он упал в траву и провалялся там до утра.
Мне стало очень скучно. Захотелось в Кострому, посмотреть Ипатьевский монастырь. Надо было переждать этот момент потерянности, которая всегда портит мне гулянки, но я уже понеслась в дом, в прихожую, к телефону и набрала номер Антона. Пока шли гудки, я вспомнила его последнее письмо: «Девки, как сумки, болтаются, а я, как заколдованный, все время думаю о тебе». Девки болтаются. Очень хорошо. Девки болтаются там, на Волге, а я здесь. Я хочу на Волгу. Волга шире. А у меня такая маленькая речка!
– Алло… Антон?
– Да-а… – Мне показалось или он не рад? Неужели с первых нот угадал, что я пьяная?
– Я тебя убью.
– Что случилось? – Он спросил как-то уж слишком спокойно.
– Почему ты так далеко живешь?
– Что с тобой?
– Мне все надоело! Когда это кончится? Так жить невозможно, невозможно так жить… Я хочу танцевать…
Рядом со мной, на полу, под дверью родительской спальни, сидели пацаны.
– Тони, кончай! – они заорали. – Антонио, выходи!
– Что у тебя за шум? Ты где? – Антон услышал их вопли.
Я закрыла трубку руками и шепчу:
– Я в гостях. Я тут выпила немножко… Не сильно. Совсем чуть-чуть я выпила. А уже так соскучилась!
– Понятно, – он вздохнул.
– А ты дома?
– Дома, конечно! – Все, он уже злой.
– А я просто так… Просто так… А по телефону… и сейчас… так трудно…
Мимо пронеслась зареванная Вероника. Антон молчал. Ни «люблю», ни «скучаю», ни «красавица моя». Он молчал и слушал, как орут наши придурки:
– Ну! Ну! Ну! Антоха, кончай! Забивай, Тони, забивай!
А я сижу с трубкой на полу и думаю: «Алло! Антон! Нажми на какую-нибудь кнопочку! Скажи, ну скажи сейчас же что-нибудь тепленькое, наври, что все будет хорошо, и я пойду домой, возьму свои вещички, свой репортерский магнитофончик под вешалкой найду – и домой. Буду мечтать про тебя еще сто лет».
– Что с тобой? – он повторил.
– Я устала…
– Антонио, кончай! – скандировали болельщики.
– Что вы орете?! – я на них закричала.
– Иди, иди, не мешай, – они на меня замахали.
– Пока, – Антон бросил трубку.
Мне стало очень холодно. Захотелось срочно рвануть в Кострому, на проспект Революции. Но я не рванула. Я вышла в сад, к столу.
Тенор бросил гитару и перешел на нижний ярус, он вытягивал из-под стола: «…Так вперед, за цыганской звездой кочевой…» Ко мне подошел Джон с горячими шампурами:
– Вторая партия, куда класть?
– Вероника, где поднос? – я спросила.
Вероника бодалась с Лехой. Я вытряхнула из вазы апельсины и отдала ее под шашлык. Апельсины укатились со стола, попадали в траву. Красиво, думаю – оранжевое в зеленом – апельсины под яблоней, а сама уже почти, уже вот-вот зареву.
Потом был стриптиз. Я крутила голым пузом и опять собралась всплакнуть: «Ах! Он никогда не увидит, как я танцую! Почему какие-то левые говнюки пялятся, а он не увидит!» Ценители нашлись. Джон заметил слезы, вытер их краем своей рубашки, я качнулась и попала носом к нему на грудь, на вторую пуговицу.
Ну да, пошли мы выпить кофе. Закрылись мы на кухне. И что? В чем я виновата? Да, на стиральной машинке. Стучало что-то в ритм, позвякивало, хлама много вокруг валялось, у Зильберштейна вечно был бардак. Я зацепила стеклянные банки. Они разбились о кафельный пол. Все время кто-то ломился в дверь. Джон закрывал мне глаза ладонями: «Не отвлекайся. Смотри, что я с тобой сейчас сделаю…»
Да, я плохая. Да, я пьяная. Я в расстройстве. Не ругайте меня. Дайте мне рубашечку мужскую, пятьдесят второго размера, я уткнусь в нее носом, во вторую пуговицу. И пусть тогда воют под дверью пьяные одноклассники, пусть Антон сидит себе и дальше в своей Костроме…
В дверь стукнули ногой:
– Откройте нафиг! Лехе плохо!
Джон застегнул свои джинсы, я опустила бесстыжие глаза.
– Где нашатырный спирт? – ввалились мальчишки. – Быстрее! Там Леха помирает.
Я открыла кухонный шкаф, достала аптечку. Девушки привели Веронику. Она рыдала:
– Как он может! С этой грязной проституткой! Я же собираюсь за него замуж!
Ей помогли пройти в ванную. Спросили у меня:
– Где тазик?
Я отдала им легендарный синенький тазик, на Новый год человек шесть поведали ему свои тайны.
Из спальни прохиляла размазанная Кочкина. Чему-то радовалась про себя. Ее лиловые губы расползлись на пол-лица. За ней вышел Зильберштейн, мне показалось, он немного расстроен.
– О-о-о! Наконец-то! Поздравляем! – заорали ему пацаны.
Ничего себе! А я еще считала Зильберштейна кристально чистым человеком. Это был его дебютный секс. Зильберштейн с детства любил оптимальные решения. Некрасиво, зато просто: появилась проблема – ищи средства, которые в данный момент под рукой.
В саду на скамейке среди пышной разноцветной клумбы умирал Леха. Он уже начал синеть, а его поливали ледяной водой из колодца, приводили в чувство мощной струей из шланга. То и дело кто-нибудь лупил его по щекам, по медицинским показаниям, но с личным энтузиазмом. Зильберштейн перекрыл воду.
– Вы что, с ума сошли?! – он сказал. – Леха отравился. Надо «Скорую» вызывать.
– Ты че? Его маманя нас убьет! Щас откачаем! – буксовали пьяные мальчишки.
– Я отвезу, – сказал Джон, и Леху потащили за ворота, в машину, в какую-то знакомую серую «Ауди».
Сейчас я уже не понимаю, что это было? Какая неуемность! Мы поперлись еще и на дискотеку, я увидела за синтезатором Страхова и полезла к нему на сцену, и он пел со мной вместе «Желтые тюльпаны». Все напрыгались, устали и почти протрезвели, и надо было уходить домой, но все еще чего-то не хватало для полного счастья, хотелось чего-то такого еще, а получалось все не то, не то и не то.
И вдруг в стороне, под кленами, там, где со своей темной компанией разговаривал Джон, послышался хлопок. Такой громкий резкий хлопок, как будто лопнула покрышка. Оказалось – выстрел. И сразу застучали каблуки, толпа метнулась к выходу, и кто-то басом заорал: «Держи суку!» Парни в черной коже кинулись ловить стрелявшего. Я услышала сирену, бабские визги, мужские матюки, прибежал наряд, и кто-то завизжал: «Джона убили!»
Площадку оцепили, зашли врачи, Джона вынесли на носилках, и меня затянуло общим течением. Рядом оказался Страхов, взял за руку и вытащил из толпы. «Что случилось? – я спрашивала на ходу. – Что случилось?» А он повел меня домой, к маме, и всю дорогу ругал за то, что я шляюсь пьяная по ночам.
Утром в страхе и ознобе я вскакиваю, накидываю пальто и бегу. Бегу быстрее, по улице, на почту. Мне срочно нужно позвонить своему Антону. Сейчас, сейчас все будет хорошо, как будто ничего плохого не случилось.
А весна, сволочь, как пахнет! Утро свежее, улетает туман, и звон колокольный разносится на весь город.
Мимо бабки чешут с куличами. Кланяются друг другу: «Христос Воскресе!» и косятся на меня, непричесанную и зареванную. «И кудыйть она так бяжить-то? Волоса бы прибрала. Ой и шлында… По чем кричишь-то?» Откуда я знаю! Весной, особенно на Пасху, всегда есть о чем зарыдать.
В кабинке, обшитой деревяшками, пахнет холодной сауной. Стенки измалеваны. Я читаю «Цой жив» и выстреливаю последний патрон:
– Антон! Я тебя люблю!
– Ой… А я-то как тебя люблю! – он отвечает и дышит в трубку, как на вокзале, мне на ушко.
– Я вчера там… ничего? Ты не обижаешься?
– Нет. Так мне и надо, дураку. – Он мяукает, значит, выспался.
– Нет, ты самый лучший… Самый умный…
– Был бы умный, плюнул бы на все и приехал…
– Чуть-чуть осталось. Экзамены сдадим, – говорю, а сама и думать забыла, что экзамены мы сдаем в разные вузы, в разных городах.
– Да, я понимаю. Скорей бы уже… – вздыхает Антон, и про Москву ни слова.
– Целую тебя, – говорю я шепотом.
Это смех какой-то, не видеться год и говорить по телефону «целую».
– И я тебя целую… Целую! Целуюююууу… – по-собачьему завывает Антон.
Выхожу из кабинки. Кладу деньги в окошечко. У меня паранойя, мне кажется, телефонистка ржет надо мной. Подслушивала, думаю, бессовестная. Мне и в голову не могло прийти, что кто-то еще приходит на почту и тоже мяукает в трубку: «Я тебя люблю».
37. Ко мне!
С тех пор прошло тринадцать лет. И зачем теперь на меня смотреть? Что он делает каждый день на моей странице? В семь вечера заходит и молчит? Я знаю. Антон рассматривает мои ножки, глядит в мои честные глазки и пьет наш любимый коктейльчик из радости, нежности и микроинфаркта.
Смотрите, у меня сообщение. «Привет! Как дела?» А… Это блондинчик из параллельного, весь выпускной проплакал у меня на коленках, малыш. «Нормально, – отвечаю, – у меня дела».
…Вот! Антон появился! Зашел, молчит – и правильно делает. Со мной опасно разговаривать. А что вы думали? Я питаюсь не мясом, не салом с кровью, не пыльцой, я пожираю чувства, пью кровь, провоцирую эмоции, чтобы потом самой же их и проглотить. Убегайте от меня, а то укушу.
Вот только мне позарез нужно спросить у Антона одну вещь, только одну.
«Дай мне свою аську, потрещим» – это опять блондинчик. О чем, о чем нам с тобой трещать? Как я ненавижу это слово.
Почему у меня сердце стучит, как будто я на стреме стою? Скажи что-нибудь, Антон, я не могу больше ждать, у меня муж сейчас вернется. И… и я просто не могу ждать. Сейчас я ему скину: «Антон! Привет, ты меня узнал?»
«Приезжай ко мне в Эмираты» – опять блондинчик. Эмираты? Как классно было бы встретиться с ним опять, с моим Антоном, где-нибудь в Эмиратах, случайно, только если все само собой, если карта ляжет.
Все, я слышу шаги на лестнице. Каблуки отстукивают марш танкистов. Открывается дверь. Кажется, у меня щеки горячие.
«А ты знаешь, что Леха умер?» – опять блондинчик, вечно кто-то чужой отвлекает, в самый неподходящий момент. Что? Леха умер? «Лечился в онкологии, вроде выздоравливал. Тридцать лет отметил и умер». – «Я не знала», – отвечаю и нажимаю «выход». Царство Небесное, говорю, Лехе и снова вспоминаю про свою любовь.
– Соньчик, я вернулся, – объявил мой тигр. – А что это ты вся горячая? – он трогает мой лоб и щеки, и я вижу подозрительную насмешку на его лице.
– Я? Не знаю…
– Что ты тут без меня делала? Где лазила? – Он заглядывает в монитор.
Надо его отвлечь, покормить. Самой даже смешно, ах, как тоненько я режу огурчик. Салфеточку положим. Бокальчик протрем.
– Ты ешь, ешь, – говорю и мысленно ругаюсь с Антоном: «Мало ли сколько у тебя там баб было, пусть даже и рыжих… Меня ты должен помнить! Я первая!»
– Как вкусно! Крошка, я так привык к твоей еде … – заурчал мой проницательный тигр и с тарелкой побежал за комп, сразу полез на мою страницу.
– У тебя гости. Смотри, – он подзывает ехидненьким голоском и читает вслух с выражением: «Да, Соня, я тебя узнал… Ты красавица… – Муж посмотрел на меня внимательно, удивился. – А помнишь, мы хотели встретиться лет через пятнадцать? Я пытался найти тебя, но в поисковиках тебя нет…»
Антон любит многоточия. Я их ненавижу. Я люблю тире. Тире – это мужской знак, с места в карьер. Многоточия меня нервируют, как будто у меня хотят денег занять и отдавать не собираются.
Тигр отставил тарелку.
– Езжай, крошка! Езжай в Москву! А мы с детьми останемся тут, умирать!
– Не кроши! – Я отгоняю его от компьютера. – Ходят вечно по всему дому с тарелками…
Я поворачиваюсь ко всем спиной. Не мешайте! Дайте поговорить! Читаю дальше. «Прекрасно выглядишь… Очень рад тебя видеть…» Хитрый какой. Всегда умел с женщинами разговаривать. Почему я растерялась? Потому что хочу влезть в розетку – и к нему по проводам. В таких случаях нужно понаставить многоточий и попрощаться до следующего раза.
Я спрашиваю: «А что ты сейчас делаешь?» – «Сейчас как раз ищу себе сотрудников. Мне срочно нужна ведущая… И, представляешь, рыжая. Это не шутка. Пожелание заказчика».
Ой, как мне не повезло… С этими молодыми директорами невозможно разговаривать, карьеристы несчастные, только о работе думают.
За моей спиной начинается бесцеремонное нытье:
– Крошка, ты нам мороженое обещала.
Как?! Как он может меня перебивать?
– Да… Сейчас… – говорю и печатаю ответ Антону.
Я хочу сказать: «Бери меня на работу, утром вылетаю». Но тигр заглядывает мне через плечо. Зачем? Что он так волнуется? Неужели на мне что-то такое написано, что его пугает?
«У нас тут маленькая, но очень гордая телекомпания, – сообщил Антон, – можешь посмотреть наш фильм, только что закончили, вот ссылка. Про муковисцидоз, это такая страшная болезнь. Продаем его немцам».
Я улыбаюсь, какой он смешной. Так и хочется ему куда-нибудь прибабахать «Антон Дмитровский представляет».
А я-то какая бессовестная стала! Эмоциями она питается! Пожирает чувства! А мальчик работает, и опять его понесло на социальные темы. Думаете, это такое приятное удовольствие, смотреть на умирающих людей, разговаривать с ними, особенно когда они верят, что твоя работа может что-то изменить? Я уже сто лет такими вещами не занималась. Я помню свой последний репортаж из детского дома. Снимаю младенца и знаю – нафиг он никому не нужен. И мне в том числе, у меня есть свой. Ребенка забрала одна моя коллега, оказался очень похож на ее сына. Противная такая девушка была, вредная… А ребенка увидела – и забрала.
Я не такая, я сволочь и думаю только о себе. «Посмотрю обязательно», – отвечаю Антону, хотя мне совсем не хочется смотреть его страшный фильм. И вообще! Я не могу с ним разговаривать под надзором обер-прокурора.
– Крошка, ты про нас помнишь еще? – Мне снова мешают.
– Да. Сейчас иду! – Только последнее дочитаю.
«Как у тебя? Деток двое, муж, работа, догадываюсь…» Антон скинул мне свою электронку. Нет, я больше не хочу никаких писем. У меня остался всего один вопрос, я потом его задам, как-нибудь… Один вопрос и до свиданья, еще лет на сто.
– Крошка, ты что, меня не ждала? – нависает рабовладелец.
Да вот оно, ваше мороженое! С коньяком! С шоколадом! Десять лет я приношу его вам на блюдечке! Десять лет я пою вам дифирамбы! Ищу носки! Делаю массаж! Неужели нельзя оставить меня в покое на полчаса? Раз в жизни!
Посмотрите – мой кот все читает! Никогда по моим файлам не лазил, а теперь читает и дразнится.
– В Москву, в Москву! Минету мне, минету!
– Ну, пожалуйста, не обижайся…