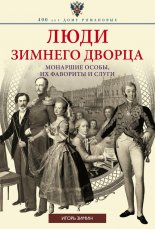Операция «Перфект» Джойс Рейчел

– Мы бы с Дарреном тоже с тобой пошли.
Джим, до боли стиснув пальцы, пытается объяснить, что с удовольствием пошел бы к тете и выпил бы вместе с Полой и Дарреном, но у него сегодня свидание. Пола ошалело смотрит на него. Сразу видно, что это заявление произвело на нее сильное впечатление. Джим торопливо поясняет, что свидание у него с Айлин. Он ничего не может с собой поделать, ему давно уже хочется хоть кому-нибудь рассказать об этом. Но у Полы такой вид, словно он ее ударил.
– С Айлин? С той женщиной, которая на тебя наехала?
– Это же просто несчастный случай, – смеется Джим, но Поле не смешно. Она даже не улыбается. Пожав плечами, она поворачивается, чтобы уйти. Потом наклоняется, подбирает брошенную кем-то жестянку и, прицелившись, ловко швыряет ее в мусорный бачок.
– Надеюсь, ты понимаешь, ЧТО делаешь! – говорит она и уходит.
Глава 15
Концерт
День для концерта выдался чудесный. Дождь ночью молотил вовсю, но к рассвету, когда Байрон проснулся, от дождя не осталось и следа. Небо сияло голубизной, а над пустошью разливался какой-то лимонный свет. Луг так и пестрел цветами – лиловым чертополохом, розовой и белой кашкой, ярким клевером, желтыми пучками подмаренника. Верхняя лужайка, в последнее время сильно заросшая, была усыпана ромашками. Розы расползлись во все стороны, выбросив свои колючие побеги даже на дорожку.
Байрон снова подумал, что Джеймс оказался прав насчет концерта. Это действительно была хорошая идея.
Он встал, но мать еще спала, и он решил, что разумнее всего дать ей хорошенько выспаться. Не очень хорошо представляя себя, с чего полагается начинать уборку дома, Байрон огляделся и понял, что до прихода гостей сделать хоть что-то в этом направлении совершенно необходимо. Не зная, куда девать такую кучу грязных кухонных полотенец и немытых тарелок, он решил попросту сунуть их в кухонный шкаф, где их, скорее всего, никто не заметит. Затем принес швабру, ведро с водой и протер пол на кухне, вот только никак не мог понять, почему там сразу же образовалась такая огромная лужа. Байрон попытался вспомнить, как в таких случаях обычно действовала его мать, но единственное, что он помнил отчетливо, это тот день, когда они сбили Джини. В тот день Люси нечаянно разбила кувшин с молоком, и мать бросилась вытирать разлившееся молоко и собирать осколки, а потом этими осколками порезала себе руку. Пожалуй, тогда, на пруду, Дайана была права. Байрону теперь и самому казалось, что с того утра в начале июня, когда все это началось, прошло гораздо больше времени, чем на самом деле.
Разумеется, возникли значительные трудности с доставкой органа. Фургон застрял на одной из узких крутых улочек, ведущих к их дому, и водителю пришлось вернуться в город и позвонить из телефонной будки, чтобы прислали помощь.
– Мне нужно с твоей матерью поговорить, – сказал он Байрону.
Байрон ответил, что ему неудобно сейчас ее беспокоить.
– Но меня-то вы небось побеспокоили, черт побери! – рявкнул водитель.
В итоге четверо грузчиков занесли орган с задней стороны дома и впихнули его через французское окно на кухню. Лица у них побагровели от натуги и покрылись крупными каплями пота. Байрон не знал, должен ли он что-нибудь им дать, и единственное, что пришло ему в голову, это угостить их фруктами. Они спросили, знает ли он алфавит, и он сказал, что знает, но, когда они спросили, какая буква идет после «с», он смутился, спутался и сказал, что «р». Он заметил, как удивленно грузчики озирались у них на кухне, но не понял, то ли это потому, что там полный порядок, то ли как раз наоборот.
– Слушай, Люси, как ты думаешь, наша кухня выглядит нормально? – спросил он у сестры, когда ему удалось отыскать в груде грязной посуды ее миску с кроликом Питером и вымыть ее.
Ответить Люси не успела, потому что в этот момент Байрон заметил, в каком она виде: волосы спутанные, на ногах носки разного цвета, карман на платье оторвался, и там зияет огромная дыра.
– Люси, ты когда в последний раз мылась?
– Не знаю. Мне уже давно никто водички не напускал.
Похоже, организационных вопросов оставалось еще чересчур много. Ни в одном из ящиков на кухне не нашлось даже ложки овсянки, так что Байрон сделал для Люси «сахарный» бутерброд. Потом хорошенько закрепил створки французского окна, притащил на террасу стулья из гостиной и табуретки из кухни и расставил их полукругом перед «сценой». Орган поместился как раз за французским окном в арке солнечного света. Люси выскользнула из-за стола и, коснувшись пальцами сверкающей деревянной крышки, прошептала:
– Я бы тоже хотела на органе играть!
Байрон схватил ее в охапку, отнес наверх и долго отмывал туалетным мылом «Пиерз», одновременно пытаясь выяснить, имеет ли сестренка какое-либо представление о шитье, потому что у него, похоже, нет ни одной рубашки, где все пуговицы были бы на месте.
Когда у них в доме, наконец, появилась Андреа в сопровождении некого высокого молодого человека в костюме, Байрону на мгновение показалось, что теперь все пойдет наперекосяк, потому что Андреа все-таки решила оставить Джеймса дома.
– Эй, привет! – окликнул его кто-то довольно противным скрипучим голосом.
Байрон обернулся. Он был потрясен: с конца учебного года прошло каких-то полтора месяца, а Джеймс успел уже настолько перемениться, что стал совершенно другим человеком. Во-первых, он был теперь значительно выше ростом. Во-вторых, куда-то совершенно исчезли его мягкие золотистые волосы, а вместо свисавшей чуть ли не до кончика носа челки бледный лоб украшало множество прыщей, над которыми торчал короткий ежик волос какого-то невнятного, мышиного цвета. Мало того, над верхней губой у Джеймса виднелись крошечные, точно кисточкой нарисованные усики! Мальчики обменялись рукопожатием, и Байрон даже отошел на несколько шагов, рассматривая своего старого друга, потому что ему казалось, что перед ним человек, которого он видит впервые в жизни.
– Ну что, у тебя все готово? – спросил Джеймс, машинально отбрасывая со лба несуществующую челку. Обнаружив, что челки нет, он растерянно потер лоб.
– Да, по-моему, все готово, – кивнул Байрон.
– Но где же твоя мама? – удивленно спросила Андреа и несколько раз с удивлением обвела глазами дом, словно его облик каждую минуту полностью менялся.
Байрон объяснил, что Дайана поехала за той дамой, которая будет выступать, и за ее дочерью. Он не стал упоминать о том, что, поскольку у нее больше нет часов, она теперь вечно повсюду опаздывает.
– Какая трагедия! Бедная девочка, – прошептала Андреа. – Джеймс мне все рассказал.
К удивлению Байрона, прибыли все, кто был приглашен. Мало того, все еще и принарядились, как для особого случая. Мать нового ученика уложила волосы феном в красивую пышную прическу, а Диэдри Уоткинс даже пошла на то, чтобы сделать «перманент», и теперь все время трогала пальцами крутые завитки, словно опасаясь, что они могут взять и отвалиться.
– Ах, какая прическа – отлично смотрелась бы в эпоху Карла I[56], – заметила Андреа.
Возникла неловкая пауза, никто не знал, как реагировать на это замечание. Андреа тут же схватила Диэдри за руку и принялась уверять, что просто пошутила и вовсе не хотела ее обидеть. После чего обе сделали вид, что смеются от души, и Андреа сказала:
– Вы, право, не должны держать на меня зла!
Все женщины пришли с подарками – всевозможными закусками и домашним печеньем в пластмассовых коробочках. Они выкладывали на стол салат из капусты и салат оливье, жареные почки с пряностями и сырное печенье, фаршированный виноград и оливки, грибы и сливы. Многие достали из сумок фляжки со спиртным, которое тут же стали разливать по стаканам и передавать друг другу. Наконец, под возбужденное гудение голосов еда была распакована и расставлена на садовом столике. Все были согласны с тем, что это просто чудесная идея – устроить подобную встречу и концерт, как это мило и великодушно со стороны Дайаны. Женщины разговаривали друг с другом так, словно не виделись несколько лет. Они говорили о летних каникулах, о детях, о том, что им не хватает привычных дел и привычного образа жизни. Расспрашивали друг друга об «ужасной травме», которую получила Джини, и при этом ловко открывали тугие пластмассовые крышки на принесенных коробочках с закусками и расставляли пластиковые тарелки. Они и Байрона расспрашивали об этой «бедняжке, у которой штифты в ноге». Это просто ужасно, твердили они, что ребенок так пострадал из-за какой-то ерундовой нелепой случайности. Никто из них, похоже, не знал о роли Дайаны в этой «случайности». Никто не упоминал Дигби-роуд, но это, как догадывался Байрон, лишь вопрос времени, и они, конечно же, все в итоге узнают. Его прямо-таки снедало беспокойство, он даже двигался с трудом.
Когда Дайана, наконец, подъехала к дому вместе с Беверли и Джини, Байрон первым захлопал в ладоши. Собственно, он не знал, как ему еще выразить свою радость. Беверли в темных очках сидела вместе с дочерью на заднем сиденье. Она была в новом черном платье-макси, на груди у нее пайетками был вышит кролик, который при ходьбе слегка подпрыгивал. «Я ужасно волнуюсь!» – все повторяла она. Затем она вынула из машины Джини и усадила ее на стульчик-каталку. Женщины дружно расступились, и она повезла девочку к дому. Байрон спросил у Джини, как ее нога, и девочка молча кивнула, как бы говоря, что все по-прежнему.
– Возможно, она никогда больше не будет нормально ходить, – сказала Беверли, и некоторые женщины стали шепотом выражать ей сочувствие и предлагать помощь. – А у меня, как назло, руки ужасно болят. Хотя, конечно, моя боль – ничто по сравнению с ее страданиями. Но больше всего меня, разумеется, беспокоит будущее моей бедной девочки. Когда я думаю, сколько всего ей, бедняжке, потребуется уже в самое ближайшее время…
Байрон ожидал, что Беверли будет нервничать, что она будет робеть в присутствии этих женщин, памятуя тот «кофейный утренник», когда они буквально заткнули ей рот своими насмешками, однако он ошибся: Беверли была в своей стихии. Она с каждой из матерей поздоровалась за руку, каждой сказала, как это чудесно, что ей удалось снова всех их увидеть. Она постаралась сразу запомнить имя каждой и потом называла ее только по имени.
– Андреа, как мило. Диэдри, какое чудесное имя. Простите, – сказала она матери новичка, – я не расслышала, как вас зовут…
А вот Дайана явно чувствовала себя не в своей тарелке. Только сейчас, снова увидев ее в окружении всех этих женщин, Байрон понял, до какой степени она стала иной, как сильно выделяется среди них. Голубое хлопчатобумажное платье болталось на ней, словно было с чужого плеча, ее чудесные волосы какими-то безжизненными и безвольными прядями свисали вдоль лица, лишенного, казалось, всяких красок. Она, похоже, забыла, что должна что-то говорить. Одна из приглашенных дам упомянула Олимпийские игры, другая тут же подхватила тему и сказала, что Ольга Корбут – «просто прелесть!» – но Дайана по-прежнему молчала, только губу слегка прикусила. Затем Джеймс, спасая положение, громко объявил, что хочет для начала экспромтом сказать несколько слов, но Беверли решительно этому воспротивилась и стала настаивать, что вступительную речь должна непременно произнести хозяйка дома.
– О нет, пожалуйста, нет, – прошептала Дайана. – Я не могу!
Она даже попыталась, спрятавшись за спины других женщин, присесть где-то в уголке, но все тут же обернулись к ней, прося ее выступить.
– Ну, скажите нам хотя бы несколько слов, – пропела Андреа.
Джеймс тут же подбежал к Дайане и сунул ей написанную им заранее речь.
– О господи! – вздохнула она и вышла вперед.
Но продолжала молчать. Просто смотрела на листок с речью, и он дрожал у нее в руках.
– Дорогие друзья! Матери и дети! Добрый день, – начала она, наконец, и снова умолкла.
Речь содержала намеки на благотворительность, какие-то рассуждения о музыке, какие-то слова о будущем, но, что бы ни пыталась сказать или, точнее, прочесть Дайана, расслышать ее можно было лишь с огромным трудом. Кроме того, она то и дело останавливалась посреди фразы и начинала сначала. Было видно, что она страшно нервничает – она щипала себя за запястье, наматывала на палец прядь волос и, в общем, даже написанное толком прочесть не могла. Не в силах дольше это выносить, Байрон первым начал аплодировать. К нему, по счастью, присоединилась Люси, которая до этого была страшно занята: устроившись за обеденным столом на своем высоком стульчике, она показывала Джини язык и корчила страшные рожи. Но, услышав аплодисменты Байрона, Люси явно решила, что концерт окончен, и, спрыгнув на пол, закричала: «Ура! Ура! А теперь уже можно всем выпить чаю?» Это было просто унизительно, и не в последнюю очередь потому, что волосы Люси после того, как Байрон их вымыл, превратились в нечто невообразимое: повисли какими-то слипшимися прядями, похожими на жеваные ленты. Но, по крайней мере, ее появление сломало лед, и женщины перестали пялиться на Дайану.
Итак, первым шокирующим событием этого дня стало поведение матери Байрона, которая явно была не в себе. Вторым – куда менее шокирующим, скорее поразительным, – стало то, что Беверли действительно оказалась способна что-то сыграть на органе. А если ей и не хватало природного дарования, то она более чем успешно компенсировала это броской подачей. Когда измученная Дайана отползла, наконец, к какому-то дальнему стулу и приготовилась смотреть и слушать, Беверли еще немного выждала, выслушала ободряющие аплодисменты и лишь после этого с большим достоинством проследовала к центру импровизированной сцены, держа под мышкой ноты и изящным движением приподнимая подол своего длинного платья. Усевшись перед органом, она закрыла глаза, подняла руки над клавиатурой и заиграла. Пальцы Беверли бегали по клавишам, и цветные огоньки плясали на корпусе электрооргана, точно стайка светлячков. Женщины выпрямили спины и напряженно застыли, время от времени одобрительно кивая и переглядываясь. Беверли исполнила какую-то классическую пьесу, затем саундтрек к популярному фильму, затем маленькую пьеску Баха и попурри из произведений Карпентера[57]. После исполнения каждой вещи Байрон плотно задергивал занавес, давая Беверли возможность успокоиться, собраться с мыслями и приготовить очередные ноты. Джеймс в это время разносил тарелочки с угощением. Женщины громко болтали и даже смеялись. Сперва Байрон просто ждал в сторонке, пока Беверли подготовится к следующему выходу. Он старательно притворялся, что его там и вовсе нет, потому что она явно нервничала. Как только он поднимал занавес, Беверли глубоко вздыхала, приглаживала волосы и шептала себе под нос что-то ободряющее. Но постепенно она стала чувствовать себя более уверенно, да и аплодисменты после каждого нового номера становились все более громкими и бурными. Теперь она, похоже, чувствовала себя в этой аудитории почти своей или, по крайней мере, занимающей в ней некое особое и весьма значимое место. Когда Байрон в шестой раз задернул занавес, она с улыбкой глянула на него и спросила, не приготовит ли он ей кувшин «Санквика». А когда он приготовил и налил ей полный стакан, она с восхищением сказала:
– Какие же они милые, все эти женщины!
Байрон посмотрел в щелку между занавесками и увидел, что Джеймс угощает Джини печеньем «Пати Ринг». Джини сидела в самом центре в первом ряду, ее нога была плотно упакована в кожаный футляр, и Джеймс очень внимательно поглядывал на эту ногу.
– Я готова, Байрон. Это будет моя последняя вещь, – окликнула его Беверли.
Он раздвинул занавес и призвал аудиторию к тишине.
Беверли подождала, пока все умолкнут, а потом, вместо того чтобы заиграть, вдруг повернулась лицом к слушателям: она явно намеревалась что-то сказать.
Начала она с благодарности всем присутствующим. Сказала, что их поддержка имела для нее огромное значение. Голос у нее был такой тонкий и пронзительный, что Байрону пришлось впиться ногтями в ладони, чтобы не закричать. Это было тяжелое лето, сказала Беверли, и, если бы не доброе отношение Ди, ей вряд ли удалось бы выжить.
– Ди все время была рядом со мной. Она ни перед чем не останавливалась, чтобы помочь мне. А ведь, должна признаться, бывали времена, когда я… – Тут голос Беверли дрогнул, и она лишь с трудом заставила себя мужественно улыбнуться. – Но сейчас не время печалиться. Сегодня у меня такое счастливое событие, и последнюю вещь, которую я сейчас исполню, я посвящаю Ди. Это наше с ней любимое произведение Донни Осмонда. Не знаю, знаком ли кто-нибудь из вас с его творчеством?
– А вы не староваты для Донни? – крикнула мать новичка. – Как насчет Уэйна?
Но Беверли ответила ей:
– О нет, Ди нравятся те, что помоложе. Не правда ли, Ди?
Байрону показалось, что женщины уже успели хорошенько угоститься тем, что принесли с собой во фляжках, потому что ответ Беверли вызвал дружный смех.
– Итак, это для тебя, Ди, – сказала Беверли, – кого бы на самом деле ты ни предпочитала. – И, подняв руки над клавиатурой, она предложила собравшимся подпевать, если захочется. А потом вдруг обратилась к Дайане: – Почему бы тебе, Ди, не выйти и не станцевать для нас?
Байрон в ужасе увидел, как побелела, словно от боли, его мать, казалось, в нее попали камнем.
– Нет-нет, я не могу. Не могу…
Беверли, так и не начав играть, повернулась к аудитории и обменялась с женщинами понимающими взглядами.
– Вот так она всегда скромничает, но это только с виду. Я-то видела, как здорово она танцует, так что вам придется поверить мне на слово. Ди – самая прекрасная танцовщица на свете. Она прямо-таки рождена для танца. Разве я не права, Ди? Она способна любого мужчину чуть ли не до обморока довести.
– Прошу тебя, не надо… – шептала Дайана, но Беверли не унималась. Она встала, подошла к Дайане и помогла ей встать. А потом первой захлопала в ладоши. Но Дайана, должно быть, все-таки опиралась о плечо Беверли и покачнулась, стоило той убрать руки. Потом сделала маленький шажок вперед, и Беверли со смехом воскликнула:
– Ну вот! Молодец, Ди! Только, может, лучше поставить этот стакан на столик?
Женщины засмеялись, но Дайана ставить стакан на столик отказалась.
Байрону стало совсем тошно: мать в эту минуту была похожа на какое-то дикое животное, посаженное на цепь, которое вытащили на всеобщее обозрение и радостно тычут в него палками. «Как же такое могло случиться? – думал он. – Я не должен был этого допускать!» Даже когда Беверли повела Дайану на «сцену», та все еще пыталась сопротивляться и уверяла, что совершенно не умеет танцевать, но теперь уже и зрительницы закусили удила и принялись настаивать. Дайана споткнулась, пробираясь между стульями, и чуть не упала. Байрон попытался привлечь внимание Джеймса, отчаянно махая руками, мотая головой и шепча одними губами: «Прекрати это! Пожалуйста, прекрати!» – но Джеймс, похоже, ничего вокруг не замечал и смотрел только на Дайану, лицо его при этом стало таким красным, что казалось, вот-вот вспыхнет. Он замер, как изваяние, глядя на нее, можно было подумать, что он никогда в жизни не видел ничего столь прекрасного. Он с явным нетерпением ждал, когда Дайана начнет танцевать.
Дайана остановилась в центре террасы. В этом голубом платье она казалась на удивление бледной и маленькой. Во всяком случае, она занимала как-то слишком мало места. Свой стакан она по-прежнему держала в руке, а вот туфли надеть явно забыла. Беверли спокойно сидела у нее за спиной, положив руки на клавиши органа; ее черные волосы были уложены в пышную прическу. Байрон просто смотреть на нее не мог. Наконец она заиграла.
Пожалуй, это была лучшее из всего, что подготовила Беверли. Она сыграла шумное вступление, затем взяла какой-то очень печальный аккорд, и Байрону на мгновение показалось, что она и вовсе перестала играть, но тут она вдруг заиграла припев, причем с таким энтузиазмом, что кое-кто из женщин сразу начал ей подпевать. А Дайану носило по сцене туда-сюда, точно щепку по течению реки. Она изящно поднимала руки и даже слегка шевелила пальцами, но попрежнему время от времени неуверенно спотыкалась, и было трудно сказать, где тут танец, а где случайные движения. Все мы словно подглядываем за чем-то настолько личным, настолько внутренним, думал Байрон, что на это и смотреть не следовало бы, потому что это все равно что заглядывать человеку прямо в душу. Он видел сейчас только ужасающую хрупкость Дайаны, и это было совершенно невыносимо, он совсем измучился, ожидая, когда смолкнет музыка. Однако, когда Беверли, наконец, перестала играть, у матери Байрона все же хватило силы воли, чтобы сперва сдержанно поклониться публике, а потом повернуться к Беверли и, подняв руки, поаплодировать ей. Беверли встала, сделала реверанс и, подбежав к Дайане, стиснула ее в объятиях.
Ни о несчастном случае, ни о Дигби-роуд никто и не вспомнил. Беверли, крепко обнимая Дайану, кланялась сама и заставляла ее тоже кланяться, она словно делила свой успех с подругой, но больше всего это было похоже на представление чревовещателя-кукловода со своей послушной марионеткой.
Затем Дайана извинилась и сказала, что ей необходимо сходить на кухню и налить себе стакан воды, ей очень хочется пить. Услышав ее слова, Андреа тут же вызвалась сама сходить на кухню и принести ей воды. Но уже через несколько минут Андреа вернулась и, добродушно смеясь, сказала:
– Ну, Дайана, никогда в жизни я так не смеялась! Ей-богу, впервые в жизни, открыв кухонный буфет, я обнаружила там грязные носки!
Байрон с трудом сдерживался, глядя на все это. Беверли принялась оживленно болтать с гостями, а Дайана потихоньку отошла в сторонку и села, сложив руки на коленях. Кое-кто участливо спросил, не принести ли ей чего-нибудь и хорошо ли она себя чувствует, но она не отвечала, вид у нее был такой, словно она не понимает даже этих простых вопросов. Наконец, мальчики начали таскать стулья обратно в столовую, и Байрон, воспользовавшись случаем, спросил у Джеймса, что он думает теперь, собственными глазами увидев травму, полученную Джини, но Джеймс, казалось, его не слышал. Он был способен говорить только о том, как успешно прошел придуманный им концерт. А еще он сказал, что и предположить не мог, как здорово Дайана умеет танцевать.
Тем временем Беверли, устроившись на террасе рядом с Джини и со всех сторон окруженная женщинами, излагала свои взгляды на политику, на состояние экономики, на возможность забастовок. Она спросила, что ее собеседницы думают о Маргарет Тэтчер, и одни прижали пальцы к губам, а другие заорали: «Работает на публику!» И тут Беверли покачала головой и пророчески заявила: «Попомните мои слова: за этой женщиной будущее!» Байрон никогда не видел ее столь уверенной в себе, столь оживленной. Она рассказывала и о своем отце, викарии, и о том, что выросла «в чудесном домике приходского священника», который на самом деле был очень похож на Кренхем-хаус, просто она это как-то не сразу поняла. Дамы обменивались телефонными номерами и приглашали друг друга в гости. А когда одна из них – кажется, это была как раз мать новичка – предложила Беверли подвезти ее и помочь с Джини и ее креслом на колесиках, Беверли с восторгом приняла это предложение и сказала, что это было бы чудесно, если, конечно, не жалко тратить на нее столько времени.
– С руками у меня просто беда. Это же просто чудо, что я могу играть! Мои руки просто отвратительно себя ведут. Но вы только посмотрите на бедняжку Ди: она же совершенно вымоталась, возясь со мной.
И тут все стали снова говорить, как это замечательно, что Дайана устроила этот концерт, на котором Беверли выступила столь успешно. «До свиданья, Ди, до свиданья!» – пели они, собирая пустые пластиковые коробочки и направляясь к своим машинам. Как только они разъехались, Дайана налила себе полный стакан воды и отбыла наверх. Когда через полчаса Байрон заглянул к ней, она уже крепко спала.
А у него самого в тот вечер забот хватало. Он уложил Люси, запер дверь и задумался. Столько всего нужно скрыть от отца: колпак «Ягуара», огромную сумму, истраченную на покупку органа для Беверли, травму Джини, а теперь еще и это сборище у них дома. Он просто представить себе не мог, как со всем этим быть.
В первый раз телефон зазвонил еще в девять вечера, но мать так и не сумела проснуться. Утром телефон зазвонил снова, и Байрон снял трубку, будучи почти уверен, что услышит голос отца. Но это оказался Джеймс.
– Это я, – проговорил он, задыхаясь, словно после долгого бега.
Байрон поздоровался и спросил, как у него дела, но Джеймс, словно не слыша его, тут же потребовал:
– Немедленно иди и принеси свою тетрадь с записями.
– Зачем? Что случилось?
– Нечто совершенно непредвиденное.
У Байрона тряслись руки, когда он перелистывал страницы, пытаясь понять, чего все-таки хочет от него Джеймс. Было в его голосе нечто такое, что пробудило в душе Байрона леденящий страх. Несколько раз он пролистывал нужную страницу, и приходилось возвращаться к началу.
– Скорей, скорей! – торопил Джеймс.
– Я не понимаю… что я, собственно, должен найти?
– Схему! Ту самую, где показано положение пластыря у Джини на ноге. Нашел?
– Почти. – Байрон, наконец, открыл нужную страницу.
– Опиши, что ты видишь.
– Рисунок не очень хороший…
– Неважно. Просто прочти свои записи и опиши, что видишь на схеме.
Байрон медленно прочел свои записи: на Джини было голубое летнее платье с короткими рукавчиками, гольфы съехали, потому что на них совершенно растянулись резинки, черные, как у матери, волосы были заплетены в две косы…
– Правда, на рисунке косы не очень хорошо вышли, – сказал Байрон. – Больше на какие-то загогулины похоже…
Джеймс резко оборвал его:
– Переходи к местонахождению пластыря!
– Пластырь был у нее на правом колене. Такой большой, квадратный. Его я очень тщательно зарисовал. – И тут в трубке вдруг воцарилось такое молчание, словно Джеймс растворился в воздухе. У Байрона по спине поползли мурашки, ему сразу стало холодно и страшно. – В чем дело, Джеймс? Что случилось?
– Это не та нога, Байрон! Не та, которую вы тогда повредили! Сейчас у нее шина наложена на левую ногу. Не на правую, а на левую!
Глава 16
Слова, как собаки
– Поднимите, пожалуйста, ногу, – говорит медсестра и заверяет Джима, что больно совсем не будет. Айлин стоит рядом. Сестра ножницами разрезает гипсовую повязку и высвобождает ногу из плена. Нога, как ни странно, выглядит на удивление чистой и аккуратной, кожа на ступне совсем мягкая. А вот на лодыжке и чуть выше кожа сухая и бледная. На пальцах еще сохранились следы зеленки. Ногти тоже побледнели, утратив розоватый оттенок.
Приходит врач и внимательно осматривает ступню Джима. Он говорит, что связки не повреждены. Айлин задает врачу разные практические вопросы – нужно ли Джиму принимать обезболивающее, какие упражнения ему следует делать, чтобы нога окончательно пришла в норму, и так далее. Для него все это ново – и то, что кто-то искренне о нем заботится, и то, что он не может не смотреть на Айлин. Затем она отпускает какую-то шутку насчет собственного здоровья, и все смеются, включая врача. Джиму никогда и в голову не приходило, что врачи любят шутки. Голубые глаза Айлин искрятся от смеха, зубы сверкают, даже ее пышные волосы, похоже, весело подпрыгивают. И Джим вдруг понимает: «А ведь я, пожалуй, уже почти влюбился в нее!» И это такое счастье, такое замечательное ощущение, что и он тоже смеется. И ему не нужно даже задумываться о том, почему он это делает.
Под конец медсестра заменяет гипсовую повязку у Джима на ноге на обычную, а сверху надевает мягкий пластиковый чехол, вроде носка, чтобы защитить не до конца зажившую ступню. «Ну вот, теперь твоя нога почти как новая», – говорит она.
Джим приглашает Айлин в паб, чтобы это отпраздновать. Без гипса нога кажется ему сделанной из пустоты – он ее совсем не ощущает и вынужден то и дело останавливаться и проверять, на месте ли она. Когда он расплачивается за напитки, ему очень хочется сказать бармену, что он здесь с Айлин, что она согласилась пойти с ним выпить пива, что они теперь каждый вечер так делают. Ему хочется спросить у этого бармена, если ли у него жена и что значит влюбиться. Один из посетителей бара кормит свою собаку хрустящим картофелем. Собака сидит рядом с ним на стуле, и на шее у нее пестрый шарфик. А может, думает Джим, этот человек влюблен в свою собаку? Теперь он прекрасно понимает, что существует множество разновидностей любви.
Он передает Айлин ее кружку и спрашивает:
– Хочешь хрустящей картошки?
– Да, спасибо.
Комната кружится у него перед глазами. Он вспоминает кого-то, и этот кто-то немного похож на собаку, Джим уже почти успевает поймать нужное слово, перед ним уже возникло соответствующее воспоминание, некая картинка, но… внезапно картинка исчезает, и перед глазами всплывает нечто совсем иное. Он так этим обескуражен, что снова чувствует головокружение. И вдруг перестает понимать, что означают слова. Он не находит в них никакого смысла. Мало того, ему кажется, что слова как бы разрезают вещи пополам, стоит ему подумать о них. Так, может, спрашивая у Айлин: «Хочешь еще картошечки?» – на самом деле он говорит что-то вроде: «Я тебя люблю»? И она, говоря ему в ответ обыкновенное «спасибо», имеет в виду нечто иное, что должно звучать примерно как «да, Джим, я тебя тоже люблю»?
Ему кажется, что даже ковер под ногами расползается в разные стороны. Нет ничего, что на самом деле было бы именно тем, чем кажется с первого взгляда. Один человек может предложить другому хрустящей картошки, как бы говоря этим: «Я тебя люблю», но, с другой стороны, можно сказать: «Я тебя люблю», на самом деле имея в виду всего лишь то, что тебе хочется хрустящей картошки.
Язык у Джима во рту становится неповоротливым, а сам рот словно шерстью забит.
– Налить тебе водички? – спрашивает Айлин. – Вид у тебя какой-то странный.
– Нет, все в порядке.
– А почему ты вдруг так побледнел? Прямо позеленел. Может, нам лучше уйти отсюда?
– А ты уже хочешь уйти?
– Да нет, я просто о тебе беспокоюсь. Я-то себя отлично чувствую.
– Ну и я отлично, – говорит Джим.
Они молча пьют пиво. Он не понимает, как они вообще здесь оказались, в этом пабе. Секунду назад ему казалось, что они без слов объясняются друг другу в любви, но теперь, похоже, каждый предпочитает быть сам по себе. Джим поражен тем, как все-таки осторожно следует обращаться со словами, и спешит исправить ситуацию.
– Помнишь, – говорит он, – ты однажды сказала мне кое-что. Насчет потерь и утрат?
– Ах вот ты о чем! – И, немного помолчав, Айлин кивает: – Да, помню.
– Ты расскажешь, что именно ты потеряла?
– Ну, – пожимает плечами Айлин, – даже не знаю, с чего начать. Начну с мужей.
По крайней мере, они снова вернулись к обмену словами, хотя Джим понятия не имеет, о чем она говорит.
– У меня было два мужа, – говорит Айлин, скрестив на груди руки. – Первый то ли продавал телевизоры, то ли чем-то торговал по телевизору. Мы с ним прожили тринадцать лет, а потом однажды он кому-то позвонил, они некоторое время болтали о всякой ерунде, потом он продал этой женщине квартиру на паях, и вот тут-то, как оказалось, и была собака зарыта. Они сбежали в Коста-дель-Соль. А я после этого долго жила одна. Мне не хотелось снова страдать, снова испытывать боль. Затем, несколько лет назад, я сдалась. Вышла замуж. Этот муж сбежал через полгода. По всей видимости, жить со мной действительно невозможно. Я скриплю зубами по ночам. Я храплю. Он попробовал перебраться в соседнюю комнату, но тут выяснилось, что я еще и хожу во сне.
– Какой стыд!
– Что я во сне хожу?
– Что он тебя из-за такой ерунды бросил!
– С’est la vie[58]. Теперь о моей дочери.
Когда Айлин произносит слово «дочь», лицо ее будто сжимается и застывает – такое впечатление, будто кто-то положил ей на голову что-то тяжелое и приказал не двигаться. Поскольку Джим ни о чем ее не спрашивает и вообще не говорит ни слова, она смотрит на него и спрашивает, слышал ли он, что она только что сказала. И он говорит, что прекрасно все слышал, и кладет свою руку на стол рядом с ее рукой – именно так сделала тогда та милая женщина, социальный работник, объясняя ему, как быть таким, как все, и как заводить друзей.
– Однажды Ри просто взяла и ушла из дома. Ей было всего семнадцать. Я купила ей на день рождения браслетик – знаешь, такой серебряный, со всякими амулетиками. Она сказала, что только сходит в магазин на углу и сразу вернется. А перед этим мы с ней повздорили по очень глупому поводу. Из-за мытья посуды. В общем, домой она так и не вернулась. – Айлин берет кружку и медленно пьет пиво, потом столь же неторопливо вытирает губы.
Джим ничего не понимает. Ему совершенно непонятно, как соединить те картинки, что сложились у него в голове после рассказа Айлин – о ее дочери, походе в магазин на углу и серебряном браслете с амулетами, – с тем, что ее дочь так и не вернулась назад. Айлин осторожно придвигает подставку вместе с пивной кружкой к самому краю стола и старательно выравнивает по этому краю одну из сторон подставки, она все двигает и двигает эту подставку, все поправляет ее, одновременно продолжая говорить. Она говорит Джиму, что с того дня своей дочери больше не видела. Что она очень долго ее искала, но найти так и не сумела. Иногда на нее находит, говорит она, и среди ночи ей вдруг становится ясно, где Ри, тогда она садится в машину и едет туда. Но оказывается, что она в очередной раз ошиблась. Она никогда ее не находит. Айлин берет в руки картонную подставку, которую так старательно выравнивала вдоль края стола, и рвет ее на мелкие кусочки.
– Единственное, чего я хочу, Джим – это знать, что ей ничто не угрожает, что она в безопасности. Вот только никогда я этого, видно, не узнаю.
Пальцы Айлин впились в край стола. Она говорит: «Извини, но я сейчас, кажется, заплачу». Он спрашивает, может, ей что-нибудь принести – стакан воды или что-нибудь покрепче? Но ни того, ни другого ей не нужно. Она просто хочет, чтобы он с нею посидел.
Сперва ему невыносимо трудно смотреть на нее. Он слышит те короткие резкие вздохи, что предшествуют рыданиям, и ему хочется вскочить и убежать. Он видел плачущих людей в «Бесли Хилл». Иногда они просто бросались на пол, точно дети, и приходилось их обходить. Но совсем другое дело – быть свидетелем того, как Айлин борется с тяжкой душевной болью. Джим вертится на стуле, пытаясь высмотреть бармена или того человека с собакой, но оба куда-то исчезли. Ему бы очень хотелось что-нибудь дать ей, но у него ничего нет, нет даже бумажного носового платка. Он может только сидеть с нею рядом. Айлин по-прежнему крепко держится руками за стол, а ноги широко расставила, словно готовясь к еще более тяжким ударам. Из глаз у нее ручьем льются слезы, стекая по щекам, но она даже не пытается их вытереть, она просто сидит, терпит свою боль и ждет, когда эта боль хоть немного ослабеет. И, глядя на Айлин, Джим чувствует, что и у него щиплет глаза, хотя с тех пор, как он в последний раз плакал, прошло уже очень много лет.
Когда слезы иссякают, Айлин вытирает мокрое лицо и с улыбкой говорит:
– Хочешь, покажу тебе ее фотографию?
И она вдруг становится страшно деловитой, копаясь в своей сумке-торбочке. Выуживает оттуда и выкладывает на стол кожаный кошелек, ключи от машины, ключи от дома, щетку для волос…
– Вот! – Пальцы у нее дрожат, когда она раскрывает потертый вкладыш из голубого пластика. Внутри за прозрачным окошечком виднеется проездной на автобус. Проездной давным-давно устарел, но на поблекшей фотографии еще можно рассмотреть веснушчатое лицо, белую кожу, оленьи глаза и гриву густых рыжих волос. Эта девушка – безусловно, часть самой Айлин, но ее хрупкая, юная часть. Та часть, о существовании которой Джим порой догадывался, но никогда не видел. – Видишь, какая? Чтоб меня черти взяли!
Айлин пытается взять его за руку, но на это он пока не способен. И сам он взять ее за руку тоже пока не может. И она кладет свою руку на прежнее место, а потом спрашивает:
– Итак, что случилось с твоим другом? С тем, о котором ты мне говорил? И что такого ты сделал, Джим? Что такого ужасного ты мог сделать?
Он открывает рот, но не может выговорить ни слова.
– Можешь не торопиться, времени у меня сколько хочешь, – говорит Айлин. – Я подожду.
Глава 17
Аутсайдеры
Теперь, когда подозрения Джеймса насчет ноги Джини подтвердились, он не давал Байрону покоя, то и дело спрашивая, когда тот намерен вывести Беверли на чистую воду. Он даже сценарий для этого написал и все пытался выяснить, почему Байрон не хочет попросту расстегнуть этот дурацкий футляр, пока Джини спит. «Ты вообще-то хочешь свою мать спасти?» – вопрошал Джеймс и продолжал без конца названивать Байрону.
А Дайана теперь словно пребывала в ином измерении. В эти последние дни каникул – после того, как она выбросила свои часики, и после этого ужасного концерта, устроенного по настоянию Джеймса, – она, похоже, решила окончательно отказаться от времени. И от этого сама стала казаться какой-то менее прочной, менее реальной. Она, например, могла очень долго совсем ничего не делать. Байрон попытался объяснить матери, что у Джини шины наложены на здоровую ногу, что исходно у нее была травмирована другая нога – если она действительно была травмирована! – но Дайана лишь укоризненно смотрела на него, словно этим взглядом хотела сказать, что ее сын – существо совершенно бессердечное, и твердила одно: «Но ведь она по-прежнему не может ходить!»
У Байрона было ощущение, что они сидят в маленькой лодочке, которая незаметно оторвалась от причала, а никто этого даже и не заметил. Во всем доме часы либо стояли, либо показывали самое разное время – какое бог на душу положит. Заглянув на кухню, Байрон видел, что часы там показывают, скажем, десять минут восьмого, и почти сразу в гостиной обнаруживал, что на самом деле уже половина двенадцатого. Они ложились спать, когда небо становилось темным, и ели, когда мать об этом вспоминала. Представление о том, что у трапез есть определенный распорядок – завтрак, ланч и в пять часов обязательно чай, – Дайана, похоже, совершенно утратила. Во всяком случае, подобные представления о порядке более не казались ей существенными. Каждое утро на полу в холле появлялись пересекающиеся серебристые следы, оставленные проползшими улитками. По углам мягкими облаками клубилась паутина, на подоконниках осел слой пыли и садовой земли. Пустошь постепенно, шаг за шагом, проникала в дом.
– Это непременно должно было случиться, – сказала как-то Дайана. – Такова моя судьба.
– И какова же твоя судьба?
В ответ она просто пожала плечами, словно это была тайна, которую Байрон по малости лет понять еще не мог.
– Тот несчастный случай просто ждал меня, – вздохнула она.
– Но, мама, это же просто случайность! – напомнил ей Байрон. – Просто ошибка.
Она усмехнулась тихонько – словно выдохнула. Потом сказала:
– Значит, именно к этой случайности я и шла всю жизнь с самого начала. Я столько лет потратила зря, пыталась все наладить как следует… но все эти годы ровным счетом ничего не значили. Можно бежать и бежать сколько угодно, от богов все равно не убежишь.
«Кто же они на самом деле такие, эти боги?» – хотелось спросить Байрону. Ведь мать никогда, насколько он помнил, религиозностью не отличалась. Он никогда не видел, чтобы она ходила в церковь, никогда не видел, чтобы она молилась. Однако она все чаще заговаривала об этих богах. А по вечерам стала зажигать маленькие свечки, которые ставила на подоконник. Он заметил также, что мать, случайно обронив грубое слово, поднимает голову и смотрит куда-то в пустоту над головой, словно прося у кого-то прощения.
– Как ни странно, но это принесло мне даже некоторое облегчение, – сказала она Байрону, когда они, сильно проголодавшись, зашли поесть в новую закусочную «Уимпи». Люси рисовала каких-то мумий в розовых платьях и потихоньку складывала в пепельницу кусочки огурца. К счастью, то, о чем говорили Дайана с Байроном, она пропускала мимо ушей.
– Что принесло тебе облегчение? – спросил Байрон.
– Да тот несчастный случай. Я столько лет боялась, что вот-вот все рухнет. И вот, наконец, этот страх исчез.
– Только, по-моему, все же не стоит говорить так, будто все кончено.
Дайана, зажав губами соломинку, пила свою воду со льдом и, лишь когда стакан опустел, сказала:
– Мы не знаем, что нам делать со своей печалью. Вот в чем проблема. Мы бы и хотели от нее избавиться, да не можем.
Усилия, которые Дайана тратила на то, чтобы оставаться такой женщиной, какой она так долго старалась быть, вызывали у нее чрезмерное напряжение. Остатки сил отнимали у нее разговоры с Сеймуром и Беверли. И когда их не было рядом, она казалась Байрону какой-то бестелесной, почти прозрачной. Таким беззащитным становится одуванчик, когда с него сдуешь семена и смотришь, как они разлетаются в разные стороны. Вот и Дайана потихоньку становилась столь же обнаженной, лишенной защитной оболочки; собственно, такой она и была на самом деле.
Сразу же после того разговора в закусочной «Уимпи» Дайана вытащила из гаража мебель своей матери. Увидев, как она тащит ее через лужайку и сад в сторону луга, Байрон решил, что она собирается ее сжечь, как сожгла в тот раз и свою одежду. И очень удивился, когда несколько часов спустя обнаружил мать на берегу пруда, уютно устроившуюся в кресле возле маленького столика, на котором лежали ее журналы. Она даже поставила рядом с креслом торшер с бахромчатым абажуром, хотя включить его, конечно, было некуда. В общем, получилась настоящая гостиная, где ковром служили полевые цветы, а стенами – ясени, полукругом стоявшие поодаль, их трепещущая листва и яркие ягоды бузины заменяли обои. Потолком же было безоблачное небо.
Заметив Байрона, Дайана помахала ему рукой и крикнула:
– Иди сюда!
Он подошел, глядя, как она расставляет на столике разноцветные стаканы и кувшин с чем-то похожим на лимонад. Она даже зубочистки с маленькими бумажными зонтиками с собой прихватила и теперь втыкала их в сэндвичи с огурцом. В общем, все было, как в прежние времена, если не считать того, что пикник мать устроила на лугу у пруда. – Если хочешь, присоединяйся, – весело предложила она и указала на низенький, обитый тканью пуфик, который горестно всхлипнул, когда Байрон на него плюхнулся.
– А что, Беверли и Джини сегодня не придут? – спросил он.
Дайана встала и внимательно огляделась. Казалось, она изучает растущие поблизости деревья.
– Сегодня, я думаю, нет. – Она снова уселась в кресло и откинула голову на спинку, а руки с растопыренными пальцами вытянула на подлокотниках так, словно только что накрасила ногти и теперь их нужно подсушить. – В этом кресле обычно сидела моя мать. Это было ее любимое кресло. Иногда она даже петь начинала. Она прекрасно пела, и голос у нее был чудесный.
Байрон с трудом сглотнул застрявший в горле комок. Никогда раньше Дайана не говорила с ним о своей матери. А ему так хотелось узнать хоть что-то из ее прошлого. И он осторожно спросил, очень надеясь, что его вопрос не заставит Дайану снова надолго умолкнуть.
– А твоя мама тоже любила вот так, не в доме устроиться?
Дайана засмеялась:
– Нет. Она всегда сидела дома. Долгие годы. И никогда никуда не ходила.
– Она что, была нездорова? – Байрон не был до конца уверен, что хотел спросить именно это, но чувствовал, что должен задать этот вопрос.
– Она была очень несчастна. Если ты это хотел узнать. Но такую цену всегда приходится платить.
– За что ее приходится платить?
Мать быстро на него посмотрела и снова окинула взглядом полукруг деревьев. Их ветви колыхал легкий ветерок, и листья шуршали, точно бегущая вода. Небо над головой было поистине первозданной голубизны.
– Такую цену приходится платить за ошибку, – сказала Дайана. – Око за око. Зуб за зуб. От судьбы не уйдешь. И так далее.
– Не понимаю. Почему око за око? Что за ошибку она совершила?
Мать закрыла глаза. Казалось, еще немного, и она соскользнет в сон.
– Я ее ошибка, – тихо сказала она и замерла. И так долго оставалась совершенно неподвижной, что Байрон был вынужден слегка ее подтолкнуть, чтобы проверить, не умерла ли она.
Ему хотелось задать матери множество вопросов. Ему хотелось понять, почему ее мать, его бабушка, всю жизнь просидела дома и что имела в виду Дайана, когда назвала себя ее ошибкой. Но она уже принялась что-то мурлыкать себе под нос – так, чтобы слышала только она и больше никто, – и выглядела теперь такой мирной и спокойной, что у Байрона не хватило духу беспокоить ее своими вопросами. Он съел несколько ее очаровательных миниатюрных сэндвичей и налил себе лимонада, который оказался настолько сладким, что у него заныли зубы.
У подножия холмов все еще виднелись островки красных маков, и казалось, будто земля кровоточит. Байрону совсем не хотелось так думать о маках, но теперь, когда он уже успел так о них подумать, воспринимать их как-то иначе не получалось.
– Я могла бы прямо здесь и спать. – Он удивился, услышав голос матери.
– По-моему, ты тут и спала только что.
– Нет, я могла бы принести сюда кровать, одеяло и спать под звездным небом.
– Ну, это не совсем безопасно, – сказал Байрон. – Вдруг до тебя лисы доберутся? Или змеи?
Дайана засмеялась:
– О, вряд ли они мной заинтересуются! Я им не нужна. – Она взяла один из своих сэндвичей и осторожно оторвала от хлеба корочку, подцепив ее большим и указательным пальцами. – Дело в том, что я вряд ли отношусь к числу, так сказать, домашних существ. Скорее уж птица вольная. И стены родного дома – не моя стихия. Возможно, как раз в этом вся моя беда.
Байрон смотрел на луг, покрытый колышущимися травами, среди которых мелькали розовые цветы лихниса, вика, копья желтого подмаренника, скабиозы и резные лепестки фиолетовой луговой герани. Под голубыми небесами пруд казался темно-зеленым и густым, как суп, из-за бархатистых плетей водорослей. Он заметил, что мать воткнула себе в волосы маленький розовый цветок, и перед ним вдруг возник иной ее образ – в облачении из луговых цветов. Но образ этот отнюдь не был пугающим. Он был прекрасен.
– И все-таки, – сказал он, – по-моему, не стоит рассказывать папе, если он позвонит, что тебе хочется спать не дома, а на лугу, под звездами.
– Да, возможно, ты прав. – Мать кивнула и вдруг, к его большому удивлению, подмигнула – словно они только что вместе задумали какую-то шутку или хранят какую-то тайну, известную только им двоим, вот только он понятия не имел, что это за тайна.
– В юности я спрашивала мать, – пропела Дайана на мотив известной песенки, немного перевирая слова, – кем же мне придется стать? Стану я знаменитой? Иль буду богата?..
Байрон незаметно встал с пуфика и потихоньку побрел назад, к дому. На каждом шагу из травы во все стороны так и разлетались кузнечики, треща, как шутихи. Через некоторое время он остановился и оглянулся: мать по-прежнему была там, у пруда. Над головой у нее кружилось облачко летних мушек.
Придя на кухню, Байрон достал из холодильника молоко, налил его в стаканы и предложил Люси остатки печенья. Он по-прежнему думал о матери – как она сидит там, снаружи, и, может быть, спит или поет, мурлычет свои песенки и понемногу дремлет, и от этих мыслей ему вдруг захотелось плакать. Он и сам не понимал почему: ведь Дайана вовсе не выглядела несчастной. Интересно, думал он, а что, если она и впрямь решится проспать всю ночь у пруда? Тогда, наверно, стоит хоть одеяло ей отнести? И подушку?
Но внутреннее чутье подсказывало Байрону, что мать права: к «домашним существам» ее и впрямь никак нельзя причислить. Теперь, представляя себе ее внутренний мир, он больше уже не видел тех крошечных украшенных самоцветами ящичков, составлявших, как ему раньше казалось, ее суть, они бесследно исчезли, да и сама она уже находилась как бы вне пределов этого дома или хотя бы своего автомобиля. У Байрона было такое ощущение, словно он уже потерял ее, даже не заметив, как она ушла. Он чувствовал, что Дайана является частью чего-то такого, чего он не знает и не понимает, и вытащить ее оттуда, отделить от этого неведомого совершенно невозможно. Да, наверное, она правильно поступает, не пытаясь превратиться в «домашнее существо». Права и в том, что именно из-за попыток превратиться в такое существо и начались все ее беды. Люди сами пытаются сделать себя ручными, пытаются приучить себя жить внутри, за стенами и закрытыми окнами своего дома, они старательно подыскивают всякие украшения, безделушки, надеясь сделать стены и окна родными, своими собственными, тогда как им, возможно, как раз нужно было бы освободиться от этих пут, вырваться на волю. И Байрон снова спросил себя: разве такой человек, как Дайана, может называть себя ошибкой?
– А где мамочка? – спросила Люси.
– Она там, за домом, малыш. Ей захотелось немного прогуляться.
Снова зазвонил телефон, но кто бы это ни был, Джеймс или отец, у Байрона сейчас не было сил разговаривать ни с тем, ни с другим. Вместо этого он устроил с Люси игру в догонялки, стараясь ее развеселить, и в итоге загнал ее наверх, потом он напустил ей полную ванну воды и нашел ее любимую пену, дававшую огромное количество пузырьков. После купания он закутал сестренку в большое махровое полотенце и досуха вытер, как это сделала бы мать, и даже между пальчиками ног у нее протер.
– Ты меня щекочешь, – сказала Люси, но не засмеялась. Вид у нее был печальный.