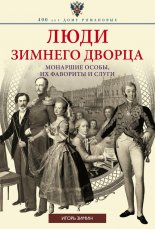Операция «Перфект» Джойс Рейчел

И он продолжал искать. В конце концов, пальто Дайаны по-прежнему висело на вешалке. А у входа по-прежнему стояли ее туфли. Она столь внезапно исчезла из его жизни, что ему не хватало доказательств, чтобы убедиться, что это окончательное исчезновение. Он каждое утро ждал ее возле пруда. Он даже ухитрился снова перетащить через ограду ее любимое старое кресло. Он сидел в этом кресле там, где любила сидеть она, у самой кромки воды, и ему казалось, что подушки кресла хранят форму ее тела и ее запах. Он никак не мог уразуметь, каким образом за те несколько мгновений, которые нужны, чтобы всего лишь высморкаться, может прерваться нечто столь драгоценное и важное, как жизнь его матери.
На похоронах присутствовали матери всех его одноклассников, а также большая часть отцов. Был и кое-кто из мальчиков, а вот девочек на похороны не пустили. Женщины красиво убрали церковь белыми лилиями и аронником, а для поминок приготовили йоркскую ветчину. Угощение должно было быть обильным. На организацию похорон и поминок было потрачено столько сил, что эта пышная церемония больше напоминала свадьбу, разве что не было фотографа и все гости с головы до ног были в черном. Из напитков подавать собирались только чай и апельсиновый сок, но Андреа Лоу на всякий случай прицепила к поясу фляжку с бренди. Вряд ли всем удастся безболезненно пережить столь печальное утро, многим, возможно, понадобится помощь.
А все пристрастие к выпивке – эти слова Байрон в тот день слышал не раз. Все говорили о том, что в последнее время бедняжка Дайана редко бывала трезвой. Никто впрямую не упоминал о выступлении Беверли, но многим явно запомнилось, как в тот день вела себя Дайана. Но все говорили: ах, какая ужасная трагедия! Подумать только, молодая женщина, мать двоих детей, жена такого замечательного человека, как Сеймур! А когда были получены результаты вскрытия, общественность испытала новый шок: у Дайаны в желудке была только вода и остатки яблока. Впрочем, в крови у нее были обнаружены антидепрессанты. Ее легкие раздулись от воды и одиночества, равно как и печень, селезенка и мочевой пузырь. Даже мельчайшие поры в ее костях были заполнены водой. Но ни малейших следов алкоголя обнаружено не было.
– Ну да, я, например, только один раз видел, как мама пила вино, – рассказывал Байрон полицейскому, пришедшему, чтобы опросить членов семьи погибшей. – Это было в ресторане, ей принесли бокал шампанского. Правда, она тогда всего несколько глотков отпила, а остальное оставила. По-настоящему она любила только воду. И все время пила ее со льдом. Я не знаю, надо ли вам это записывать, но тогда в ресторане я ел томатный суп. А еще мама разрешила мне заказать коктейль из креветок, хотя до ланча было еще далеко.
Собственно, лишь в тот единственный раз Байрон смог так много сказать о матери, с момента ее гибели он почти все время молчал. И когда он умолк, в комнате еще долго стояла напряженная тишина; казалось, будто даже воздух замер в ожидании, надеясь, что он продолжит рассказ. Байрон еще успел заметить выжидающие взгляды взрослых, устремленные на него, раскрытую записную книжку полицейского, и вдруг пропасть, в которой исчезла его мать, разверзлась прямо у него под ногами. И он зарыдал, и плакал долго и отчаянно, и никак не мог остановиться. Отец нервно откашлялся. Полицейский велел Андреа Лоу «сделать хоть что-нибудь». Она сделала то, что сочла наилучшим, – принесла печенье и стала угощать присутствующих. Это действительно несчастный случай, сказал полицейский, обращаясь к Андреа, и даже голос не понизил, словно полагая, что все убитые горем родственники погибшей разом оглохли. Да, повторил он, обыкновенный несчастный случай, хоть и ужасный.
Допросили частного врача с Дигби-роуд, и тот подтвердил, что в течение нескольких лет снабжал миссис Дайану Хеммингс триптизолом. Он сказал, что у этой дамы была на редкость ранимая душа. Она обратилась к нему, поняв, что не в силах приспособиться к новому окружению. Врач сказал, что очень огорчен случившимся, и выразил соболезнования семье покойной.
Находились, разумеется, и другие объяснения гибели Дайаны, и самым распространенным было самоубийство. То есть многие считали, что она попросту утопилась. Как же иначе объяснить, что у нее в карманах обнаружили камни? Одни серые, другие голубые, а некоторые еще и ленточкой перевязанные. Все эти истории Байрон, разумеется, подслушал, понимая, что говорят о его матери, – об этом легко было догадаться по взглядам, которые на него бросали. При его приближении люди сразу замолкали и начинали снимать с рукава воображаемую пылинку. Только ведь никого из этих людей там не было! Они и понятия не имели, что на самом деле там происходило. Они же ничего не видели, а он собственными глазами видел, что случилось в тот вечер на пруду, когда вдруг померк дневной свет и начался ливень. Она шла по воде. Шла и слегка покачивалась, словно в такт некой звучавшей в воздухе музыке, а потом вдруг вскинула руки вверх и упала. И вернулась в свою стихию – но не в землю, а в воду.
Городская церковь была буквально забита людьми. Те, что пришли на отпевание последними, были вынуждены стоять. Несмотря на довольно теплое осеннее солнце, многие надели зимние пальто, перчатки и шляпы. В воздухе чем-то сильно пахло, и этот запах был столь мощным и сладким, что Байрон никак не мог определить, чего в нем больше – радости или печали. Он сидел впереди рядом с Андреа Лоу и видел, как посматривают на него остальные прихожане. Они расступались, когда он проходил мимо, и приглушенными голосами говорили, что горюют с ним вместе. И по тому, как, смущенно потупившись, они это говорили, Байрон понимал, что эта тяжкая утрата как бы придала ему веса и значимости, и, как ни странно, испытывал гордость. Джеймс сидел, опустив голову, чуть дальше рядом со своим отцом, и хотя Байрон несколько раз оборачивался к нему и даже улыбался, чтобы показать, как мужественно он встречает выпавшее на его долю испытание, Джеймс даже головы ни разу не поднял и ни разу на Байрона не посмотрел. Мальчики не виделись с того рокового дня.
Когда появились те, кто должен был нести гроб, многие из собравшихся не выдержали. Беверли и вовсе захлебнулась рыданиями, и Уолту пришлось вывести ее из церкви, обняв за плечи. Они, нелепо пошатываясь и прихрамывая, побрели по приделу, похожие на краба со сломанным панцирем, и по дороге сбили вазон с прекрасными белыми лилиями, которые, падая, осыпали их черные траурные одежды желтой пыльцой. Оплакивающие стояли неподвижно, глядя на покойницу в гробу, и тихо пели псалмы, но пение не могло заглушить воплей Беверли, которая, выйдя на осеннее солнышко, зарыдала в голос. «Может, и мне следует зарыдать? – думал Байрон. – Ведь умерла, в конце концов, моя мать, а не мать Беверли? Может, мне даже станет чуточку легче, если я тоже устрою такой отвратительный шум?» Но тут взгляд Байрона упал на отца. Сеймур стоял очень прямо, застыв, как изваяние, у гроба жены, и Байрон тоже невольно выпрямил спину. Он слышал собственный голос, громче всех звучавший в общем хоре, и ему казалось, что он показывает всем остальным путь, ведет их за собой.
Солнце уже зашло, когда в Кренхем-хаусе начались поминки. Беверли и Уолт, извинившись, уехали домой. Прием получился как раз такой, какой понравился бы Дайане, вот только ее самой на этом приеме и не было. Ее опустили в землю, в такую глубокую могилу, что у Байрона даже голова закружилась, когда он туда заглянул. Потом могилу забросали землей и завалили розами, которые «покойница просто обожала» – словно теперь ей не все равно, думал Байрон, – и поспешили прочь.
– Ты должен поесть, Байрон, – сказала Андреа Лоу. Мать новичка принесла ему кусок фруктового пирога и салфетку. Пирога Байрону совсем не хотелось, ему вдруг показалось, что он вряд ли когда-нибудь снова захочет есть, у него было ощущение, что внутри у него ничего не осталось, и теперь там царит пустота, но все-таки он счел невежливым отказаться от принесенного пирога и в один присест, почти не дыша, проглотил его, попросту запихнув в рот сразу весь кусок. А когда мать новичка спросила: «Ну что, теперь лучше?» – он, опять же из вежливости, сказал «да». И даже спросил, нельзя ли ему еще кусочек.
– Бедные, бедные дети! – зарыдала Диэдри. Она все время цеплялась за Андреа и дрожала, точно куст на ветру.
– Для Джеймса это был страшный удар, – горестно прошептала Андреа. – Особенно тяжело пришлось по ночам. И мы с мужем решили… – Она украдкой бросила на Байрона такой взгляд, что он сразу понял: ему следует оттуда убраться. – Мы решили, что пора предпринять определенные шаги… – Байрон поставил на стол пустую тарелку из-под пирога и ускользнул прочь.
Джеймса он нашел у пруда. По приказу Сеймура пруд осушили. Местный фермер забрал к себе гусей – и уток, кажется, тоже. Впрочем, утки, возможно, просто улетели. Байрон в очередной раз удивился, каким мелким, каким незначительным стал этот пруд без воды и птиц. Зеленые заросли крапивы, мяты и морковника, наступая на него, вдруг словно замерли, остановившись у границы, где раньше начиналась вода, но за этой границей теперь блестела на солнце не вода, а черная грязь, монолитность которой нарушалась оставшимися на бывшем дне толстыми ветками и камнями. То были остатки моста, который Байрон и Джеймс когда-то так старательно строили. Торфяной островок, некогда находившийся в центре пруда, выглядел всего лишь жалким холмиком. Было трудно, почти невозможно понять, как Дайана могла потерять равновесие и утонуть в столь ничтожном водоеме.
Джеймс, должно быть, просто перелез через ограду и съехал по глинистому откосу вниз, на дно пруда, его «церковные» брюки были в ужасающем состоянии. Он стоял в самом центре бывшего водоема и тянул на себя одну из самых длинных ветвей, вцепившись в нее обеими руками и рыча от усилий. Но толстая ветка не поддавалась, ее засосало глубоко в ил, и Джеймсу никак не удавалось ее сдвинуть. Его выходные туфли и рукава «взрослого» пиджака были буквально облеплены жидкой грязью. Над головой у него висело целое облако слепней.
– Что ты делаешь? – крикнул Байрон.
Джеймс даже не взглянул на него и продолжал тянуть, хотя из этого ровным счетом ничего не выходило.
Байрон перелез через ограду, осторожно спустился по берегу и остановился на самом краю пруда: ему не хотелось доканывать туфли, в которых он хоронил мать. Он снова окликнул Джеймса, и на этот раз тот оглянулся и, на какое-то время перестав тянуть ветку, попытался прикрыть лицо согнутой в локте рукой. Только все равно было видно, что он плакал. Лицо у него было таким красным и опухшим, словно его кто-то здорово избил.
– Тебе с этой веткой не справиться, она слишком большая! – крикнул Байрон.
Из груди Джеймса вырвался какой-то скрежет, словно ему не под силу стало терпеть ту боль, что скопилась в его душе, и он понемногу выпускал ее наружу.
– Зачем она это сделала? Зачем? – горестно вопрошал он. – Я все время думаю только о том… – И он, не договорив, снова со стоном схватился за конец толстой ветки, но руки у него были настолько перепачканы илом, что все время соскальзывали, и два раза он чуть окончательно не утопил конец ветки в жидкой грязи.
Байрон совершенно не понимал, почему он все время повторяет это «зачем».
– Но она совершенно не собиралась падать в воду, – сказал он. – Это чистая случайность. – Услышав эти слова, Джеймс так зарыдал, что у него даже слюни стали разлетаться изо рта во все стороны.
– Зачем… зачем… зачем она пыталась перейти пруд по мосту? – завывал он.
– Она несла гусиное яйцо. Она не хотела, чтобы яйцо досталось воронам. Она просто поскользнулась.
Джеймс яростно помотал головой. Так яростно, что у него все тело затряслось и задергалось, и он чуть не потерял равновесие, но тяжеленную ветку все же из рук не выпустил.
– Нет, это все из-за меня!
– Из-за тебя? – удивился Байрон. – Ты-то тут при чем?
– Разве она не знала, что наш мост опасен?
И перед глазами Байрона снова возникла мать. Она махала ему рукой с середины пруда и показывала спасенное гусиное яйцо. Конечно же, она шла вовсе не по воде! Конечно! Несмотря на то что солнце пригревало довольно сильно, у Байрона по всему телу побежали мурашки.
– Я должен был проверить грузоподъемность моста! – сквозь рыдания выкрикивал Джеймс. – Я сказал тебе, что непременно ей помогу, но я все делал неправильно! Даже моя идея насчет концерта оказалась никуда не годной. Как и все то, что исходило от меня! Это я, я во всем виноват!
– Да нет, ты вовсе не виноват! Все случилось из-за двух добавленных секунд. Именно с них все и началось.
Но, к ужасу Байрона, после этих слов Джеймс взвыл с новой силой. Ему никогда еще не доводилось видеть своего умного и сдержанного друга в таком состоянии – таким отчаявшимся, таким яростным, почти обезумевшим от горя. Джеймс по-прежнему дергал за конец той толстой ветки, но рывки были настолько жалкими и неэффективными, что казался он почти побежденным.
– Зачем только ты меня слушал, Байрон? Я же во всем ошибался! Неужели ты до сих пор этого не понял? Я даже насчет тех двух секунд и то ошибся!
– Что ты хочешь этим сказать? – Байрон не понял почему, но ему вдруг стало ужасно трудно дышать, он никак не мог набрать в легкие достаточно воздуха. – Но ты же прочел об этом в своей газете!
– После того, как твоя мама… – Закончить фразу Джеймс не сумел и предпринял вторую попытку: – После того, как она… – Нет, все равно у него ничего не получалось, и он, собрав последние силы, снова дернул за конец ветки, обрушивая на нее весь свой гнев, все отчаяние. – После… В общем, я провел дополнительное расследование и выяснил, что никаких двух секунд в июне не прибавляли. Одну секунду прибавили в начале года, а вторую прибавят в конце. – И он снова разрыдался, страшно оскалившись, и выкрикнул: – Тебе тогда просто померещилось, что эти секунды прибавили!
Байрону показалось, что его со всей силы ударили под дых, он даже за живот схватился. И даже, кажется, пошатнулся. Перед глазами у него точно в свете молнии мелькнула его собственная рука, которой он возбужденно размахивал у матери перед носом, пытаясь объяснить, что собственными глазами видел, как секундная стрелка на его наручных часах сдвинулась на две секунды назад. Именно в это мгновение их машина и вильнула влево[61].
И тут оба услышали, что воздух в саду и на лужайке буквально звенит от криков. Фигуры в черном рыскали по всему саду, все звали Джеймса. А Байрона никто не звал. И, услышав эти крики, он впервые понял, что в его отношениях с Джеймсом произошел некий сдвиг, что-то сломалось в них, и починить поломку уже невозможно.
Он тихо сказал:
– Тебя же мать ищет. Бросил бы ты эту ветку и шел к ней.
Джеймс послушался. Но опустил ветку в грязь так бережно, словно это было чье-то тело. Потом с силой вытер лицо рукавом и двинулся к берегу, где стоял и ждал его Байрон. Байрон протянул ему свой носовой платок, но Джеймс платок не взял и, стараясь не поднимать глаз, сказал:
– Больше мы с тобой видеться не будем. У меня со здоровьем неважно. Даже школу придется сменить. – Он гулко сглотнул.
– А как же колледж?
– Приходится думать о моем будущем, – сказал Джеймс, но Байрону все сильней казалось, что это говорит кто-то другой. – А этот колледж – далеко не самое лучшее для меня место.
Байрон хотел задать ему еще несколько вопросов, но вдруг почувствовал, что в левый карман скользнула, слегка оттянув его, какая-то тяжелая вещь.
– Это тебе, – сказал Джеймс.
И, сунув руку в карман, Байрон ощутил под пальцами что-то гладкое и увесистое, но времени, чтобы посмотреть, у него не хватило, потому что Джеймс вдруг бросился бежать. На берег, ставший после осушения пруда довольно высоким, он вскарабкался почти на четвереньках, цепляясь руками за длинную траву. Иногда трава обрывалась, и он чуть не падал навзничь, но продолжал упорно карабкаться вверх. Потом чуть ли не кубарем перевалился через ограду и помчался через луг к дому.
Байрон смотрел ему вслед. Перепачканный глиной и илом пиджак Джеймса съехал у него с плеча, казалось, трава цепляется ему за ноги, пытаясь его разуть, и он несколько раз он споткнулся и чуть не упал. Джеймс убегал от Байрона все дальше и дальше и, наконец, нырнул в калитку. Возле дома стояла группа взрослых, и Андреа тут же бросилась сыну навстречу, схватила его за плечи и отвела в сторонку. Мистер Лоу уже завел машину, и Андреа сунула Джеймса на заднее сиденье, с силой захлопнув дверцу, словно опасалась, что с ним случится очередная истерика.
Байрон понимал, что друг его покидает, и, пытаясь остановить то, что столь неумолимо на них надвигалось, стремглав взлетел вверх по склону и перемахнул через ограду. Похоже, при этом он сильно ударился головой, а может, и в крапиву угодил, потому что вдруг почувствовал, что ноги нестерпимо зудят, а в висках бьется острая боль. Он мчался, путаясь в густой траве, прямо через луг, рассчитывая перехватить машину мистера Лоу, неторопливо движущуюся по дорожке. «Джеймс! Джеймс!» – задыхаясь, кричал он, и от каждого крика в груди у него жгло так, словно там была кровавая рана. Но Байрон и не думал останавливаться. Настежь распахнув калитку, он стрелой пролетел через сад, срезая углы, и выбежал на гравиевую дорожку. Мелкие камешки больно били по ногам. Время от времени Байрон налетал на нижние ветви буков, росших вдоль дорожки и еще покрытых листвой, голова у него кружилась все сильнее. Машина родителей Джеймса уже почти выехала на шоссе. «Джеймс! Джеймс!» – кричал Байрон, он еще мог различить на заднем сиденье силуэт своего друга и рядом с ним – крупную фигуру Андреа Лоу. Но даже если они его и услышали, ход автомобиль так и не замедлил. А Джеймс так и не оглянулся. Потом автомобиль свернул с подъездной дорожки и вскоре исчез.
И в это мгновение, когда его чувства достигли точки кипения, когда отчаяние могло, казалось, поглотить его целиком, утопить его в себе, как в болоте, Байрон вдруг понял, что больше совсем ничего не чувствует и внутри у него абсолютно пусто.
Глава 4
Спасение
Хотя погода стоит неестественно теплая для этого времени года, Джим на пустошь не ходит. Он и на работу не ходит. Он даже до телефонной будки дойти не может, чтобы позвонить и объясниться с мистером Мидом. Он справедливо полагает, что с работы его, скорее всего, уволят, но у него нет сил, чтобы испытывать по этому поводу какие-то чувства, тем более что-то предпринимать. Он даже посадки свои больше не проверяет. Сутки напролет он проводит в своем домике на колесах, совершая ритуалы, поскольку они теперь никогда не кончаются.
Иногда, мельком глянув в окно, Джим видит, что жизнь продолжается без него. Это все равно что махать рукой вслед давно ушедшему поезду. Жители Кренхем-вилледж выходят на улицу с подарками, полученными на Рождество. Дети хвастаются новыми меховыми сапожками и велосипедами, а их отцы – пылесосами для уборки листвы. Один из знакомых Джиму иностранных студентов получил в подарок санки, и вся их компания, несмотря на полное отсутствие снега, отправляется на горку, надев теплые шапки и дутые куртки. Человек, у которого во дворе живет злая собака, повесил себе на ворота новый знак, предупреждающий злоумышленников, что у него есть не только злая собака, но еще и телекамеры повсюду. Джиму даже приходит вдруг в голову, что злая собака могла и умереть, но потом он вспоминает, что за все это время ни разу вообще никакой собаки не видел, ни злой, ни доброй, так что, возможно, старое предупреждение было самым настоящим обманом. Вот и знакомый старик опять торчит у окошка. Да еще и бейсболку на себя напялил.
Значит, вот как нужно вести себя, чтобы быть таким, как все. Чтобы со всеми уживаться. И это действительно совсем нетрудно, но Джим этого сделать не может.
Весь его домик изнутри крест-накрест заклеен скотчем. В запасе у него остался всего один рулон, и он не знает, что будет делать, когда лента закончится. Впрочем, он догадывается – и эта догадка приходит ему в голову, точно медленное озарение, – что его самого тоже надолго не хватит; вряд ли он намного переживет последний рулон клейкой ленты. Он давно уже ничего не ел и совсем не спал. Так что он приканчивает все вокруг, в том числе и себя.
Джим ложится на кровать. Над ним люк в крыше кемпера, крест-накрест заклеенный клейкой лентой. Голова у него кружится, в висках стучит кровь, пальцы жжет. Он вспоминает врачей из «Бесли Хилл» и всех тех людей, которые пытались ему помочь – мистера Мида, Полу, Айлин. Он вспоминает своих родителей. С чего же все это началось? С тех двух секунд? С моста через пруд? Или это было в нем с самого начала? Точнее, с того момента, когда его родители решили, что их сына непременно должно ждать золотое будущее?
Джим чувствует, как дрожит все его тело, как сотрясается домик на колесах, как бьется сердце, точно хочет выскочить из груди, как дрожат стекла в окнах – все вокруг начинает разваливаться. «Джим, Джим!» – кричат ему вещи, но он уже превратился в ничто. Он – это всего лишь «привет, привет». Он – всего лишь полоски скотча…
– Джим! Джим!
Но он все глубже погружается в сон, в свет, в ничто. А вокруг все стучит – двери, окна, стены. Весь его домик глухо стучит, словно живое бьющееся сердце. И в тот самый миг, когда Джим чувствует, что почти совсем превратился в ничто, люк в крыше его домика слетает с петель, приподнятый с помощью какого-то рычага, и в лицо ему ударяет поток холодного воздуха. В отверстии люка виднеется небо и чье-то лицо, наверняка женское, да, скорее всего, это женщина, это должна быть женщина. Но лицо все же оказывается мужским, хотя и очень испуганным, и следом за ним в люк просовываются мужская рука, затем мужское плечо, и мужской голос зовет:
– Джим, Джим! Вставай, дружище! Мы пришли!
Глава 5
Спасение
Отец Байрона нанял женщину средних лет присматривать за детьми. Ее звали миссис Сассекс. Она носила твидовые юбки и плотные колготки, а на лице у нее красовались два волосатых родимых пятна, похожие на пауков. Она сказала детям, что ее муж – человек военный, а потому сейчас его здесь нет.
– Это значит, что он умер, как мамочка? – спросила Люси.
Нет, это значит, что он получил назначение за границу, пояснила миссис Сассекс.
Сеймуру она сказала, чтобы, приезжая домой на выходные, он брал от вокзала такси, раз сам не хочет водить машину. На выходные миссис Сассекс обычно отправлялась к сестре, но перед уходом ставила в холодильник кастрюлю с супом, запеканку с овощами и пирожки, а также оставляла на кухне подробную инструкцию, что и как разогревать. Иногда Байрону казалось, что она вполне могла бы взять к своей сестре и их с Люси, но она не приглашала. Отец весь уик-энд проводил у себя в кабинете, потому что у него скапливалось слишком много работы, которую нужно было «подогнать». Иногда, поднимаясь наверх после такого объема работы, он падал на лестнице. Иногда он пытался завести разговор с детьми, но слова, вылетавшие у него изо рта, пахли чем-то кислым, противным. И Байрон постоянно чувствовал – хотя сам Сеймур никогда об этом не говорил, – что отец во всем винит Дайану.
Но больше всего Байрона удивляло и потрясало то, что всего через несколько недель после смерти матери его отец как бы тоже умер. Правда, умер совсем не так, как Дайана. Это была другая смерть: смерть заживо, смерть, когда не хоронят. И то, что отец умер, оставаясь как бы живым, мучило Байрона и приводило его в ужас, хотя и совершенно иначе, чем смерть матери и ее исчезновение из его жизни. Особенно тяжело было быть свидетелем постепенного умирания отца, постоянно видеть, до какой степени Сеймур изменился. После того как Дайана от него ускользнула, Сеймур перестал быть таким человеком, каким его всегда представлял себе Байрон, – который стоит как бы в стороне от семьи, от детей, но всегда рядом с Дайаной, точно скала возвышаясь у нее за спиной, заставляя ее делать то, что он считает нужным: а теперь, Дайана, перестраивайся в левый ряд, пожалуйста, Дайана, надень какую-нибудь приличную юбку. Похоронив жену, Сеймур, казалось, полностью утратил душевное равновесие. Иногда он за целый день не произносил ни слова. А иногда бушевал – вихрем носился по дому, кричал, словно надеясь вспышкой гнева заставить Дайану вернуться назад.
Однажды Байрон случайно услышал, как отец говорит, что просто не знает, как быть с детьми. Достаточно на них взглянуть, и он сразу видит перед собой Дайану.
Но это же совершенно естественно, отвечали ему.
Нет, ничего «естественного» в этом не было.
А жизнь между тем продолжалась, словно гибель Дайаны никоим образом ее не затронула. Дети снова ходили в школу. Надевали по утрам школьную форму. Брали с собой ранцы. Но теперь на игровой площадке матери одноклассников Байрона собирались уже вокруг миссис Сассекс. Они приглашали ее выпить кофе и расспрашивали, как идут дела в семье. Миссис Сассекс вела себя сдержанно. Лишь однажды она сказала, что была удивлена атмосферой, царившей у них в доме, она показалась ей слишком неприветливой и холодной для маленьких детей. Этому дому не хватает счастья, сказала она. И женщины понимающе переглянулись, словно говоря, что уж им-то повезло гораздо больше.
Без Джеймса и Дайаны Байрон чувствовал себя никому не нужным, почти изгоем. Несколько недель он с нетерпением ждал от Джеймса письма с адресом его новой школы, но так ничего и не получил. Однажды он даже попытался ему позвонить, но, едва услышав голос, Андреа тут же повесила трубку. На уроках в школе он сидел, уткнувшись в свою тетрадь, но при этом забывал записывать то, что говорит учитель. И на переменах тоже предпочитал одиночество. Как-то раз он услышал, как кто-то из учителей назвал обстоятельства его, Байрона, жизни «весьма сложными» и прибавил: вряд ли от этого мальчика следует теперь многого ожидать.
Однако было бы неправдой сказать, что Байрона так уж сильно терзала тревога. Насчет его способности тревожиться по любому поводу Дайана оказалась совершенно неправа, как, впрочем, неправа она оказалась и во многом другом. Однако он, пожалуй, действительно слишком много думал о ней. Иногда он представлял себе, как она лежит там, в земле, в своем гробу, а вокруг тьма, но думать об этом было совершенно невыносимо, и он старался прогнать эти мысли и представить себе мать такой, какой она была при жизни. Он любил вспоминать, как чудесно светились ее голубые глаза, какой приятный у нее был голос, с какой изящной небрежностью она накидывала на плечи кардиган. Но, вспоминая об этом, он начинал еще больше тосковать. В итоге он уговорил себя как можно чаще думать о душе Дайаны, а не о том, какая она была при жизни, не о ее живом теле, запертом теперь под землей. Но справиться со своими мыслями удавалось далеко не всегда, и порой среди ночи он просыпался в горячем поту, тщетно пытаясь оттолкнуть от себя страшный образ Дайаны, пытающейся снова к нему вернуться, бьющейся в гробу, царапающей крышку и пронзительно зовущей его, Байрона, на помощь.
Он никому об этих видениях не рассказывал, как никому не смог бы признаться в том, что именно он положил начало той череде событий, которые привели Дайану к смерти.
«Ягуар» все это время стоял в гараже, а потом однажды, уже в конце октября, приехал эвакуатор и увез его. На месте «Ягуара» появился маленький «Форд». Миновал октябрь. Последние листья, за полетом которых так любила наблюдать Дайана, срывались с ветвей, кружили в воздухе и собирались под ногами в скользкий ковер. Ночи стали длиннее, пошли проливные дожди. Дули сильные ветры, сметавшие со своего пути ворон, пытавшихся сопротивляться непогоде. Однажды за ночь вылилось столько дождя, что пруд, осушенный по приказанию Сеймура, начал снова заполняться водой, и его опять пришлось осушать. Живые изгороди оголились, почернели, с них капала вода, зеленым оставался один ломонос. Люси похоронила всех своих сломанных кукол.
В ноябре налетели холодные ветры, над пустошью повисли плотные тяжелые тучи, казалось, они укрыли землю не хуже, чем кровля из нескольких слоев шифера. Вернулись туманы, порой они весь день напролет висели над домом. Зима была на носу; однажды буря, предвестница зимы, сломала и повалила один из старых ясеней, ветки и обломки ствола еще долго валялись по всему саду, и никто их не убирал. В декабре пришли первые метели. Ученики шестого класса школы «Уинстон Хаус» каждый день упорно готовились к экзаменам. Некоторым даже наняли частных репетиторов. Пустошь постепенно меняла цвет – сперва стала пурпурной, затем оранжевой, а затем бурой.
Время все лечит, говорила миссис Сассекс. Она уверяла Байрона, что со временем острота утраты ослабнет. Но в том-то и дело, что ему совсем не хотелось расставаться с ощущением утраты – единственным, что у него осталось от матери. Если время залечит и эту рану, все станет так, словно Дайаны никогда и не было на свете.
Однажды Байрон беседовал на кухне с миссис Сассекс об испарениях, и вдруг она бросила нож, которым что-то резала, и вскрикнула: «Ой, Байрон!» Оказалось, она поранила себе палец.
Собственно, присутствие Байрона не имело никакого отношения к тому, что она порезалась. Да она его и не обвиняла. Преспокойно заклеила порез пластырем и продолжила чистить картошку, но в связи с этим случаем у Байрона возникли новые мысли. Он гнал их, но они все лезли и лезли в голову. Донимали его даже во сне. Он представлял, как мать в своем гробу под землей пронзительно кричит и зовет его. Вспоминал, как миссис Сассекс промывала порезанный палец под краном, а вода становилась красной от крови. Из-за этих мыслей в нем крепла уверенность: следующей будет Люси, и травма, которую получит его маленькая сестренка, тоже будет на его совести, как и тот несчастный случай на Дигби-роуд, как и порез на пальце у миссис Сассекс.
Сперва Байрон скрывал свои страхи. Иногда попросту старался выйти из комнаты, если Люси туда входила, а если не мог выйти – если все, скажем, сидели за обеденным столом, – принимался что-то мурлыкать себе под нос, стараясь ни о чем не думать. Он стал на ночь приставлять лестницу к окну Люси, чтобы, если что-то случится, она легко могла бы выбраться наружу и спастись. Но однажды утром он забыл вовремя убрать лестницу, и Люси, проснувшись и выглянув в окно, увидела ее, испугалась, с криком выбежала в холл, поскользнулась и упала. Ей пришлось наложить на лбу, прямо над левым глазом, три шва, и это лишь подтвердило серьезность опасений Байрона. Он был прав, считая себя невольной причиной всяких увечий.
Затем ему стало казаться, что он представляет опасность и для многих других: для одноклассников и их матерей, для миссис Сассекс и даже для людей, совершенно ему незнакомых, тех, кого он видит из окна автобуса, сидя позади миссис Сассекс и Люси. Байрон опасался, что невольно, возможно, уже нанес кому-то ущерб. Может, стоит ему подумать о чем-то ужасном, о том, что он может причинить кому-то боль или вред, и это сбывается? Может быть, он действительно на такое способен – а иначе откуда у него вообще такие мысли? Иногда Байрон сам наносил себе незначительные увечья, дабы показать людям, что он нездоров, например, мог нарочно порезаться или разбить себе нос до крови, но на его «склонность к членовредительству», похоже, никто не обращал внимания. И ему становилось стыдно. Он натягивал рукава рубашки до середины кисти, скрывая очередной порез на руке и понимая, что должен сделать нечто совсем иное, чтобы прогнать от себя подобные мысли.
Когда на школьной площадке стало известно, откуда у Люси на лбу три шва, Диэдри Уоткинс позвонила Андреа Лоу, и та предложила миссис Сассекс свозить Байрона к доктору, «потрясающему парню», хорошему знакомому Андреа. На это миссис Сассекс ответила, что мальчику нужно только одно: чтобы его хоть иногда покрепче обняли и приласкали. И тогда Диэдри Уоткинс позвонила Сеймуру. А через два дня миссис Сассекс отказалась от места.
У Байрона сохранилось очень мало воспоминаний о визите к психиатру. Но вовсе не потому, что там ему дали какое-то лекарство или как-то его обидели. Все было совсем не так. Просто, чтобы не бояться, он тихонько напевал что-то себе под нос, но, поскольку психиатр повысил голос, был вынужден запеть уже громче. И тогда психиатр попросил его лечь и спросил, нет ли у него каких-либо неестественных мыслей.
– Я сам неестественный, – сказал Байрон. – Я вызываю несчастные случаи.
Психиатр сказал, что напишет родителям Байрона. После этих слов Байрон прямо-таки замер и больше не сказал ни слова, так что психиатр был вынужден объявить конец сеанса.
А через два дня отец позвал Байрона и сообщил, что сейчас он поедет в город, чтобы там с него сняли мерку для нового костюма.
– Зачем мне новый костюм, папа? – удивился Байрон, но отец не ответил и, пошатываясь, вышел из комнаты.
В магазин с Байроном поехала Диэдри Уоткинс. Там его тщательно обмерили, поскольку купить нужно было немало: новые рубашки и пуловеры, два галстука, носки, туфли домашние и уличные и так далее. Он всегда был крупным мальчиком, сказала продавцу Диэдри. Потом она спросила, не найдется ли у них заодно приличного чемодана. А также потребовала полный набор спортивной одежды для школьника и несколько пижам. Но теперь уже Байрон не спрашивал, зачем все это нужно.
У кассовой стойки продавец выписал чек, пожал Байрону руку и пожелал ему успехов в новой школе.
– Бординг[62] – это класс! – сказал продавец. – Освоишься, и все будет в порядке.
Байрона отослали в какую-то школу на севере. У него сложилось впечатление, что отец просто не знал, как с ним поступить, а сам он даже не пытался сопротивляться. Точнее, просто решил смириться с судьбой. Друзей в новой школе он не заводил, потому что боялся им навредить, и вообще старался держаться особняком. Он вел себя так незаметно, что иной раз люди вздрагивали от неожиданности, обнаружив, что он, оказывается, в комнате. Из-за стремления быть незаметным и других странных привычек его стали высмеивать. Потом избили. Однажды ночью Байрон проснулся и почувствовал, что его куда-то несут, вокруг было много людей, слышался смех, его крепко держали бесчисленные, как ему показалось, руки, но он и не думал сопротивляться, просто лежал неподвижно, удивляясь, что почти не чувствует боли. Да, боль, в том числе и душевную, он теперь чувствовал крайне редко и порой не мог даже понять, почему так несчастен. Но знал, что очень несчастен, что ему плохо. Иногда он вспоминал мать, или Джеймса, или то лето 1972 года, но думать об этом времени было все равно что, проснувшись, пытаться вспомнить свой сон по каким-то жалким, не имеющим смысла обрывкам. Лучше было вообще ни о чем не думать. Каникулы Байрон провел в Кренхем-хаусе в обществе Люси и разных нянек, без конца сменявших друг друга. Отец приезжал редко. А Люси теперь предпочитала общаться не с Байроном, а со своими друзьями. Потом он вернулся в школу и вскоре провалился на экзаменах. Его письменные работы были признаны убогими. Никому, похоже, не было дела до того, какой он на самом деле – умный или глупый.
Через четыре года Байрон из этой школы сбежал. Пользуясь ночными поездами и ночными рейсами автобусов, он вернулся на Кренхемскую пустошь. Дом, разумеется, оказался заперт, так что войти он не смог. В итоге Байрон сам отправился в полицейский участок и сказал, что сдается властям. Полицейские были в растерянности: мальчик ничего плохого не сделал, хоть и утверждал, что вполне может сделать, и все повторял, что способен вызывать несчастные случаи. И плакал. И умолял позволить ему остаться в участке. Байрон был в таком отчаянии, что у полицейских не хватило духу отослать его обратно в школу. Они позвонили Сеймуру и попросили забрать сына. Но Сеймур так и не приехал. Вместо него приехала Андреа Лоу.
Через несколько месяцев Байрону сообщили о самоубийстве отца. К этому времени все уже настолько переменилось, что в душе у него совсем не осталось места для каких бы то ни было чувств. На всякий случай его все-таки пичкали какими-то седативными средствами – и до, и после того, как сообщили о том, что совершил отец. Что-то такое об отцовском карабине и о том, какая это ужасная трагедия. Естественно, приносили «самые искренние соболезнования», но он уже столько раз слышал подобные слова, что они превратились для него в ничего не значащий набор звуков. Когда же его спросили, не хочет ли он присутствовать на похоронах, он ответил «нет». Впрочем, он не забыл спросить, знает ли его сестра о смерти отца, но в ответ услышал: она ведь учится в Бординг-скул, разве он не помнит? Нет, сказал он, не помню, я вообще мало что помню. И тут он увидел муху, обыкновенную дохлую муху, черную, лежавшую кверху лапками на подоконнике. И его вдруг всего затрясло.
Ничего страшного, сказали ему. Все будет хорошо, сказали ему. И спросили: может ли он вести себя спокойно и не двигаться? Может ли он перестать плакать и снять с себя шлепанцы? И он пообещал, что все сделает. После этого в руку ему вонзилась игла, и все исчезло, а когда он очнулся, то вокруг все разговаривали только о том, какое печенье дадут к чаю.
Глава 6
Встреча
Джим вынужден все время смотреть на свои кроссовки. Он никак не может понять, увеличились у него ступни или остались такими же. Все-таки раньше ноги чувствовали себя внутри кроссовок как-то иначе. Приходится пошевелить пальцами и приподняться на пятках, чтобы иметь возможность восхититься тем, как хорошо его ноги стоят рядышком, точно пара старых друзей. Джим очень рад, что они друг у друга есть, что они снова вместе. Только странно, что он ходит ровно, не хромая, странно быть таким, как все. Может, он все-таки не такой уж неправильный, в конце концов? Может, иной раз даже полезно чего-то лишиться, чтобы понять, как правильно все было устроено прежде?
Джим понимает: своим спасением он обязан Поле и Даррену. Обеспокоенные тем, что он давно не появляется на работе, они сели на автобус и доехали до Кренхем-вилледж. Отыскав его кемпер, они долго стучались и в дверь, и в окна, и решили уже, что Джим куда-нибудь уехал – может быть, в отпуск. Но когда они уже «потащились обратно», как рассказывала потом Пола, их вдруг посетило совсем иное подозрение. «Мы даже испугались: вдруг ты умер или еще что?» В общем, они вернулись, Даррен влез на крышу и вскрыл люк. Увидев, в каком состоянии Джим, они хотели сразу же вызывать «неотложку», но его била такая дрожь, что для начала они решили напоить его чаем. А затем с огромным трудом отодрали клейкую ленту с окон, дверей и всевозможных шкафчиков. Притащили ему целую кучу теплых одеял и продуктов. Опорожнили биотуалет. И внушили Джиму, что теперь он в полной безопасности.
День клонится к вечеру, сегодня канун Нового года. Джим теперь просто поверить не может, что чуть не сдался. Во всяком случае, внутренне он был к этому совершенно готов. Но сейчас он уже по другую сторону этой опасной черты – он вернулся на работу и опять носит оранжевую шляпу, оранжевый фартук и оранжевые носки, теперь он отлично понимает, как глупо, как неправильно было бы сдаться. А ведь он уже, можно сказать, чувствовал себя побежденным. Но вдруг произошло нечто непредвиденное, и он продолжает жить.
Крупные бусины дождевых капель скатываются по темным оконным стеклам. Кафе пора закрывать. Мистер Мид и другие работники заботливо накрывают пленкой нераспроданную выпечку. В зале осталось всего несколько посетителей, но и те спешат допить свои горячие напитки, надеть пальто и разойтись по домам.
Пола весь день обсуждала наряд, который выбрала для праздничной вечеринки в спортивном клубе, на которую ее пригласил Даррен. Сам Даррен тоже немало времени провел в уборной – что-то такое делал со своими волосами, пытаясь заставить их выглядеть так, словно он ничего с ними не делал и даже не причесывался. В пять тридцать мистер Мид переоденется в черный смокинг, взятый напрокат в «Мосс Брос»[63], и встретится внизу со своей женой. Они приглашены на торжественный обед, где будут танцы, а в полночь – фейерверк. Оказывается, что и у Мойры свидание – с одним из молодых музыкантов, которые играют у них в супермаркете; а потом она вместе со всеми ребятами из оркестра поедет куда-то на минибусе, где они всю ночь будут играть. Короче, после закрытия кафе всем будет куда пойти, кроме Джима; он вернется в свой кемпер к своим ритуалам.
– Пошел бы лучше вместе с нами, – говорит ему Пола, убирая со стола пустые тарелки и стаканы из-под колы. Джим тут же вытаскивает свой аэрозоль и тряпку и начинает протирать столешницу. – Тебе бы это было только на пользу. Вдруг бы там с кем-нибудь познакомился?
Джим благодарит ее, но идти с ними отказывается. С тех пор как Пола и Даррен отыскали его, практически полуживого, он все время вынужден убеждать Полу, что совершенно счастлив. Даже когда ему страшно или грустно – а иногда ему и впрямь бывает и страшно, и грустно, – он вынужден широко улыбаться и показывать два поднятых вверх больших пальца.
– Между прочим, она опять звонила! – сообщает Пола.
И Джим поспешно говорит, что не нужно пересказывать ему разговор с Айлин. Но Пола настаивает: Айлин уже три раза звонила!
– Я думал, ты ей сказала… – Фраза застревает у него в глотке. – По-моему, т-ты говорила, что от нее… от нее… одно б-б-б…
– Беспокойство? – перебивает его Пола. Поскольку в кафе остался всего один посетитель, она ставит поднос на столик, вытаскивает из кармана голубой парик и натягивает его на себя, мгновенно превращаясь в русалку. – Так ведь это хорошее беспокойство, Джим! И потом, самое главное, ты ей нравишься!
– Но это н-ни… н-ни к чему, совсем н-ни к чему. – Джим так смущен и словами Полы, и собственными чувствами, которые буквально обуревают его после этих слов, что не сразу, к своему ужасу, замечает, что брызнул аэрозолем не на стол, а на последнего посетителя, который все еще сидит в кафе. Тот даже кофе свой не допил. И сидит совершенно неподвижно.
– Кушайте, кушайте, – говорит этому странному посетителю Пола. – А я пока переоденусь. – И уходит.
– Извините, можно вас на минутку?
Этот вопрос – как бы часть атмосферы, что обычно царит в кафе. Так что Джим на него почти не реагирует, воспринимая его, как часть общего звукового фона, который создает молодежный оркестр, в данный момент заканчивающий наигрывать свой весьма, надо сказать, ограниченный набор новогодних произведений. Этот стандартный вопрос сродни вспышкам разноцветных лампочек на искусственной елке. Он может иметь отношение только к другим людям, живущим иной, чем Джим, жизнью, и он преспокойно продолжает протирать столы. Посетитель откашливается и снова задает тот же вопрос, но на этот раз более громко и настойчиво:
– Простите, что отрываю от работы, но все же можно вас на минутку?
Джим смотрит на незнакомца и с ужасом понимает, что тот обращается именно к нему. Ну да, он и смотрит прямо на него! У Джима такое ощущение, словно в кафе кто-то щелкнул выключателем, и свет тут же погас, и все перестало работать и двигаться. Он молча указывает на запястье, как бы желая сказать, что у него нет времени. Но у него и часов-то нет, даже следа от ремешка для часов не осталось.
– Еще раз прошу меня простить, – говорит незнакомец, допивая кофе и промокая губы праздничной бумажной салфеткой. Джим продолжает прыскать и вытирать.
Незнакомец одет в тщательно отглаженную одежду типа «casual»: коричневые брюки, рубашка в клетку, куртка из водоотталкивающей ткани. Он выглядит несколько усталым, как человек, которому пора подумать об отдыхе. Все в нем – и одежда, и негустая шевелюра – какого-то неопределенного серовато-коричневого оттенка, руки у него нежные и бледные, и легко можно догадаться, что большую часть жизни он провел в помещении и физической работой никогда не занимался. Рядом с кофейной чашкой лежат его аккуратно сложенные автомобильные перчатки. Может, он врач? Во всяком случае, вряд ли он когда-либо был пациентом, думает Джим. От него исходит запах чистоты. И этот запах кажется Джиму смутно знакомым, вызывающим некие воспоминания.
Незнакомец встает, резко оттолкнув стул, и, кажется, хочет уйти, но почему-то медлит и вдруг спрашивает шепотом:
– Байрон, это ты? – Его голос с годами стал более хриплым, и согласные он произносит уже не так четко, но ошибиться невозможно. – Я Джеймс Лоу. Хотя вряд ли ты меня помнишь. – Он протягивает Джиму руку. Ладонью вверх, как приглашение. Годы куда-то исчезают.
Джиму вдруг хочется потерять свою руку, пусть лучше ее у него не будет, но Джеймс ждет, и в его неподвижно застывшей руке столько доброты, столько терпения, что Джим не может просто взять и отойти. И тоже протягивает руку. Кладет свои дрожащие пальцы в ладонь Джеймса, такую чистую, теплую и мягкую, как подтаявшая восковая свеча.
Это не рукопожатие. Ни тот ни другой никаких рук не пожимает. Это сцепление рук. Это сплетение пальцев. Впервые за сорок лет левая ладонь Джима прижата к правой ладони Джеймса Лоу. Их пальцы скользят друг другу навстречу, смыкаются, сплетаются…
– Дорогой мой старый дружище, – с нежностью говорит Джеймс. И поскольку Джим вдруг начинает трясти головой и моргать, Джеймс убирает руку и протягивает ему свою бумажную салфетку с новогодним рисунком. – Ты прости меня, – говорит он, но не совсем понятно, за что он просит прощения: за то, что слишком крепко сжал руку Джима, или за то, что предложил ему использованную салфетку, или за то, что назвал «старый дружище».
Джим сморкается в салфетку, старательно делая вид, что у него насморк. А Джеймс между тем аккуратно расправляет свою куртку и застегивает молнию до самого горла. Пока Джим вытирает нос салфеткой, Джеймс поясняет:
– Мы тут с женой мимо ехали – домой возвращались. И мне захотелось показать ей пустошь, места, где мы с тобой выросли. Сейчас жена где-то в магазине застряла – что-то ей там понадобилось купить в последнюю минуту. А потом мы сразу поедем к себе в Кембридж. К нам на Новый год ее сестра приедет. – В облике Джеймса есть что-то детское, и молния, застегнутая под самое горло, это подчеркивает. Возможно, он и сам это понимает, потому что, опустив глаза, хмурится и аккуратно расстегивает молнию до середины.
Воспринять нужно слишком многое. То, что Джеймс Лоу превратился в невысокого человека лет пятидесяти с хвостиком, шевелюра у которого уже изрядно поредела. То, что он оказался здесь, в кафе супермаркета. То, что у него есть в Кембридже дом и жена. То, что сестра этой жены приедет к ним на Новый год. То, что у него плотная водонепроницаемая куртка на молнии.
– Маргарет велела мне выпить пока кофе. Она говорит, что я только путаюсь под ногами. Боюсь, я все-таки недостаточно практичен. Даже после стольких лет… – После рукопожатия Джеймс, похоже, никак не может посмотреть Джиму прямо в глаза. – Маргарет – это моя жена, – поясняет он. И прибавляет: – Я ее второй муж.
Не в силах выговорить ни слова, Джим кивает.
– Я испытал такое потрясение! – говорит Джеймс. – Настоящий шок! Было просто ужасно обнаружить, что Кренхем-хаус исчез и сад тоже. Я, собственно, не собирался ехать в ту сторону, но навигатор, должно быть, ошибся. Когда я увидел, в каком состоянии ваша усадьба, я даже не сразу понял, куда попал. Потом вспомнил, что ходили какие-то разговоры о новой деревне. Но я почему-то был уверен, что старый дом сохранят. Даже представить себе не мог, что его сровняют с землей.
Джим слушает его, согласно кивая, можно подумать, что его не бьет дрожь, он не схватился за свой баллончик с аэрозолем, как за последнюю соломинку, и никакой дурацкой рыжей шляпы у него на голове нет. Время от времени Джеймс делает паузу между фразами, давая Джиму возможность тоже высказаться, но тот способен выдавить из себя только невнятное «угу» да вздохнуть.
– Знаешь, Байрон, – говорит Джеймс, – я и понятия не имел, какой огромный микрорайон там отгрохали. Да еще и назвали «Кренхем-вилледж»! Неужели застройщики так и вышли сухими из воды? Просто поверить невозможно! А как тебе, должно быть, тяжело было видеть, как уничтожают ваш старый дом и сад. Это наверняка было для тебя ужасным ударом.
Нет, не было. Но ему каждый раз больно, когда Джеймс произносит его старое имя. Байрон, Байрон. Джим уже сорок лет не слышал этого имени. Но именно та легкость, с которой Джеймс называет его этим именем, действует на него особенно сильно. Имя словно вспарывает бесчисленные одежки, которые Джим носил долгие годы, и помогает ему надеть нечто давно забытое, вроде синего габардинового плаща, который, как он считал, ему больше не годится. Но Джим – который на самом деле вовсе не Джим, а Байрон, просто он слишком долго пробыл в шкуре Джима, человека без корней и прошлого, – по-прежнему не в состоянии вымолвить ни слова. И Джеймс, чувствуя это, продолжает:
– Впрочем, возможно, ты даже готов был со всем этим расстаться? И даже хотел, чтобы это место сровняли с землей? В конце концов, в жизни не всегда выходит так, как нам бы хотелось. Вот и на Луну после 1972 года никто больше не летал. А ведь тогда они там даже в гольф играли! Собрали там столько образцов! А потом все заглохло… – Джеймс Лоу умолкает. Лицо у него хмурое, сосредоточенное, он словно прокручивает в памяти свои последние слова и говорит: – Гольф меня, собственно, совершенно не интересует. Просто, по-моему, стыдно, что им пришлось на Луне играть в гольф.
– Да. – Наконец-то. Хоть одно словечко!
– Но я вполне могу быть сентиментальным и в отношении Луны, и в отношении Кренхем-хаус. Честно говоря, я ведь с тех пор там ни разу и не был. За все годы – ни разу!
Джим открывает и закрывает рот, пытаясь нащупать и ухватить нужные слова, но они ему не даются.
– Они… п-продали…
– Дом?
Джим кивает. Джеймса, похоже, ничуть не смущает, не огорчает и даже не удивляет то, что Джим так сильно заикается.
– Те, кому вы доверили управление усадьбой?
– Да.
– Мне очень жаль. Мне очень, очень жаль, Байрон.
– У нас н-не… н-не осталось денег. С-совсем. Мой отец все п-пустил… п-пустил все на с-с-самотек.
– Да, об этом я тоже слышал. Как все это ужасно! А что случилось с твоей сестрой Люси? Чем она занимается?
– В Лондоне.
– Она живет в Лондоне?
– З-замуж в-в-вышла. З-за какого-то б-банкира.
– А дети у нее есть?
– Мы с ней п-потеряли… с-связь.
Джеймс печально кивает, словно все понимает, словно считает, что эта пропасть, возникшая между братом и сестрой, была в сложившихся обстоятельствах абсолютно неизбежна, но, как бы то ни было, это весьма печально. А потому он тут же меняет тему и спрашивает, общается ли Байрон с кем-нибудь из их старой школьной компании.
– Знаешь, мы с женой как-то пошли на фуршет, устроенный для выпускников школы «Уинстон Хаус», и я видел Уоткинса. Ты его помнишь?
Джим говорит, что помнит. Очевидно, после Оксфорда Уоткинс стал служить в Сити. Он женат на очень милой француженке, говорит Джеймс и прибавляет, что вообще-то сам он на подобные приемы ходит редко, это больше по части его жены Маргарет.
– Ну, а как ты-то здесь оказался, Байрон?
Джим объясняет, что он здесь работает, столы протирает. Но Джеймс вовсе не выглядит удивленным. Наоборот, он с энтузиазмом кивает, словно узнал некую потрясающую новость, а потом говорит:
– А я уже на пенсии. Я рано на пенсию вышел. Решил, что ни к чему все эти тщетные попытки угнаться за современной технологией. И потом, занятия временем требуют точности. Тут никак нельзя допускать даже мельчайших ошибок.
Джим чувствует, что ноги у него стали как ватные, такое ощущение, словно его ударили чем-то тупым под коленки. Он чувствует, что ему необходимо сесть, перед глазами все плывет и кружится, но садиться нельзя: он же на работе!
– Т-ты занимаешься временем?
– Я в итоге стал ученым-атомщиком. Но моя жена всегда говорила, что главная моя работа – налаживать часы. – Джеймс Лоу улыбается, но, судя по этой улыбке, ничего смешного он сказать не хотел. Улыбка, пожалуй, несколько кривовата. – Слишком сложно было объяснять ей, чем я занимаюсь на самом деле. Она считала, что люди всегда выглядят либо чересчур усталыми, либо чересчур занятыми. Хотя ты-то, конечно, меня бы понял. У тебя-то ума всегда хватало.
И Джеймс Лоу начинает говорит об атомах цезия и о минус двадцать четвертой степени. В его речи мелькают упоминания о Гринвичской обсерватории, о фазах Луны, о гравитации, о колебаниях Земли. Джим слушает. Он слышит слова, но его разум не регистрирует их, как нечто, имеющее смысл. Скорее, эти слова воспринимаются им как некий негромкий шум, полностью заглушаемый звуками бури, что бушует в его душе. Да и правильно ли он расслышал слова Джеймса? Действительно ли Джеймс сказал, что ума-то у него всегда хватало? Возможно, задумавшись, Джим слишком сильно выпучил глаза или некрасиво раскрыл рот, но Джеймс вдруг умолкает.
– Ну, рад был повидать тебя, Байрон, – говорит он, помолчав. – Я ведь как раз о тебе думал – и тут вдруг ты появляешься! Знаешь, чем старше я становлюсь, тем охотнее соглашаюсь с тем, что жизнь – очень странная штука. В ней столько сюрпризов и неожиданностей.
Все то время, пока Джеймс говорил, Джиму казалось, что вокруг никакого кафе нет. Были только они двое и некое столкновение прошлого и настоящего, совершенно сбившее его с толку. Но постепенно он начинает вновь слышать звон посуды из сервировочной, гул кофейного автомата, затем поднимает глаза и видит, что на него в упор смотрит Пола. Пола поворачивается к мистеру Миду и что-то шепчет ему на ухо, и мистер Мид, забыв о делах, тоже во все глаза смотрит на Джима и Джеймса.
Джеймс, впрочем, ничего этого не замечает. Он снова поглощен своей молнией. Застегнув ее и поправив замок, он говорит:
– Мне нужно кое-что сказать тебе, Байрон.
Джим выражает полную готовность его выслушать и одновременно видит, что мистер Мид наливает две чашки кофе и ставит их на поднос. Голос Джеймса и действия мистера Мида сливаются в некую общую сцену – голос звучит как саундтрек, но не от этого, а совсем от другого фильма.
– Но это очень трудно, – говорит Джеймс.
Мистер Мид берет в руки пластмассовый поднос и направляется прямо к ним. Теперь Джим должен найти способ извиниться и немедленно исчезнуть. Но мистер Мид уже совсем близко, кофейные чашки нервно дребезжат на фарфоровых блюдцах.
– Прости меня, Байрон, – говорит Джеймс.
Мистер Мид останавливается у их столика с подносом в руках и говорит:
– Прости меня, Джим.
Джим перестает понимать, что происходит. Очевидно, это какая-то очередная случайность, которая, похоже, лишена вообще всякого смысла. Мистер Мид ставит поднос на край стола и говорит, обращаясь к горячему кофе и сладким пирожкам на тарелочке:
– Прошу вас, угощайтесь! Это за счет заведения. Пожалуйста, джентльмены, садитесь. Вам побрызгать?
– Что, простите? – Джеймс Лоу страшно удивлен этим вопросом.
– Вам на капучино побрызгать?
Оба старых друга тут же говорят: да, пожалуйста, это очень приятно, когда на пенку «брызгают» шоколадной пудрой. Мистер Мид берет в руки небольшую емкость и от души посыпает шоколадом содержимое обеих чашек. Рядом с чашками он выкладывает столовые приборы и свежие салфетки, а сосуды с приправами переставляет на середину стола.
– Bon appetit[64], – говорит он. И прибавляет: – Угощайтесь на здоровье. – Потом прибавляет еще: – Gesundheit[65]. – Наконец, он разворачивается и устремляется в сторону кухни, но, отойдя на безопасное расстояние, сбавляет скорость и с неожиданным достоинством приказывает: – Даррен! Шляпу!
Джим и Джеймс Лоу некоторое время смотрят, как завороженные, на предложенные им «за счет заведения» кофе и пирожки, словно никогда в жизни не видели такого богатства. Джеймс подвигает Джиму стул. Джим, в свою очередь, подает Джеймсу чашку и свежую бумажную салфетку, а также предлагает тот из двух пирожков, что немного побольше. Оба усаживаются и некоторое время молчат, занятые едой.
Джеймс разрезает свой пирожок на четыре части и по одной аккуратно кладет в рот. Челюсти жуют, зубы кусают, языки с наслаждением облизывают губы – такое ощущение, словно обоим хочется подобрать до последней крошечки ту доброту, что заключена в этом немудреном угощении, предложенном от всей души. Они выглядят такими незначительными, такими неприметными, эти двое немолодых мужчин, один высокий, второй маленький, один в нелепой оранжевой шляпе, второй в наглухо застегнутой водонепроницаемой куртке. Но чувствуется, что каждый из двух старых друзей чего-то ждет, словно знает: у второго есть ответ на вопрос, который задать ему самому не под силу. У обоих к тому же не хватает слов, чтобы задать этот вопрос вслух. И лишь когда они покончили с кофе и пирожками, Джеймс Лоу первым предпринимает попытку.
– Я хотел сказать… – почти шепотом начинает он и принимается складывать свою салфетку пополам, потом еще раз, потом еще и еще, в итоге салфетка превращается в крошечный квадратик. – Я хотел сказать, что в моей жизни есть одно лето, которое я никогда не забывал и не забуду. Мы тогда были еще совсем детьми…
Джим пытается допить кофе, но у него так дрожат руки, что он вынужден прекратить эти попытки.
А Джеймс одной рукой опирается на стол, а вторую, чтобы как-то сдержать эмоции, подносит к глазам, словно заслоняя их от настоящего, словно не желая видеть перед собой ничего, кроме прошлого.
– В то лето много всего случилось. Такого, чего ни ты, ни я толком еще не понимали. И эти ужасные события переменили всю нашу жизнь. – Лицо его мрачнеет, глаза затуманиваются, и Джим знает, что Джеймс сейчас думает о Дайане, потому что и сам тоже думает о ней, и ее образ сразу заслоняет все остальное. Джим видит ее легкие волосы, золотистой волной обрамляющие лицо, нежную, бледную, как вода, кожу, изящный силуэт и этот ее танец на поверхности пруда…
– То, что мы ее потеряли… – говорит Джеймс, и губы его словно схватывает морозом. Он надолго умолкает, и Джим тоже не говорит ни слова. Затем Джеймсу удается справиться с собой и вновь заставить губы шевелиться. – Эта утрата всегда в моем сердце.
– Да, – говорит Джим и зачем-то берет в руки антибактериальный аэрозоль, но почти сразу понимает, что это сейчас ни к чему, и ставит баллончик на пол.
– Я пытался рассказать Маргарет… о ней. О твоей матери. Но есть такие вещи, о которых словами не расскажешь.
Джим то ли кивает, то ли мотает головой.
– Она была как… – Джеймс снова внезапно умолкает, и Джим отчетливо видит перед собой того мальчика из их далекого детства, которому всегда было свойственно, задумавшись, вот так замирать в напряженной неподвижности. Сейчас Джиму кажется это настолько очевидным, что совершенно непонятно, почему он с самого начала этого не заметил. – Знаешь, – говорит вдруг Джеймс, – я никогда особенно не любил читать. И только на пенсии по-настоящему открыл для себя книги. Мне очень нравится Блейк. Надеюсь, ты не станешь возражать, если я скажу, что… твоя мать была как поэма.
Джим кивает. Да, верно. Как поэма.
Но Джеймсу явно тяжело продолжать разговор о ней. Он покашливает, потирает руки, а потом вдруг вскидывает подбородок в точности тем же движением, что и Дайана, и спрашивает:
– А ты, Байрон, чем занимаешься в свободное время? Тоже читаешь?
– Я сажаю растения.
Джеймс улыбается, словно говоря: да, разумеется, ты и должен сажать растения.
– Ты – настоящий сын своей матери! – И улыбка у него на лице вдруг сменяется выражением такого горя, такой неизбывной печали, что Джим спрашивает, что с ним такое. И Джеймс с трудом отвечает: – У меня бессонница. Я нездоров. Я давно должен был попросить у тебя прощения, Байрон. Я должен был сделать это еще много лет назад.
Джеймс жмурит глаза, но слезы все равно так и текут у него из глаз. Он сидит, положив на ламинированную столешницу крепко сжатые кулаки, и Джиму очень хочется взять его за руку, но ему мешает стоящий между ними пластмассовый поднос, не говоря уж о том, что между ними стоят еще и эти минувшие сорок лет. К тому же его душу и мысли сковало какое-то странное оцепенение, и ему трудно вспомнить даже, как поднять собственную руку.
– Когда я услышал, что с тобой случилось… когда я узнал о «Бесли Хилл»… и о том, что ты потерял отца… в общем, обо всех тех ужасных вещах, которые последовали за… мне, честное слово, было очень плохо. И я все пытался тебе написать. Много раз пытался. И съездить к тебе хотел. И не мог. Мой лучший друг, для которого я ровным счетом ничего не сделал!
Джим беспомощно оглядывается и замечает, что мистер Мид, Даррен и Пола собрались в сервировочной и смотрят на них. Увидев, что Джим это заметил, они, смутившись, делают вид, будто чем-то заняты, но Джима не обманешь: ведь посетителей в кафе нет, так что в сервировочной можно только переставлять с места на место тарелки с печеньем. Пола делает Джиму какие-то знаки – и губами, и пальцами, она повторяет это дважды, но он смотрит на нее. Потом, поняв, что она одними губами спрашивает: «У вас все нормально?» – Джим один раз утвердительно кивает.
– Байрон, прости меня, – говорит Джеймс. – Я всю жизнь об этом сожалел и мучился. Если б только… Боже мой, если б только я тогда промолчал! Если б не рассказывал тебе об этих добавленных секундах!
Джим чувствует, как слова Джеймса проникают прямо в него. Они проскальзывают под его оранжевую униформу и пробираются глубоко в его тело. А Джеймс, отряхнув с рукавов куртки крошки пирога, берет со стола свои автомобильные перчатки, расстегивает кнопки, надевает перчатки на руки…
– Нет! – говорит Джим. И почти сразу прибавляет: – Это не твоя вина. – Он торопливо сует руку в карман, роется там и вытаскивает брелок с ключами. Джеймс Лоу смущенно смотрит, как мучается Джим, пытаясь расстегнуть кольцо брелка. Пальцы у него так ужасно дрожат, что вряд ли ему удастся это сделать. Но он все же поддевает, наконец, колечко брелка ногтем, брелок раскрывается, и на ладони у него оказывается бронзовый жук.
Джеймс замер и во все глаза смотрит на жука. Джим тоже уставился на бронзовый амулет. Такое ощущение, будто оба видят его впервые. Гладкие сложенные крылья. Неглубокие, сделанные резцом, отметины на тораксе. Плоская головка.
– Возьми его. Он твой, – говорит Джим и протягивает жука Джеймсу. Душа его разрывается – он и хочет вернуть жука Джеймсу, и, одновременно, отчаянно не хочет с ним расставаться: как же он придет домой и жука там не будет? Джим прекрасно понимает, что, если жука в кемпере не окажется, всему придет конец, все его усилия пойдут прахом. Однако он понимает и то, что жука нужно обязательно вернуть прежнему хозяину.
Но Джеймс Лоу ничего об этих его мыслях не знает и не понимает, каково сейчас Джиму. Он благодарно кивает, говорит «спасибо» и, осторожно взяв жука, крутит его в пальцах, не в силах поверить, что ему только что вернули.
– Боже мой, – бормочет он, а сам все улыбается, улыбается, словно Байрон только что вернул ему некую, давным-давно потерянную и очень важную часть души, часть его внутреннего устройства. Немного помолчав и взяв себя в руки, он говорит: – Между прочим, и у меня тоже кое-что есть.