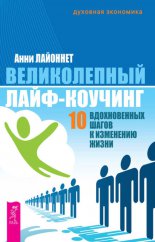Ярослав Мудрый Павлищева Наталья

Гюргий снова засмеялся и снова заговорил на своем языке, взволнованном, будто орлиный клекот. Ярослав улыбнулся. Варяжский язык этот человек знать не мог, латинский и тем более, может, персидский, — но сам князь тоже не знал персидского.
— Что же мы — перемигиваться с тобой будем, что ли? Ты что, к Мстиславу шел?
— К Мстиславу, — закивал Гюргий и снова засмеялся, видно, воспоминание о Мстиславе вызвало у него радость.
— В дружину к Мстиславу?
Ярослав жестами показал, как орудуют мечом, но Гюргий завертел головой. Он подбежал к стене горницы, встал на колено, показал ладонью правой руки, будто что-то вытесывает, потом начал класть к стене как бы камень на камень, бревно на бревно; Ярослав еще не верил догадке, быстро встал со стула, прошел к обитому серебром тяжелому сундуку, достал оттуда дорогую книгу греческую, развернул, позвал к себе иверийца, показал ему рисунок: на городской стене, за которой виднеются верхушки храмов, несколько веселых бородатых людей кладут камень, подаваемый им снизу простым блочным приспособлением.
Ивериец обрадованно закивал головой, снова что-то проговорил — длинное и жаркое, Ярослав разобрал несколько раз повторенное слово «Мстислав»; этого князю было уже достаточно, чтобы понять, какой славой пользовался его брат еще в Тмутаракани среди строительного люда, — видно, немало поставил там сооружений, если идут к нему из таких далеких краев умельцы. Может, задумал Мстислав превзойти Киев в строениях Божьих и светских и сам позвал к себе зиждителей? Но вот случай вмешивается в дело, а может, это Божья водя на то, чтобы ему, Ярославу, стало ведомо про замысел брата, и вот теперь, идя навстречу Божьей воле, он должен опередить своего брата и воздвигнуть что-то невиданное и неслыханное?
Ярослав дружески похлопал иверийца по плечу, звякнул в серебряный колокольчик, велел заспанному слуге принести два ковша меду; когда выпили с Гюргием, князь позвал Ситника и сказал ему:
— Найди толковина, чтобы мог я объясниться с этим человеком. Гюргия со всеми его товарищами держи зорко, давай все, чего хотят, важные люди вельми для нас.
А через неделю, когда узнал, что Гюргий и все его товарищи — каменных дел мастера, Ярослав снарядил посольство к ромейскому императору с заверением мира, а заодно и с просьбой прислать умелых украшателей и строителей, чтобы поставили в Киеве церковь великую и славную.
В повседневных хлопотах князь едва вспомнил про древлянского святого, посаженного еще несколько лет назад в пещеру на Берестах. Спросил о нем Иллариона. Тот молча подергал себя за бороду.
— Что так? — улыбнулся Ярослав. — Святые лучше на небе, чем среди нас?
— Злой вельми, — вздохнул Илларион, — не молвит ко мне ни слова.
— Жив еще?
— Жив и крепок.
— А отрок?
— Быстрый к учению и послушен, мягкая это душа.
— Вот и ладно. Пошлешь ко мне отрока, отче.
Но снова забыл или закрутился в повседневных заботах, а тут еще отправился на ловы, чтобы малость дохнуть осенним воздухом, походить по красному листу, вдохнуть пронзительных запахов леса, которые напомнили бы далекие теперь новгородские дни, вернули бы молодость, силу, желание, шум крови в груди, неуловимую, как Божий дар, Шуйцу. Эх, Шуйца, Шуйца! Отдаляешься ты от меня все больше и больше, огромные просторы пролегают между нами, и отчужденность все растет и растет, вот уже и мерзкий потный человек вклинивается между нами, выведывая-вынюхивая о нашей дочери, а сам я не знаю ничего, ибо ты не говоришь, ты не веришь мне и уже, видать, никогда не поверишь, Господи, Господи!
Все на князя, все против князя в этой великой и безжалостной земле: и необозримость просторов, и разливы рек весною, и люди в своем вечном недовольстве, и лютые звери.
Княжение — это дело, от которого человек старится быстро, а обессиливается еще быстрее. И когда бежал на Ярослава дик, то уже и не думалось, что найдется сила одолеть его. Да и никто, наверное, не надеялся на спасение князя, и каждый, видно, стоял и думал, кому придется служить завтра, перед кем гнуть спину, кому угождать. Но он живой, и сил у него прибавилось!
— Созывайте людей на вепря! — весело крикнул Ярослав Ситнику и одиноко погнал коня в Бересты, опережая тех, которые несли убитого князем огромного вепря.
Никчемное это дело — тратить время на обжорство да на пьянку, когда человеку, чтобы жить, достаточно хлеба и воды, но ничего уж тут не поделаешь, раз повелось так издавна, и даже Спаситель наш превращал воду в вино, чтобы принести радость на пиршестве.
Людей собралось немало — с полсотни, если не больше, на длинных столах навалено было жареного и вареного; вепрь служил лишь зацепкой, была там и оленина, и медвежатина, были жареные поросята и дорогая рыба, озерная и днепровская, подавалась похлебка с почками и жирные ребрышки под подливой из хрена; для питья имели пиво, и мед, и вино; толстые свечи пылали по углам палаты и посредине стола, шум и гомон наполняли длинное помещение с низким потолком из бревен, со стен смотрели на людей головы вепрей, разинувшие клыкастые пасти; выставляли ветвистые рога головы оленей и лосей, в простенке поднималось на задних ногах огромное чучело медведя, а немного сбоку, у двери, скоморохи устроили забаву с живым медведем, приученным смешить князя и дружину на пирах; пьянели все быстро, переругивались между собой за лучшие куски, отнимали друг у друга то ребро, то бедро, вгрызались зубами в мякоть, обсасывали сладкие мослы; тяжелый людской дух стоял в гриднице, но застольники не чувствовали его, внимание их было приковано к дичи, — смертным потом убитого животного пронизано мясо дичи, бьет запах воли в ноздри, хищно раздуваются носы, ходят ходуном тяжелые челюсти, подведенные черными тенями от свечей и каганцов; не переставая жевать, Ситник хвастал, как возили дичь под седлом, выдерживали в погребах, обложенную травами и кореньями, зарывали на ночь в холодные осенние листья, прихваченные первыми заморозками, как пеклось, жарилось, парилось во славу князя Ярослава; все, кто сидел ближе к князю, подхватывали славословия, друг перед другом стремились как можно заковыристей провозгласить здравицу в его честь; тем, кто сидел у двери, слово и не доставалось, ибо это были люди без значения, — состязание в верности шло лишь тут, вокруг Ярослава; он и сам принимал в нем внимательнейшее участие, ободряю-, ще улыбался златоустам, одному кивал головой, другого похлопывал по плечу, тому подавал жирный кусок, другому протягивал ковш, чтобы чокнуться, одного благодарил, другому преподносил подарок за верность, — мудрыми были предки, выдумавшие пиршество, где люди сходятся плечом к плечу, как брат к брату прижимаются, где князь словно бы сливается с теми, кто ему подвластен, набирается от них бодрости и силы, а они, приближенные к нему, чувствуют себя увереннее, гордятся своей близостью к властелину, они готовы для него на все: выпить и закусить, в огонь и в воду, против супротивников и беды, вон они все какие взбудораженные, оживленные, с разгону вгоняют ножи в лоснящиеся от жирного мяса столы, стучат кулаками в толстые доски, рыкают по-звериному — да все за князя, все ради него и для него, и как тут не любить этих взлохмаченных, мохнатобородых, раскричавшихся, преданных, искренних мужей, хотя умом своим князь понимает всю ничтожность и неискренность своего окружения, знает, что славят они не Ярослава, не этого человека с набрякшим некрасивым носом и насупленными бровями, а князя, их владыку, и поставь вот сейчас на его место другого и назови его князем, они точно так же будут распинаться перед новым, ибо человек для них не значит ничего, значит только место, положение, власть; умом Ярослав презирал их всех, а сердцем тянулся к ним, ибо в одиночестве он ничего не значил, он ничего не мог поделать с собственным бессилием, со слабостью, с врагами, каких все больше и больше.
— Славен будь, княже Ярослав! — ревели бояре и дружина.
— Долголетен!
— Счастлив!
Все здесь» было со словом «самый»: самый могучий, самый мудрый, самый дорогой, самый справедливый, самый зоркий, самый ясный, самый милостивый и самый милосердный- Кто лицемерил сознательно, а кто и искренен был в опьянении своем, князь поощрительно улыбался, знал истинную цену каждому слову и восклицанию, но и приятно было купаться в этом буйстве славы и хвалы, мог бы, ясное дело, встать, махнуть рукой, прикрикнуть так, чтоб заткнулись все со своим славословием, но довольствовался и тем, что всех их видел насквозь, сам оставался загадочным и недостижимым для их ограниченности.
Но вот во всеобщее величание князя вмешался княжий шут Бурмака, который слонялся между столами и молча выделывал разные пакости: то тянул у кого-то из-под руки ковш с медом, то макал в чей-то кубок конец своего длинного рукава, то пробовал поджечь кому-то бороду свечой, все это сходило с рук шуту, ибо пользовался он высоким княжеским покровительством, — теперь шут изъявил желание говорить. Пошел чуть ли не к двери, к безмолвным и незначительным участникам пира, которых позвали сюда лишь для количества, взобрался на лавку, поднял вверх руку с ковшом, хлюпнул вниз напитком, крикнул:
— Тихо, говорю я!
Шум постепенно затихал, ждали от шута новой выходки, знали, что остер он на язык, каждый невольно поеживался, опасаясь, чтобы не задел Бурмака именно его, ибо вреда, быть может, это и не принесет, но смеяться будут; однако шут не стал задевать ни меньших, ни старших, смачно облизал свои толстые губы, захохотал:
— Великому черту — велика и яма! Наимилосерднейшему нашему князю — слава! Шел князь из Новгорода, а по пути во всех селах и волостях голод, люд повымирал, а где кто уцелел, то уже и голоса не подавал, а князь и говорит воинам: «Когда будете есть, то чтобы и кости закапывали, не давали этим издыхающим, чтобы сердца ваши не разжалобились, ибо что же вы за воины будете». Слава милостивцу нашему!
Мертвая тишина воцарилась между столами, никто еще не знал, следует ли обращать внимание на пьяную болтовню шута или пропустить ее мимо ушей, как делали всегда; более смелые смотрели на князя, чтобы по выражению его лица отгадать, как отнесется он к Бур-маке, но Ярослав сидел с заученной улыбкой на устах, смотрел на своего шута благожелательно — дескать, мели дальше, разве мы не знаем, какой ты болтун.
— А тут, — кричал дальше шут, брызгая во все стороны слюной, — село на пути — и весь люд в нем вымер! Уже и проехал князь село, как вдруг выползает из-под его коня девочка — тень от девочки, а живая! «Почему она жива? — спрашивает милосердный князь наш. — Зачем она теперь, коли все здесь умерли? А уберите-ка девочку!». И затолкли ее насмерть, чтобы не было от этого села и расплоду, раз уж оно такое убогое и никудышное.
Ситник опомнился первым. Подскочил к Ярославу, наклонился к нему, прошептал:
— Дозволь, заткну ему глотку!
— Пусть говорит! — громко промолвил Ярослав, и все облегченно вздохнули, кое-кто даже потянулся к кубку, кое-кто стал дожевывать застрявшее в зубах, — в самом деле, пускай говорит, мало ли чего не принесет слюна на язык этому болтуну, все равно наш князь самый добрый, самый справедливый, самый милостивый, самый…
— А там вышел из Древ святой человек, — продолжал кричать Бурмака, — да поймали его по велению нашего князюшки и с веревкой на шее вели до самого Киева, а ведь аркан — не таракан, хотя зубов и не имеет, но шею грызет. Вот какой у нас князюсик!
— Иди, Бурмака, выпьем с тобой, — позвал Ярослав шута.
— А пускай с тобой лукавый пьет! — крикнул шут.
— Горло у тебя, вижу, пересохло, — спокойно промолвил князь, — может, кто-нибудь промочит его тебе. Эй, люди, помогите шуту!
Бурмаку мигом стащили с лавки, набросилось на него сразу с десяток человек, каждый тянулся с полным ковшом или кубком, силком заливали шуту в рот, в нос, в уши, лили в глаза, он захлебывался, пытался высвободиться, вот-вот мог задохнуться, но жалости к нему ни у кого не было, да он и знал это хорошо: все здесь зависело от одного лишь человека, от его слова. Бурмака все же изловчился перевернуться ничком, пополз между вонючими грязными сапогами по запачканному полу, извиваясь ужом, отплевываясь, отфыркиваясь, умоляюще простонал:
— Княже!
— Напоили уже, хватит, — засмеялся князь, — а теперь давайте выпьем и мы все за здоровье нашего Бурмаки, ибо что же мы делали бы без его шуток и смеха!
— Го-го-го! — заржали все вокруг.
Ой, князь, вот так князь, ну и князь! Пили, ели, жевали, давились, таращили глаза. Вот так так, вот оно ох и князь же у нас!
А Ярослав дал знак, чтобы не прекращали пира, поднялся, незаметно вышел в сени, за ним выскочил Ситник.
— Пускай проведут меня к тому в пещеру, — сказал трезвым голосом Ярослав.
— Поздно ведь, княже, а идти далеко. К самой круче днепровской.
— Сказано тебе!
— Позову сейчас отрока. Он тут недалеко.
Отрок прибежал заспанный и встревоженный. От него пахнуло теплым молодым телом; был высокий, тонкий, видно, красивый малый, хотя это и не имело значения.
— Зовешься как? — спросил его Ярослав.
— Был Тревога, а теперь Пантелей.
— Веди.
— И я с тобой, княже, — попросился Ситник.
— Иди на пир. Чтоб люд не расходился.
— Хоть свечку возьмите, потому как там нет, — сказал Ситник.
— Покажу я тебе когда-нибудь свечу, — сердито пообещал ему Ярослав, — прилепился ко мне, как клещ.
Тяжелый замок на дубовых дверях заржавел — наверное, не отпирался с тех пор, как посажен в пещерку святой человек; отрок Пантелей, чуть не плача, возился с замком, но отпереть не мог.
— Дай сам, — оттолкнул его Ярослав, — зажигай свечку!
Святой человек, то ли от грохота запоров, то ли от предчувствия встречи, а может, и просто по своему обычаю, не спал уже, встретил князя, сидел на глиняной завалинке, скрюченный, высохший до предела, огромная серо-желтая борода прикрывала все его тело, словно щитом, над бородой вверху сверкала круглая, будто большое яйцо, лысина, а между лысиной и бородой плавали в темноте два черных блестящих глаза, наполненных неизбывной тоской.
Один пришел из широкого мира, пришел с воли, хотя, закованный в железный обруч государственных обязанностей, и не умел ценить этой воли, а другой, рожденный не для послушания, не зная ограничений и притеснений, имел теперь лишь печаль в глазах и настороженность; наверное, он догадался, кто пришел к нему, потому что молчал и смотрел на князя со спокойным равнодушием. Так длилось долго, один стоял, весь еще обвеянный свежим ветром с Днепра, с запахами вин и вкусных яств, а другой, скрюченный на глиняной лежанке, прикрывался бородой и посверкивал глазами, не имея охоты говорить первым. Однако заключенный был великодушен. Он заметил, как неловко переступал князь своей хромой ногой, всколыхнул бородой, подвинулся на завалинке, уступил место возле себя.
— Садись, — сказал тихо, — стоять тебе трудно.
— Откуда знаешь? — удивился Ярослав.
— Да уж знаю. Естеством нахрамываешь сызмальства, а может, и духом. Князь должен хромать.
— А может, я не князь.
— Кто бы еще сюда пришел? Разве убийца? Садись вот здесь. Не бойся смрада: смрад не так ударяет, как правда.
Князь примостился на самом краешке завалинки, дыша в сторону, чтобы винный дух не дошел к узнику, спросил:
— Почему думаешь, что правда только за тобой?
— Потому что страдаю, — сказал тот все так же негромко. — Худой и измученный. А с жирных, обленившихся уст правды не услышишь.
— Наши священники в постах пребывают, смиряют и плоть и дух. Разве ты считаешь себя лучше их?
— Не наши это служебники — чужеземные, — напомнил старик.
— По всей земле теперь новая вера завладела всеми душами.
— Не завладела и долго еще не завладеет, а может, и вовсе погибнет твоя новая вера.
— Об этом и люду молвил в своих блужданиях? — сурово спросил Ярослав. — Вышел ты из тьмы, и слова твои темны. Все людове наши прятались в лесах, а новая вера выводит их па широкий мир, прославляет по всем землям, ибо народ наш достоин прославления. Но не всегда люди выходят к славе добровольно. Иногда приходится прибегать к насилию.
— Отец твой сжигал наши храмы, а богов бросали в озера и реки, чтобы уплывали по воде. Но они не уплыли, а сели на дно и станут чернодубом, потом, в подходящую годину, вынырнут, и снова воцарится наше родное, запомни это, княже. Все можно изменить: дома, одежду, воям дать иное оружие, набить глотку заморскими яствами и напитками, но душу у народа не вынешь, не вставишь ему другую, чужую. Не удалось это сделать князю Владимиру, не удастся и тебе. Как приходила с веснянками к нам весна, так и будет приходить, как встречали мы в игрищах солнцеворот, так и будем встречать, и зеленые ветки для наших богов будем приносить, как и раньше, и писанки будут радовать взор наших детей.
— Никто не измерит, чего больше у власти: созидания или разрушения, — прервал его Ярослав. — Отец мой сжег сколько-то там капищ языческих, зато какие дивные церкви поставил! За князем Владимиром и я, сын его, иду. Народ учить надобно, темноту изгонять…
— Темноту? — В голосе старика слышалась улыбка и превосходство, которое дают лета и страдания. — «Учить надобно». А чему учить-то будешь? Как избегать грехов да как от них избавляться? Богов наших уничтожаешь, а бесов оставляешь, грехи плодишь. Учению твоему токмо лишь начало, а грехов уже полно повсюду, уже отбиваетесь от них, отмахиваетесь, открещиваетесь в церквах ваших денно и нощно. Топчешь все, что было, и приближенных своих к тому же поощряешь.
— Не таков я есть, — возразил спокойно Ярослав, — мало ты видишь из своей пещерки, в одну лишь сторону глядишь. А что грешен, так… не зря ведь в басне говорится: каждый носит по две сумки Одну спереди для чужих грехов, другую сзади — для своих, так, чтобы не видно ее было. Что же касаемо княжьей власти, то всегда должон быть тот, кто учит разуметь самое возвышенное: свою державу, правду, честь. Ты ведь тоже ходил среди людей и обучал их чему-то?
— Токмо предостерегал. Ибо только тот народ мудр и спокоен, который трудится для себя и не зарится на чужое. Он спокоен и лишен гордыни, пока не разбогатеет, не рассобачится. А уж тогда плюет на целый свет, топчет люд иных земель и может того дождаться, что и сам растоптан будет… Ты же, княже, хочешь, дабы все было как у ромеев, а Киев чтобы стал еще одним Царьградом…
— Откуда ведомо тебе? — удивился Ярослав прозорливости старика. Он сам еще себе боялся признаться в этих мыслях, а этот заброшенный в яму человек, оказывается, все видит и знает. Не удивительное ли дело?
— Испокон веков так ведется: когда у соседа свинья большая, то и самому хочется выкормить такую, а то и еще побольше.
— Стольный город — не свинья.
— Еще прожорливее. Оглянись вокруг — сколько расплодил дармоедов твой отец, а ты их развел во сто крат больше, да и еще разведешь. Церквей столько наставили, что в них псы бегают. А голод и мор точно так же ходят по нашей земле, беда не выводится, горя еще больше.
— Голод и мор все едино никто не сможет одолеть, — словно бы оправдываясь, рассудительно произнес Ярослав, — зато всегда можно найти способ дать угнетенным душам что-нибудь, чем они могли б гордиться. Прежние междоусобицы стояли преградой для дел великих, теперь собраны воедино все наши земли, весь народ может объединить свои усилия, свою работу, а самое лучшее применение для них — это сооружение и творение знамен державных. Отворить житницы и накормить тысячи голодных ртов, вымостить через трясины дорогу в Киев, чтобы везли на торжище и на обмен харчи и меха, мед и воск, или поставить среди болот златоглавый храм, проложив к нему лишь узкую тропинку, но вознеся этот храм над всем миром в сверкании и великолепии? Кто как хочет, а я выбираю храм, и каждый на моем месте должен был бы сделать точно так же, если бы Бог наградил его мудростью.
— А ежели у человека и хижины нет, чтобы укрыться от зимней стужи? — еле слышно спросил старик.
— Когда у человека есть хижина, он должен строить храм. Ежели нет хижины — тоже должен строить храм, — твердо ответил Ярослав.
— Считаешь себя мудрым, а ты жестокий, да и только.
— А что такое мудрость? Это правда. Правда же милостивой не бывает. Она твердая и жестокая. Много прочел я книг, все века и все народы там описаны, всюду было много жестокости, но только она приводила народы к расцвету. Чтобы держава могла расцветать и подниматься выше всех, народ должен согласиться на некоторые тяжести и жертвы. По доброй воле он на это не пойдет — надобно заставить!
— Такова судьба великих народов, — грустно промолвил старик, — они либо становятся жертвой чужих захватчиков, либо же попадают в руки тиранов.
— Что же, по-твоему? Я — тиран? — обиженно спросил Ярослав.
— В речи своей. А от слова к делу — рукой подать. Научен ты жестокости. Чужой жестокости обучен.
— Разве можно учиться своему? Не было же письмен у нас, не передали нам мудрецы наши древние о прошлом, в темноте блуждали вслепую. Мой отец вырвался из тьмы, призвав носителей новой веры, которая победно идет по земле.
— Содрогаются все земли от этой веры, не принимая ее, еще тысячу лет будут содрогаться.
— Откуда ведомо тебе?
— Вижу отсюда все, — упрямо сказал старик, — а что касаемо мудрости, то живет она меж людом. Письмо же порождает смуты и войны. Бог не пишет никогда. Он молвит голосом ветра, грома, воды, леса.
— Не слышу его речи, — сказал князь.
— Глухой еси. А отверзнутся твои уши — поздно будет.
— Буду идти своей дорогой, — встал князь, — тебя же не могу выпустить отсюда.
— Отрока не трогай, — уже в спину князю сказал спокойно старик, продвигаясь по завалинке, чтобы расположиться поудобнее, потому что разболелись у него кости.
Пир был еще в разгаре, когда вернулся Ярослав. Гуляки радостно взревели, увидев князя, неистово захлопали в ладоши, переняв этот глупый ромейский обычай, потянулись к Ярославу с ковшами, поставцами, братинами двуухими. Он остановился на пороге, посмотрел на пьянчуг трезвыми злыми глазами так, что все мигом затихли, бросил им грубо и презрительно, словно собаке кость:
— Не пора ли и на молитву?
Отошел от двери, уступая им проход, и они, опережая друг друга, начали вылетать в темные просторные сени, спотыкались о длинные скамьи, падали, поскользнувшись, сталкивались в тесном пространстве дверей, молча сопели, тяжело дышали, торопились исчезнуть, убежать от княжеской ярости, бежали молиться Богу, невнятно бормоча пьяным языком на бегу, и вот уже — никого, лишь Ситник стоит за спиной на страже да медленно обгладывает огромную кость, сидя за столом, Бурмака и нахально поглядывает на князя, — дескать, с глупого, как со святого, взятки гладки.
Ярослав, сильнее чем обычно прихрамывая, подошел к столу, сел напротив Бурмаки, придвинул к себе какую-то посудину, не глядя налил зелья, выпил, взял кусок мяса.
— Тяжела жизнь наша, Бурмака, — сказал он тихо и словно бы жалобно.
— Для таких дураков, как ты, — жестоко отрезал шут.
— Никто не пожалеет князя.
— А мало тебя били, негодник, — пользуясь своей безнаказанностью, продолжал разглагольствовать Бурмака.
Ярослав отвесил ему пощечину, шут молча покатился под стол, долго выбирался оттуда, заплакал, размазывая слезы по грязному лицу.
— Ты чего дерешься, дурак?
— А ты дай сдачи, — мрачно посоветовал ему князь. Он и сам не знал, чего хочет. Побыть хоть на миг простым человеком, чтобы защищаться не княжеской властью, а собственными руками, как в тот раз против вепря или когда-то супротив медведя, пущенного мерями. Биться, полагаясь лишь на силу в руках, как бился когда-то в Киеве на Перевесище против печенегов, бился уже и раненный в колено вражеским копьем, стоял, истекая кровью, нагнулся лишь для того, чтобы вырвать из раны острие копья, отбросил его прочь от себя и снова махал широким и тяжелым мечом и был страшен в своей окровавленности, так что враги не выдержали и бросились вниз.
Вот так биться, состязаться со всем миром, вечно идти на бой, ибо только тот, кто состязается, только тот прав. А там, где пролилась когда-то его кровь, он и поставит самый большой во всех землях храм, ибо ни единого храма нельзя себе представить без пролитой крови. Никто не станет упрекать, что поставил он собор на крови чужой, — нет, на своей собственной!
— Ну что, — спросил Бурмаку, — боишься давать сдачу?
— Хоть и глуп, да хитрый, — зло промолвил Бурмака, отойдя от князя подальше, и приник к ковшу с медом.
Ярослав поднялся и, прихрамывая, направился к двери, велел Ситнику, который из сеней наблюдал, удивляясь, за князем и его шутом:
— Седлай коней, поедем в Киев.
Ситник разинул было рот, о чем-то хотел спросить, но князь опередил его:
— Помолимся в пути, — сказал так, словно Ситник без молитвы и жить не мог. — Бог молитву к себе примет где угодно, лишь бы сердце было просветленным.
— Ага, так, — моментально согласился Ситник и побежал выполнять княжеское повеление.
Несколько дней ездил Ярослав с многочисленной свитой вокруг Киева. Останавливался на Перевесище, на поле за городом, где надумал соорудить церковь самую большую и славную, чтобы святое место было именно там, где ударили князя копьем в ногу, где пролилась его кровь, принесшая врагу проклятье и разгром. Не годилось, чтобы, храм возвышался вот так за городом, в одиночестве, храму всегда необходимо достойное обрамление, точно так же как драгоценному камню — мастерская оправа. Да и тесен стал Владимиров город, отовсюду под его валами лепились слободы и селения, толпился люд торговый и ремесленный, которому не хватило места на этой стороне; днем все торжища и улицы города наполнялись тысячами заезжих людей, на ночь стража выгоняла всех прочь, но у многих оставались незаконченные дела в городе, они далеко не отъезжали, ютились поблизости, из временных стойбищ и лагерей создавались потом целые селения, много там жило людей ценных, нужных для города, настало уже время взять их под защиту, оградить и их селение; чем больший город, тем больше поместится в нем воев, тем большую дружину может содержать возле себя князь, а значит — меньше опасений перед неожиданными налетами врагов, ибо не следует забывать, что и до сих пор в степях слоняются еще печенеги, а за Днепром — в каких-нибудь трех днях езды от Киева — Мстислав; жить в тесном городе нельзя, строить на открытом месте тоже не годится. Так князь Ярослав пришел к выводу вести вокруг Киева новые валы, укреплять их дубовыми городнями, рыть рвы, ставить крепкие каменные ворота.
Владимиров город весь был на виду. Из княжеского терема можно было охватить взором все: и церкви, и дворы, и торжища. Теперь речь шла о большем. Тут недостаточно было проведения копьем, как это сделал когда-то Константин Великий, показывая, где ставить стены вокруг Константинополя. Ярославов вал должен был опоясать Перевесище, потом идти прямо до самого Копырева конца, оттуда — вдоль кромки горы, пока не соединится с валом Владимировым. Ярослав сам проехал по тем местам, где должен был пролегать вал, всюду его встречало огромное множество люда, — кажется, ни у кого не вызывало восторга намерение князя ставить новые валы, ибо знали, какое это проклятое, длительное и изнурительное дело; молча стояли, смотрели на богатых всадников, уступали дорогу, долго смотрели им вслед, и тяжелые взгляды эти ощущали на себе все, кто сопровождал князя. Бурмака тащился на осле следом за цепью всадников, кричал издали, обращаясь к Ярославу:
— От кого заслоняешься? От брата родного?
На Копырев конец князь и не думал тянуть валы, потому что было далеко, да и город многое утрачивал в своих очертаниях, вытягивался неоправданно в один конец узким клином. Но вышли ему навстречу богатые агарянские купцы с Копырева конца, вышли армянские ремесленники и врачи, вышли жидовины с щедрыми дарами, встали на колени перед князем, умоляли, чтобы взял он их в свой город с их домами, женами, детьми, ибо уже много лет провели они здесь, под Киевом, поменяли свои родные земли на эту землю, полюбили ее, верно служили князю Владимиру, хотят служить и ему, Ярославу.
Ярослав улыбнулся, велел брать дары, обещал копырянам оградить валом и их, сказал, словно бы хотел оправдать свою жадность:
— Деньги у людей — что вода, разлитая, расплесканная. Кому-то надо собрать воедино, чтобы построить храм великий. А кому же, как не князю!
Бояре качали головами: да, да. А Бурмака сзади восклицал злорадно:
— Не наберешься ты, княже, с этими дарами на свое строительство! Вели скорее дань собирать! Да пусть собирают днем и ночью в великой спешке и без недобора!
Услышав о княжеском объезде, выползали из подольских яров и останавливались на кручах молчаливые кожевники, быстроглазые гончары, кузнецы по железу и меди, шабельники, котельники, роговники, скорняки, сидельники, лучники, кушниры, выходили из яров, видно, оставив только что свои работы, задымленные и запыленные, длинноусые, с бритыми бородами (еще не дошел до них ромейский обычай выращивать круглые бородки), эти даров не выносили, не просили оградить валом и их хижины, ибо все равно грабить там нечего, да и чувствовал себя человек вне валов как-то вольнее, легче дышалось, когда ты был подальше от князя, а князь от тебя.
Стояли у самого обрыва, с вызовом смотрели на князя и его холуев, ни приветственных возгласов, ни радостных улыбок на лицах, — холодная отчужденность и полное непонимание высоких государственных интересов, как и у придурковатого Бурмаки, который болтается сзади на осле и выкрикивает хулу на князя.
Ярослав ехал выпрямившись, гордо, холодно щурил свои умные, глубокие глаза. Вот так он идет сквозь жизнь и будет идти до конца — и всегда ему вечный вызов со всех сторон. Вечно должен заботиться о боевой мощи и защите. Эти кожевники и кузнецы не думает про державу. Не способны. И хлебороб, сеющий рожь и просо, тоже не способен. Поэтому пусть молча кормит тех, кто может позаботиться о его безопасности.
А ты верши задуманное!
Простой люд равнодушен к власти. Она ему ни к чему. Он бы и государственного единства и независимости не имел, если бы не князь. Так пусть же будет благодарен князю. Не князь будет благодарить кого-то там за напитки и яства, а пусть люди благодарят князя. Поучать их об этом денно и нощно.
Верши задуманное!
Чем большая земля, тем больше в ней беспорядка, смуты и безответственности. Устранить их может только сильный человек, который не знает страха ни перед кем и не нуждается в подсказках. Священники пусть уговаривают толпу, а князь знает все сам.
Верши задуманное!
Каждая земля позволяет себе какие-то излишества: то попов, то воев, то священных животных, то купцов, то холуев. Кто не хочет работать днем и ночью, должен стать либо проповедником, либо льстецом. Льстец — это нечто среднее между человеком, который кое-что знает, и дураком. Князь должен всю жизнь вертеться между такими холуями и лизоблюдами, как те, которые едут следом за ним, и между людьми, которые умеют что-то делать и делают молча и терпеливо. Должен пройти между ними осторожно и гордо, никого не поддерживая, никому не помогая. Если поможешь кому-то, один будет благодарен, а сто — недовольных. Если же причинишь зло одному, то недоволен будет только один, а сто будут радоваться, ибо у каждого непременно найдется сотня врагов.
Верши задуманное!
Дела твои должны быть огромными даже и тогда, когда и злодеяния огромны. В истории каждой земли есть изрядное число страниц позорных и жестоких. Кроме твоей земли. Ежели и был у нас когда-нибудь позор или жестокость, их надлежит предать забвению. А тому, кто потщится вспоминать об этом, надобно отбить охоту.
Верши задуманное!
Год 1028. Теплынь. Киев
…и уста усобица и мятеж и бысть
тишина велика в земли.
Летопись Нестора
о новости дела вмешиваться не буду, — так сказал тогда князь, принимая их в теремных сенях, где имел обыкновение принимать всех подданных, а со временем приспособился вести переговоры там и с иноземными послами, чтобы показать превосходство своей земли над всеми остальными, но послы, кажется, так и не понимали, что и к чему, ибо княжий терем был вельми запутанным в своих переходах, приходилось пересекать несколько сеней, в одних стояла большая стража, в других горели свечи перед сверкающими золотом иконами, третьи сени назывались кожуховыми, потому что там следовало оставлять верхнюю одежду — кожухи, корзна, тяжелые плащи, затем ступеньки — одни и еще одни — и просторное помещение: резное дерево, золотые и серебряные украшения, застланные невиданными мехами дубовые скамьи, окованный чеканным золотом княжий стол, высокая, сделанная умелым дуборезом из сплошного куска дерева подставка, на которой лежит развернутая пергаментная книга в драгоценном окладе, еще несколько книг, дивно украшенных, лежат на ярко разрисованном сундуке рядом с княжьим столом, — такого не увидишь нигде- ни у ромейского, ни у германского императоров, ни у восточных владык, ни у французского короля, ни у ярлов варяжских.
— По новости дела, вмешиваться не буду, — сказал князь ромейским умельцам, прибывшим из Константинополя, — для нас главное — размеры и украшения церкви, а остальное — ваша забота.
Он сидел на своем княжьем месте, они стояли далеко от него, стояли беспорядочной молчаливой кучей. Мищило велел всем одеться в ромейские праздничные наряды, все на них сверкало, состязаясь с блеском княжеского золота и серебра, но на Ярослава, как видно, это не производило никакого впечатления. Его глаза с холодной внимательностью смотрели на всех сразу, никого не выделяя; эти глаза уже были знакомы Сивооку: они напоминали ему холодные и твердые глаза князя Владимира в Радогосте, только у Ярослава, кроме холодности и твердости, во взгляде светился глубокий разум, и от этого глаза его были словно бы теплее, не такими темными, как у его отца, напоминали цвет соловьиного крыла.
Князь, видно, считал их всех ромеями, поэтому и обращался к ним по-гречески. Мищило, надутый и напыщенный, тоже изо всех сил выдавал себя за ромея, начал разглагольствовать про Агапита, начал показывать князю пергамент, на котором было начерчено Агапитом, как должна выглядеть сооружаемая ими церковь. Ярославу, видно, понравилась деловитость Мищилы, он зазвонил в колокольчик, слуги внесли ковши с медом, по русскому обычаю, было выпито; все молчали, Ярослав поднялся из-за своего стола, подошел, прихрамывая, ближе к художникам, посмотрел на пергамент. И тогда словно что-то толкнуло Сивоока. За всю долгую и тяжелую дорогу от Константинополя до Киева не думал о своей грядущей работе, равнодушно слушал разглагольствования Мищилы, но вот теперь…
Не просто возвратился он на родную землю, не для воспоминаний и не для растроганности, не для любования Киевом и Днепром, травами и пущами, нет! Вот стоит возле него человек, который владеет огромной землей, князь, не похожий на других: наверное, замыслы у него тоже не как у других — великие и значительные, но сам он мало сможет, а если будет брать на помощь таких, как Мищило, то и вовсе ничего. Сказал, что не будет вмешиваться, но сам рассматривает пергамент и думает над чем-то — разве есть еще на свете такие князья? До сих пор Сивоок знал, что делами строительными ведают сакелларии или игумены, доверенные люди патриарха, епископа, иногда — императора; за много лет работы у Агапита не помнил случая, чтобы такой вот человек пришел к художникам или позвал их к себе. Но, может, это была лишь короткая вспышка княжеского любопытства, может, выпьют они, по обычаю, этот мед, посмотрит князь небрежно на чужеземный пергамент, не смысля в нем ничего, махнет рукой, отпустит их с Богом, и все перейдет в руки Мищилы, тупого исполнителя воли Агапита, и, пока престарелый и самовлюбленный Агапит будет утешаться где-то в своих садах влахернских, тут будут воздвигать в тяжком труде, средь бедности, недостатка, горя, проклятий и слез простенькую церквушку, может, даже хуже поставленной Владимиром церкви Богородицы, а что уж меньшую, то это Сивоок видел точно и не мог никак взять в толк, почему Агапит уполномочил Мищилу на такое строительство.
Сивоок испугался, что пропустит, быть может, единственный случай, торопливо протолкался вперед, стал возле Мищилы, смело глянул на князя, сказал на родном языке:
— Сделать нужно так, княже, чтобы весь мир удивлялся, а земля наша чтобы прославилась этим храмом.
— Молвишь по-нашему? — шевельнул бровью Ярослав и сделал шаг искалеченной ногой. Забыл об осанке, болезнь давала себя знать. — Молвишь по-нашему? Разве не гречин еси?
— Русич. С Древлянской земли.
— Как же очутился среди ромеев?
— Пуганые стежки у судьбы.
— Искусство знаешь? — допытывался князь.
— Мусию он кладет, — вмешался Мищило по-ромейски, но князь, казалось, не обратил внимания на то, что Мищило понял их речь А может, князь знал об их происхождении, да только делал вид, что не ведает.
— Все делаю, — сказал Сивоок, — и мусию кладу, и фрески рисую, и зиждительское дело знаю.
— Почто ж гречины выдают тебя за своего? — спросил Ярослав.
— Выгодно им. Торгуют славою и своей и чужою Все в свою мошну.
— Бог един, — насупился князь, — и слава вся идет Богу Кто тебя научил, от того и выступаешь.
— Художников не обучают, — смело промолвил Сивоок, — их укрощают Так, как диких коней — тарпанов. Не учишь же их бегать: умеют от рождения. А чем больше укротишь, тем хуже, медленнее станет их бег. Красота в нем умрет, раскованность исчезнет вместе с диким нравом. Вот так и художник.
— Так кто же ты; конь или человек? — улыбнулся князь.
— На него часто такое находит, — умело вмешался Мищило, — это, наверное, от дурноватой девки, которую с собой повсюду возит. Привез и в Киев, княже.
Князь взглянул на Сивоока как-то неопределенно. То ли осуждающе, то ли пренебрежительно, Сивоок не испугался ни- разоблачения Мищилы, ни княжеского взгляда, но наползло на него тяжкое и непреоборимое; казалось, что мир разламывается, будто хрупкий сосуд, разрушаются, валятся все храмы, монастыри, дома, которые он ставил и украшал, и только он стоит посредине целый и невредимый, но весь в полыхании дикого огня и не может ни с места сдвинуться, ни слова произнести.
— Малая церковь, княже! — только и мог воскликнуть, опасаясь, что бросится на Мищилу и начнет его душить или швырнет его на землю, начнет топтать ногами. Сивоок был сам не свой, но никто не замечал его состояния.
Князь спокойно переступил с ноги на ногу, снова взглянул на пергамент.
— Мала? — переспросил. — Почему же мала?
— Потому что мала! — снова воскликнул Сивоок.
Мищило засмеялся. Его тешило детское упрямство Сивоока.
— Митрополит Феопемпт прибыл вместе с нами, — напомнил он князю, — церковь им такожде утверждена. Смотри, княже, тут длина, тут ширина, как и церковь Богородицы, поставленная твоим отцом князем Владимиром. Три навы, над каждой купол, боковые навы меньше, купола над ними ниже, камень можно класть всякий, ибо для Божьего храма важен не наружный вид, а внутреннее украшение.
— Что скажешь? — обратился князь к Сивооку.
— Мала церковь, — повторил тот.
— Почему же не говорил об этом своему хозяину там, в Константинополе?
— Понял это лишь теперь. Когда увидел Киев. Увидел и не узнал. А что будет дальше, когда обведешь новыми валами, княже?
Ярославу понравились последние слова Сивоока, однако вывод из них он сделал несколько неожиданный.
— Сделаю Киев соперником Константинополя, — сказал он, возвращаясь к своему столу. — А для этого все сделаем, как в ромейском стольном городе: церковь Софии, Золотые ворота, монастыри, храмы, игрища, палаты…
Сивоок молча отступил. В нем постепенно угасала вспышка, толкнувшая его вперед к князю, необычность Ярослава тоже словно бы сразу затмилась, как только промолвил он слова про Константинополь. Опять одно и то же! Опять повторение и подражание. Никто не думает о том, что высшая ценность быть самим собой. Нет, нужно заимствовать. Заимствовали Бога у ромеев, теперь заимствуют все и к Богу, даже способностей своих словно бы нету — нужно просить их у ромейского императора, и талант лишь тогда талант, когда привезут его с чужбины. Почему так?
Когда-то на этой земле жили настоящие художники, которые в тяжелом творческом напряжении из ничего добывали краски и образцы и украшали жизнь вот так хотя бы, как украшены эти княжеские сени, а теперь появились лишь распространители чужого умения, такие, как Мищило, — а они, выходит, и милы князьям? И этот, с умными глазами, со сдержанным, человеческим голосом, лишенным сытого чванства, как у всех властелинов, он тоже не может отойти от установившегося, ему тоже хочется позаимствовать уже готовое. Константинополь! В самом деле, великий и славный город, собрано там множество чудес. Но почему Киев должен быть похожим на него? Да здравствует неодинаковость, слава непохожести!
Но все это лишь промелькнуло в голове у Сивоока, выразить толком этих мыслей он не мог, поэтому побрел на свое, место, позади других, понуро возвышался там, разъяренный не столько на Мищилу и князя, сколько на самого себя. Вдруг молнией мелькнуло у него в голове: уж ежели как в Константинополе, то почему же Агапит прислал рисунок такой церкви?
— В Константинополе строим лишь пятинавовые церкви, — сказал, не обращаясь, собственно, ни к кому, — а трехнавовые нынче — лишь в отдаленных провинциях. Может, ты сам этого хотел, княже?
Это уже были тонкости, каких Ярослав знать не мог, но Мищило испугался, что князь начнет допытываться и в самом деле пожелает для себя тоже сложного пятинавового сооружения, которое Агапит не мог доверить ставить никому, считая, что только один во всем мире способен на такое. Мищило боялся уже не столько за себя самого, сколько за своего константинопольского хозяина, учителя и наставника, он понимал, что будет иметь здесь независимость лишь до тех пор, пока будет прикрываться значением и превосходством Агапита; Сивоок, ясно, был человеком опасным в своей необузданности и в своем умении, которым он превосходил всех, но дурости в нем тоже было полно, поэтому Мищило снисходительно улыбнулся, поближе подошел к князю и вполголоса, как будто больше никого там, кроме их двоих, не было, начал, на этот раз уже пересыпая ромейскую речь словами русскими:
— Все главнейшие церкви в Константинополе, княже, построены точно так же на три навы, как и наша будет. И церковь премудрости Божьей святая София имеет три навы, и церковь Божественного мира святая Ирина, и церковь Воскресения Господнего святая Анастасия. Когда же божественный Юстиниан ставил святую Софию, все великие города и земли — Афины, Делос, Кизик, Египет, — славные своими строениями, отдали все самое ценное: мрамор, золото, серебро, слоновую кость, колонны и резьбу. На острове Родос для возведения главного купола был вылеплен легкий кирпич, и на каждом кирпиче была надпись: «Бог основал ее, Бог ей и поможет». Через каждые двенадцать рядов в камень укладывали священные реликвии, в то время как священники читали молитвы. Главный купол держится на четырех больших столбах каменных, имеет в себе сорок окон, и ежели посмотреть снизу изнутри, то кажется, будто нависает над человеком небо. Под куполом прицеплен голубь, изображающий святого духа, а в теле голубя хранятся святые дары. Стены изнутри все выложены дорогим мрамором всяких цветов и оттенков, карнизы покрыты золотом, купол изнутри тоже весь покрыт золотой мусией, по которой идут изображения святых. В святой Софии сто восемь колонн, восемь из которых взято из храма Дианы в Эфесе. Алтарь отделен от церкви серебряной преградой с двенадцатью колоннами, престол из настоящего золота, со вставленными в него драгоценными камнями, ночью в церкви зажигаются шесть тысяч золотых лампад…
Мищило пересчитывал далее: сколько в Софии дверей серебряных, сколько медных, сколько кедровых, сколько дискосов, чаш, потиров, каковы по весу Евангелия. Будучи не в состоянии передать величие и красоту крупнейшего константинопольского храма, он пытался потрясти хотя бы перечислением, нагромождал камень, дерево, медь, золото, попытался бы еще подсчитать, сколько все это стоило, сколько пришлось собрать Юстиниану податей со всех византийских фем, так, будто главное было в количестве колонн и рисунков, а не в том, как они поставлены, как оформлены, как подобраны друг к другу, и как там положена мусия, и как ковано золото и серебро. Но об этом Мищило не сказал ни слова. В своей душевной ограниченности не ведал он того, что одни лишь имена зданий и городов уже вызывают в чутком сердце их образ. Константинопольская София тоже имела свой образ. Для Сивоока это была зеленая просветленность, будто утренняя морская прозрачность. Так когда-то впервые попал он в церковь Богородицы в Киеве, и навсегда осталось у него в сердце вишнево-сизое воспоминание, и звон колоколов, и золотое мерцание свечей. Но разве же об этом можно рассказать. Человек может лишь ощутить красу, может лишь переживать, и только тот, кто ее почувствовал, может творить наново, только в этом человеке есть подлинный дар. Неужели и этот умный и мудрый князь не умеет отличить человека способного от бездарного?
— Верю, что построишь ты для нас церковь славную и великую, — сказал Ярослав Мищиле и поднял правую руку, как бы благословляя его на подвиг.
Мищило встал на колени, отвесил поклон князю, пробормотал:
— Помоги, Боже, дабы при малом таланте дела великие одолел я…
Сивооку хотелось закричать: «Не верь ему, княже, не верь!». Но что крик! Так заведено было повсюду. Мищило знал, что нужно унижаться перед Богом, и чем больше ты унижаешься, тем лучше. Кто же может ведать, какой величины талант у Мищилы на самом деле? Или эти безмолвные антропосы скажут об том? Какое им дело? Чужая земля, они исправно сделают свое дело, возвратятся назад в Константинополь, к своему Агапиту. Но ведь он, Сивоок, не вернется. И земля эта не чужая для него, а родная, дорогая, единственная в мире! «Помоги, Боже, дабы при малом таланте!..». Зачем же для такой земли да малые таланты! Держава всегда старается покупать таланты, но скупость мешает ей вы: брать самое лучшее, а может, просто нет умения выбрать, потому-то в большинстве своем купленные бывают либо самыми худшими, либо же посредственными, которые умеют лишь своевременно выскочить вперед, все эти крикуны, ведущие себя так, будто имеют у себя в кармане грамоту на вечность. А настоящие великие таланты часто исчезают бесследно, предаются забвению, неизвестные и неузнанные. Бойся посредственности, о княже!
Но все это болезненно билось лишь в мысли у Сивоока, а выразить это он не решался и лишь сжимал кулаки от отчаяния, — снова раскалывался и разламывался перед его глазами мир, снова вставала перед глазами дивная церковь, он видел ее всю снаружи и изнутри, стояла она яркой писанкой из далеких лет его детства; собственно, была это и не церковь, а образ его земли, который родился из давних воспоминаний и из новой встречи с Киевом, образ, пролетающий, будто дыхание ветра в осенней листве, будто наполненные птичьим щебетом рассветы, будто золотистая молчаливость солнца над белой тишиной снегов.
А князь тем временем снова зазвонил в колокольчик, вошли какие-то его люди, стали позади, начался ряд с Мищилой, говорилось о вещах мелких и несущественных: о праве свободного выполнения работ, найме каменщиков и челядников, привозе всего необходимого из Византии, подчиненности лишь княжескому суду, а какой этот княжеский суд — видно было уже теперь, для князя лучше покорный телок, чем бык, который мечется во все стороны и рвется куда-то в неизведанность. Еще молвилось о харчах для мастеров, о красном вине, рисе, фигах, миндале, изюме. Никогда Сивоок не думал, что Мищило может зайти в своем измельчании аж так далеко, а тот старался проявить перед князем знакомство с самыми незначительными на первый взгляд делами, удивить Ярослава обширностью своих интересов — от дел божественных вплоть до какого-то там изюма для мастеров на праздничные и воскресные дни.
Князь тоже вошел во вкус, ему, видно, понравилась рачительность Мищилы, он живо обсуждал все требования мастеров, приятно было спустить этих загадочных людей из заоблачности и непостижимого умения на грешную землю, наблюдать их превращение в простых смертных, выставлять перед ними требования: где должны жить, сколько работать, какие праздники отмечать, а какими пренебречь, что они могут делать, а чего нет, какие развлечения допускаются, а какие запрещены, какая будет оплата, и как с одежкой, и что будет, ежели кто-нибудь из них заболеет неизлечимой болезнью или же утратит зрение на строительстве княжеской церкви, и как должны они соблюдать пост, и о запрещении охоты в княжеских землях, и о недопустимости блуда, и о том, как следить за строительством, и о молитвах…
Когда-то, еще в детстве, прикованный своими хворостями к постели, спасаясь от тоски и отчаяния, Ярослав лепил из хлебной мякоти неуклюжих лошадок и птиц, потом пробовал подаренным князем Владимиром ножом резьбить по черному дубу, веселый воевода Будий расхваливал эти детские затеи, говорил, что никто так не сможет, как маленький князь, дохвалился до того, что Ярослав во время одного из приступов бешенства начал кричать, чтобы к нему в спальню собрали всех киевских малышей, которые умеют лепить или заниматься резьбой; воевода пообещал уважить прихоть маленького князя, в самом деле несколько дней собирал по всему Киеву каких-то замызганных и ободранных малышей, где-то их долго отмывали в бане и переодевали, прежде чем допустить к Ярославу, они пугались пышных палат, вооруженной стражи, многочисленной челяди, сновавшей повсюду; в палате маленького князя они испуганно прижимались к двери, не произносили ни слова, но маленький князь тоже, кажется, не горел желанием вступать с ними в разговоры, спросил лишь воеводу:
— Ну, что они там умеют?
Будий молча стал показывать князю резьбу и лепку, были там вещи очень совершенные.
— Вранье! Обман! — мрачно взглянул на все это Ярослав. — Не могут малые такое…
— А вот увидим! — весело промолвил Будий. — Вот дадим им глину и дерево, пускай кто что хочет, то и делает!
— И чтобы перед моими глазами, — сказал Ярослав.
Дали малышам глину, дали дуб и резаки, кто сел на скамью, а кто и просто примостился на полу, мальчишки взялись за работу горячо и самоотверженно. Ярослав решил покамест удержаться, посмотреть на то, что у них выйдет, он словно бы предчувствовал, что состязаться ему с этими маленькими киевлянами негоже и не к лицу; терпеливо ждал, пока появятся первые слепки и первая резьба; мальчишек накормили обедом вместе с князем; когда начало темнеть, зажгли свечи, чтобы работа не прекращалась, кто первым заканчивал свою игрушку, принимался за что-нибудь другое; Ярославу некуда было спешить, все равно он вынужден был лежать и потому сказал им, что могут жить здесь хоть месяц, что в дальнейшем и он сам присоединится к ним, но чем больше носил ему в постель Будий вещей, сделанных на скорую руку, почти на бегу этими безвестными подростками, тем молчаливее и мрачнее становился маленький князь, тем с большим нежеланием поглядывал на своих соперников, ибо смекнул, что если бы посадили его с ними, то был бы он среди них самым худшим, самым бездарным. Над его лепкой и резьбой можно лишь посмеяться.
В приливе ярости он выгнал всех их вместе со смеющимся воеводой прочь, возненавидел с тех пор всех, у кого есть способности к искусству, но с течением лет в глубине души он стал уважать дарованное Богом умельство, ибо ведал теперь очень хорошо, как много душ можно завоевать искусством.
Вот почему сам он принимал теперь художников, вызванных из Византии, сам советовался с ними, на прощание даже вспомнил о Сивооке, похлопал его по плечу, сказал Мищиле:
— Не обижайте этого человека.
— Христоса ему лишь не хватает, — сердито промолвил Мищило. — Всюду и везде чего-то ищет!