Голливуд Буковски Чарльз
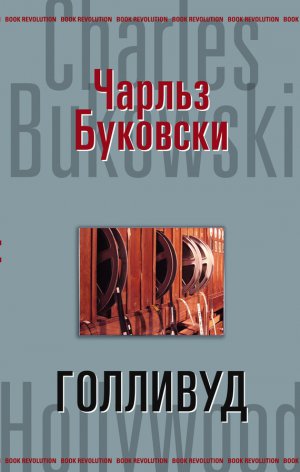
Джон убежал.
Вошла Сара.
– Что случилось?
– Девятнадцатый дубль. Франсин боится показывать грудь. Джек не может сказать текст. Хайнсу не нравится свет…
– Франсин надо дать выпить, ей сразу полегчает.
– Ну, Хайнсу этот совет не нужен.
– Знаю. А когда Франсин расслабится, у Джека язык развяжется.
– Возможно.
И тут вошла Франсин. Она выглядела совершенно опустошенной. На ней был банный халат, голова обвязана полотенцем.
– Я с ней поговорю, – шепнула мне Сара. Она подошла к Франсин и тихонько заговорила.
Франсин прислушалась. Потом кивнула и вышла в соседнюю комнатушку-спальню. Сара на минутку отлучилась в кухню и вернулась с кофейной чашкой. В кухне имелся отличный выбор: два сорта виски, водка, джин. Сара чего-то намешала. Дверь в спальню приоткрылась, и чашка исчезла. Сара не задержалась.
– Сейчас придет в себя.
Минуты через две-три та же дверь распахнулась снова, на пороге появилась Франсин и заспешила прямо на камеру. Проходя мимо Сары, она поблагодарила ее одними глазами.
Нам ничего не оставалось, как сесть и маленько поболтать, коротая время.
Я никак не мог отделаться от нахлынувших воспоминаний. Как-никак именно отсюда меня выперли за то, что я привел в гости на ночь трех девочек. Тогда еще не слыхали про такую штуку, как права жильцов.
– Мистер Чинаски, – заявила мне хозяйка, – у нас верующие живут, трудящиеся, родители с детьми. Ни от кого из них я еще таких жалоб не слыхала. И вас я вдоволь наслушалась: у вас то поют, то ругаются, посуду бьют, матерятся, ржут… А уж что у вас нынче ночью творилось – такого я отродясь не слыхивала!
– Хорошо, я съеду.
– Благодарю вас.
Я, конечно, совсем с катушек слетел. Бриться перестал. Ходил в майке, прожженной сигаретами. Одна была у меня забота: чтобы на комоде стояло не меньше двух бутылок. Я никак не вписывался в окружающий мир, и мир никак не хотел меня принимать. Я нашел несколько родственных душ, по большей части женского пола, я их обожал, они меня вдохновляли, я играл на публику, щеголял перед ними в исподнем, объяснял, какой я гениальный, но верил в это только сам. А они орали: «Отъебись! Налей-ка лучше еще этой дряни!» Эти дамы были исчадием ада, и в моем аду они чувствовали себя как дома.
В комнату опять ворвался Джон Пинчот.
– Сняли! – возвестил он. – Все сняли! Какой удачный денек! Завтра продолжим.
– Скажи спасибо Саре, – сказал я. – Она умеет готовить волшебный напиток.
– То есть?
– Она угостила Франсин, и та сразу расслабилась.
Джон обернулся к Саре.
– Спасибо тебе огромное!
– К твоим услугам, – ответила Сара.
– Подумать только! Сколько лет в кино – и впервые пришлось снимать девятнадцатый дубль!
– Мне говорили, – вмешался я, – что Чаплин однажды снимал сто дублей, пока не удовлетворился.
– Так то Чаплин, – возразил Джон. – А у нас сто дублей – и бюджет исчерпан.
На этом день, в общем, и кончился. Если не считать того, что Сара сказала:
– Черт побери, а не закатиться ли нам к «Муссо»? Что мы и сделали. Мы заняли столик в старом зале и, прежде чем изучить меню, заказали выпивку.
– Помнишь? – спросил я. – Помнишь доброе старое время, когда мы приходили сюда поглазеть на эту публику и разбирали ее по мастям: вот это актеры, там продюсеры или режиссеры, вот порнозвезды, а эти пытаются пристроиться к киношному бизнесу… Мы пытались представить, о чем они говорят. Конечно, о своем придурошном кино, о контрактах и последних фильмах. Ничтожные малявки, неудачники… глаза бы на них не глядели… лучше отвернуться и смотреть в тарелку, на которой морская капуста и рыба-меч…
– Мы считали их дерьмом, – сказала Сара, – и вот поди ж ты, сами такими стали.
– Колесо жизни свершило свой оборот…
– Принесите нам морской капусты.
У нашего столика стоял официант. Он хмурился, переминаясь с ноги на ногу, густые брови почти закрывали глаза. Муссо открыл этот ресторан в 1919 году и навидался всякого. И такие, как мы, тут тоже не в диковинку. Да, пускай будет рыба-меч. С жареной картошкой.
Фильм снимали на трех площадках. Разные комнаты, разные улицы, разные бары.
Один эпизод надо было снимать ночью: кража кукурузы и погоня.
Кукурузу взрастили, и пора было ее воровать.
За аренду натуры из бюджета отстегнули пять тыщ. Участок принадлежал Центру реабилитации алкоголиков. Пинчот обрыскал всю округу в поисках чего-нибудь подешевле, но в конце концов пришлось остановиться именно на этой территории – той самой, где тридцать лет назад моя подруга и совершила ту самую кражу. Посадку осуществили на прежнем месте. Прочие детали совпали не столь счастливо. Например, доходный дом, в котором она жила и куда я к ней въехал, превратился в приют для престарелых.
В большом доме, который теперь оккупировал алкашный центр, в те времена был популярный танцзал. Там всегда было полно народу, особенно по субботам. Танцевали на первом этаже; зал был необъятных размеров, под потолком кружились огромные лампионы, оркестр играл до самого утра, а у подъезда ждали хозяев автомобили, многие с личными шоферами.
Голодая, ругаясь с хозяйкой и полицией, когда нас арестовали, а потом отпустили под залог, мы ненавидели этот танцзал и его посетителей лютой ненавистью.
А теперь тут поселились исправившиеся алкаши, которые читали Библию, дымили как паровозы и играли в бинго в том самом зале, где раньше веселились до упаду.
Только пустырь был все такой же. За все эти годы никто не удосужился тут чего-нибудь построить.
Франсин и Джек уже отрепетировали эпизод и разошлись по вагончикам, а мы стояли, ожидая команды «мотор!». Я пил пиво – и вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Симпатичный парень с аккуратно подстриженной бородкой, добрыми глазами и приятной улыбкой. Я где-то его видел, но не мог вспомнить, кто он такой. Вообще-то я догадывался, что он из шпионов «Файерпауэр».
– Простите, – сказал он, – но здесь нельзя пить спиртное.
– С чего вдруг?
– В контракте, который подписали с администрацией, указано, что пить здесь запрещено.
– Даже воду?
– Вы же понимаете.
– Понятно. Бывшей пьяни тяжко смотреть на чужое счастье. Но у нас ведь весь фильм про это самое.
– Мы приложили массу усилий, чтобы получить разрешение на съемку. Будьте любезны, соблюдайте правила.
– Ладно, приятель. Но только ради Джона Пинчота.
Он отвалил, виляя жидкой задницей, которая так и просила пинка.
Я повернулся спиной к зданию центра, сделал еще глоток и спрятал банку в карман.
– Тебя могут увидеть, – сказала Сара.
– Думаешь, эти парни в завязке пялятся в окна?
– Не обязательно, но тут всюду народ шныряет.
– Чтобы хлебнуть пивка, придется уходить в подполье.
– Да будет тебе! Тоже мне – звезда нашлась!
Сара была права. Я не мог позволить себе капризов. Актер, играющий главную роль, получал в семьсот пятьдесят раз больше меня.
Нас нашел Джон Пинчот.
– Привет, Сара! Привет, Хэнк!
Он сообщил, что Фридман прислал-таки нам новые чеки, причем мой был выписан прямо на меня. Попался карась на нашу удочку.
– Надо идти, – сказал Джон. – Сейчас будем снимать. А ты посмотри и скажи, как тебе понравится.
Дали команду «мотор!», Франсин побежала через заросли кукурузы.
– Хочу кукурузы! – кричала она.
Я вспомнил, как на этом самом месте бежала Джейн, а я тащил тяжелый мешок с бутылками. Но она кричала «хочу кукурузы!» так, будто речь шла обо всем, что она потеряла, обо всем, что прошло мимо нее. Эта кукуруза была для нее воздаянием за все, что ей недодал этот мир, ее победой, ее отмщением, ее песнью.
А в голосе Франсин, кричавшей «хочу кукурузы!», звучала обида, в нем была жалоба, но не чувствовалось отчаяния пьяной женщины. У нее хорошо получалось, просто здорово, но это было не то.
И когда Франсин принялась обдирать початки, это опять было не то, да и не могло быть. Франсин – актриса. А Джейн была напившейся до безумия женщиной. До полного безумия. Но глупо ждать от лицедейства живой боли. Будет с него и качественной имитации.
Итак, Франсин рвала початки, лихорадочно засовывая их в сумку, а Джек увещевал ее:
– Ты перебрала, мать… они же не поспели.
Потом появилась патрульная машина, ослепила их яркими фарами, Франсин с Джеком кинулись к дому, прямо как тогда мы с Джейн, и у дверей лифта их остановил крик в мегафон:
– Стой, стрелять буду!
Но стрелять никто не стал, вместо этого полицейские спокойно остались сидеть в машине. Съемка кончилась.
Мы не сразу нашли Джона Пинчота.
– Джон, старина, полицейским полагалось их зажопить!
– Знаю. У них дверцу заело. Не смогли выйти.
– Что?
– Конечно, в это трудно поверить, но хочешь не хочешь, придется починить дверцу, а потом снять все сначала.
– Шаль, – сказала Сара.
Обычно, когда что-то не ладилось, Джон только посмеивался. На этот раз он выглядел подавленным.
– Встретимся после пересъемки.
Мы пошли погулять. Мне ужасно не нравилось, что Джон впал в уныние. Он оптимист от природы. Многие его даже недолюбливали за излишнюю веселость. Но она, как правило, была неподдельной. Все мы время от времени изображаем непотопляемость. И я этим грешил. Но Джон и правда не терялся перед лицом неприятностей. И грустно было видеть, что он дрогнул.
Франсин, Джек и другие актеры разошлись по своим вагончикам. Терпеть не могу паузы на съемках. Кино обходится так дорого потому, что практически все время уходит на ожидание. Ждут, пока будет готово то и се, пока наладят свет и пристроят камеру, пока парикмахер сбегает пописать, а консультант закончит свои разглагольствования. А тем временем все маются бездельем. Но при этом исправно получают зарплату, и платить надо за каждый плевок, и каждый зорко следит за тем, чтобы ему вдруг не поручили чужую работу, а потом оказывается, что актеры не в настроении, хотя это их всегдашнее состояние, ну и так далее. Словом, одна пустая трата времени. А уж при нашем жалком бюджете это была совсем непозволительная роскошь. Мне хотелось гаркнуть, чтоб у них у всех в ушах зазвенело: «Кончайте баловство! Тут всех дел на десять минут, а вы валандаетесь чертову уйму времени!»
Но мне не хватило на это духу. Я ведь всего-навсего сценарист. Самая низкооплачиваемая единица.
Но благодаря случаю во мне взыграло самолюбие. Явились телевизионщики из Италии и еще из Германии. И пожелали взять у меня интервью. Оба режиссера оказались дамами.
– Он нам первым обещал, – предупредила итальянка.
– Так вы же все сливки снимете! – возразила немка.
– Постараемся, – согласилась итальянка.
Я уселся перед итальянцами. Камера заработала.
– Как вы относитесь к кино?
– Вообще?
– Да.
– Стараюсь держаться от него подальше.
– Чем вы занимаетесь кроме писательской деятельности?
– Лошадьми. Играю на тотализаторе.
– Это помогает вам в писательстве?
– Да. Помогает о нем забыть.
– В этом фильме ваш герой пьет?
– Да.
– Это что, вызов?
– Нет, как и все прочее.
– Что значит для вас этот фильм?
– Ничего.
– Ничего?
– Ничего. Может быть, поможет забыть о смерти.
– Может быть?
– Да, то есть не наверняка.
– А о чем вы думаете, когда удается забыть о смерти?
– О том же, что и вы.
– В чем ваша жизненная философия?
– Как можно меньше думать.
– А еще?
– Если этого мало, постарайтесь быть добрыми.
– Как хорошо!
– Доброе и хорошее не одно и то же.
– Отлично, мистер Чинаски. А что бы вы хотели сказать итальянским зрителям?
– Не кричите так громко. И читайте Селина. На том и кончили.
Немецкое интервью получилось еще менее интересным.
Дамочка все допытывалась у меня, сколько именно я пью.
– Он теперь пьет гораздо меньше, чем раньше, – сказала ей Сара.
– Но теперь мне обязательно надо хлебнуть, иначе я не в состоянии продолжать беседу.
Выпивка появилась немедленно. В большом бумажном стакане. Я осушил его залпом. Это пришлось очень кстати. И я вдруг подумал, что интервьюировать писателя глупо. Все самое значительное он излагает на бумаге. А остается у него за душой только ерунда какая-нибудь.
Немка оказалась права. Итальянка выжала из меня все до капельки.
Итак, я превратился в избалованную вниманием звезду. И очень огорчался по поводу эпизода с кукурузой.
Мне бы сейчас поговорить с Джоном, втолковать ему, что Франсин надо напоить, свести с ума, опустить в ад, чтобы она хватала эти початки так, будто за спиной у нее притаилась смерть, а из окон ее дома смотрят чьи-то призрачные лица, безразлично взирая на печальную тщету бытия всех нас – богатых, бедных, прекрасных, уродливых, талантливых и самых никчемных.
– Вы не любите кино? – спросила немка.
– Нет.
Съемка кончилась. Вопросы тоже.
А эпизод с кукурузой пересняли. Может, не совсем так, как надо бы, но почти.
В десять утра зазвонил телефон. Это был Джон Пинчот.
– Фильм зарубили.
– Слушай, Джон, я уже не верю в эти сказки. Это все бухгалтерские уловки.
– Нет, его правда остановили.
– Да как можно? Они уже столько деньжищ вбухали, это же все прахом пойдет!
– Хэнк, «Файерпауэр» разорилась. Они не только нашу картину, они все свои фильмы заморозили. Я был у них утром в конторе. Там никого, кроме охраны. Никого во всем огромном здании! Я ходил по этажам и кричал: «Ау! Есть тут кто-нибудь?» И никто не откликнулся. Как в пустыне.
– Джон, а как же с гонораром Джека Бледсоу?
– Они не смогут ему заплатить. Никто из их сотрудников, в том числе и мы, не получит ни гроша. У них там люди по полмесяца без зарплаты сидели. Платить нечем.
– Что думаешь делать?
– Не знаю, Хэнк, похоже, это конец.
– Погоди отчаиваться, Джон. Может, нас кто-нибудь подберет?
– Никакой надежды. Сценарий всех отпугивает.
– Ах да, я и забыл.
– А ты что сейчас будешь делать?
– Собираюсь на ипподром. Если захочешь вечерком заскочить на стаканчик, буду рад.
– Спасибо, Хэнк, у меня свидание с парой лесбиянок.
– Тогда удачи тебе.
– Тебе тоже.
Я ехал на север к Голливуд-парку. Я играл на тотализаторе уже больше тридцати лет. Начал после того, как меня хватил кондрашка и я чуть не отдал концы в окружной больнице Лос-Анджелеса. Мне тогда сказали, что еще глоток алкоголя – и я могу считать себя мертвецом.
– Что же мне теперь делать? – спросил я Джейн.
– В смысле?
– Надо же найти какую-то замену.
– А, пожалуйста – лошади.
– Лошади? А что с ними делать?
– Ставки. Делать ставки.
– Ставки? Чушь какая-то.
Я, однако, попробовал и с ходу выиграл. И потихоньку втянулся. Потом и пить стал опять помаленьку. Дальше – больше. И не помер. Так что и пьянка мне осталась, и лошадки. Я здорово залип в это дело. Тогда по воскресеньям заездов не устраивали, и я мотался на своей дряхлой тачке в Аква Калиенте и обратно, не пропуская ни одного выходного. И ни разу меня не обокрали и не обдурили, и бармены по ту сторону мексиканской границы проявляли ко мне внимание не хуже наших, хотя иногда я оказывался единственным гринго в их заведениях. Мне нравилась ночная дорога домой, и когда я наконец добирался до постели, мне было все равно, дома Джейн или нет. Я не брал ее с собой, убедив, что для белой леди Мексика слишком опасная страна. И когда я возвращался, ее обычно не было. Она находилась в гораздо более опасном месте – на Альварадо-стрит. Но не забывала оставить мне три-четыре бутылки пива, и это примиряло с фактом ее отсутствия. Но горе ей, если она удосуживалась вылакать его сама, – тогда ей действительно угрожала опасность.
Что же касается лошадей, то я подошел к делу по-научному. Я выработал не меньше двух дюжин всяких систем. Применять их следовало с умом: каждая требовала учета множества факторов. Единственный фактор, который оставался неизменным всегда, заключался в том, чтобы поступать супротив большинства.
Одна из моих систем основывалась вот на каком соображении. Публика почему-то избегает ставить на определенные номера. И когда таких номеров набирается в таблице заезда порядочно, возможность сорвать куш сильно возрастает. В результате многолетнего изучения итогов заездов в Канаде, США и Мексике я вывел правило игры, основанное исключительно на таких номерах. «Бюллетень бегов» выпускал такие толстые красные тома с результатами заездов по цене десять долларов за книгу. Я читал их целыми днями. Все результаты так или иначе упорядочены. Выяви этот порядок, и дело в шляпе. Смело можешь давать наводку начальнику, чтоб не сильно наезжал. Я часто оказывал ему эту услугу, но это не спасало меня от необходимости искать новых. Может, из-за того, что я не прекращал совершенствовать свои системы. Чтобы успешно играть, следует побороть свои человеческие слабости.
Я въехал на Голливуд-парк и подрулил к служебной стоянке. Знакомый тренер дал мне пропуск и туда, и в клуб. Хороший человек, и главное – не актер и не писатель.
Я вошел в здание клуба, нашел свободный столик и прикинул свою игру. Потом заплатил доллар и прошел в Павильон Кэри Гранта. Там малолюдно и хорошо думается. Насчет Кэри Гранта: на стенке висит его огромная фотография. Старомодные очки. Улыбка. Шик. Но играл он, конечно… Делал ставку в два доллара. И если продувался, выскакивал на дорожку, размахивал руками и орал: «Со мной у вас этот номер не пройдет!» Если тебе жалко пары баксов, лучше сидеть дома и перекладывать их из одного кармана штанов в другой.
Моя самая высокая ставка – двадцатка. Излишняя жадность дурно влияет на мыслительные способности и может привести к нежелательным результатам. И еще два правила: никогда не ставь на победителя последнего заезда и на замыкающего.
Денек выдался удачный, но я, как всегда, томился из-за получасового перерыва между заездами. Это все-таки слишком. В такие минуты бесцельного времяпрепровождения начинаешь ощущать бессмысленность жизни. Это когда ты сидишь и слушаешь, как вокруг на все голоса гадают, кто победит и почему. С ума сойти. Иногда кажется, что ты попал в психушку. В сущности, так оно и есть. Каждый псих уверен, что уж он-то знает побольше, чем другой такой же псих, – и такими ипподром кишмя кишит. И я среди них.
Мне нравились моменты, когда расчеты сходились с реальностью; когда жизнь обретала смысл, ритм и значение. Но этот перерыв между заездами – сущее наказание; сидение в этом бурчащем болоте настолько отравляло все удовольствие, что я не раз грозил моей доброй Саре не ездить на бега несколько дней подряд и завалить мир бессмертными стихами.
В общем, я скоротал время до вечера и отправился домой, положив в карман больше сотни. Попал как раз в толпу возвращающихся с работы тружеников. Жалкое зрелище. Племя обессиленных, злых и нищих людей. Торопящихся домой, чтобы по возможности спариться, посмотреть в ящик и пораньше улечься, чтобы наутро начать все сначала.
Когда я въехал во двор, Сара поливала сад. Она прекрасная садовница. И целительница моих безумств. Она кормит меня здоровой пищей, стрижет волосы и ногти и вообще держит в форме.
Я поставил машину, вышел в сад и поцеловал Сару.
– Ну как, выиграл?
– А как же!
– Звонков не было, – доложила она.
– Неприятная история. После всего, что было, после того, как Джон чуть палец себе не оттяпал и все такое… Жалко его, сил нет.
– Надо было тебе его сегодня зазвать к нам.
– Я звал, но у него нынче свидание.
– С кем?
– Не знаю. С какими-то лесбиянками. Пускай расслабится.
– Ты обратил внимание на розы?
– Еще бы! Великолепные! Особенно красные, белые и чайные. Чайные – мой любимый цвет. Так бы и съел.
Сара отключила воду от шланга, и мы пошли в дом. Жизнь все же не так плоха. Иногда.
А потом кино закрутилось по новой. Как всегда, новость нам сообщил Джон. По телефону.
– Да, – сказал он мне, – завтра возобновляем съемки.
– Я что-то не пойму. Ты же говорил, фильму конец.
– «Файерпауэр» что-то там распродала. Фильмотеку, какие-то гостиницы в Европе. Кроме того, этим ребятам удалось перехватить заем у итальянцев. Говорят, эти итальянские деньжата не совсем стерильные, но деньги есть деньги. В общем, приглашаю вас с Сарой завтра на площадку.
– Прямо не знаю…
– Завтра вечером.
– Ладно, договорились. Где и когда?
От переводчика
Когда съемки фильма наконец благополучно завершаются, Голливуд предстает как перекресток мира, где встречаются и тут же расходятся люди со всего света. Вот заглянул на съемки Манц Леб, постановщик фильмов «Человек-крыса» и «Голова-карандаш» (Дэвид Линч) со знаменитой актрисой Розалинд Бонелли (Изабелла Росселлини, снижавшаяся у него в «Синем бархате»); подсаживается к столику неприкаянный Иллиантович (Питер Богданович, югослав по отцу, только что закончивший в тот момент свой фильм «Незаконно ваш», очередную коммерческую неудачу); проходит человек со славянообразной фамилией Сестинов (видимо, подразумевается Питер Устинов, которому Хэнк приписывает постановку «Кладбища домашних животных», творения Мэри Лэмберт, – возможно, вспоминая его актерскую работу у Хэнсона в картине «Маппеты. Большое развлечение»).
И еще. Гарри Фридман упоминает роман о проститутках, по которому хочет сделать с Хэнком еще один фильм. Менахем Голан действительно собирался экранизировать книгу Чарльза Буковски «Женщины».
* * *
Мы с Сарой заняли места в отдельном кабинете. Наступил вечер пятницы, конец недели, в атмосфере сквозило нечто легкомысленное. Мы немножко посидели вдвоем, потом к нам присоединился Рик Талбот. Вошел, сел прямо рядом с нами. Заказал только кофе. Я часто видел, как он по телевидению обозревает события в кино вместе со своим напарником Керби Хадсоном. Они хорошо знали свое дело и нередко по-настоящему загорались. У них это получалось очень весело, и сколько всякие ушлые ребята ни пытались с них обезьянничать, никто не мог их переплюнуть.
Рик Талбот выглядел гораздо моложе, чем на экране. И оказался к тому же очень сдержанным, почти застенчивым.
– А мы часто вас смотрим, – сказала Сара.
– Спасибо.
Потом вошла Франсин Бауэрс. Тоже скользнула к нам. Мы ее поприветствовали. С Риком Талботом она была знакома. Франсин вынула из сумочки блокнотик.
– Послушайте, Хэнк, мне бы хотелось кое-что уточнить насчет Джейн. Она ведь индианка, правильно?
– Полуиндианка-полуирландка.
– А почему она запила?
– Это хороший способ укрыться от жизни и, кроме того, форма медленного самоубийства.
– А вы куда-нибудь ее водили кроме баров?
– Однажды взял с собой на бейсбол. На стадион «Ригли», когда лос-анджелесские «Ангелы» играли с Лигой тихоокеанского побережья.






