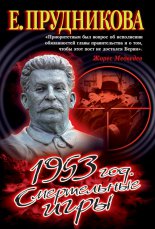Один талант Стяжкина Елена

Фантазии бывшего инженера, а ныне фермера, предъявленные как аргумент в пользу того, что иногда бывает важно не только, кем ты стал, но и кем не стал
Ему еще в юности, кажется, цыганка-дура нагадала большую любовь. Он посмеялся и забыл. Был счастливо женат, бездетен. Для него, выросшего среди многочисленных сестер и братьев, это скорее стало удачей, чем разочарованием. Во всяком случае проблема наследника его беспокоила мало. А для жены его эта легкость была и наказанием, и наградой. Она хотела детей страстно. Но он в эту страсть не вникал.
Он вообще не вникал в страсти.
Почти сорок счастливых лет он пытался делать свое дело. Вкладывал в него все, что мог. Был резок, вспыльчив, плохо сходился с властью. Однажды плюнул на все – уехал. Но за границей его не отпустило.
Напротив. Здесь открылись возможности, о которых он раньше не думал. Появились люди, деньги. Многое оказалось если не легким, то вероятным. Он верил в себя. Он видел себя только в деле. Вопросы времени и ресурсов уже не были такими острыми. У него получалось. Меньше, чем говорили коллеги, но больше, чем он мог рассчитывать.
Нервный и жаждущий результата сейчас и немедленно, он был ленив и спокоен с женой. Она быстро старела, но у них обоих хватало сил на снисходительность и крепкую дружбу. Возможно, жена хотела чего-то большего. Но у него не нашлось: ни для нее, ни для кого-то другого.
А потом явилась эта женщина. И в этом явлении было все, что он считал верхом пошлости: Париж, кафе в квартале Монпарнас, ее духи, ее сумка, ее сбивчивый рассказ о муже, о его бизнесе и детях, которых у нее, кажется, было пятеро.
Все это его не интересовало. Странным же было ощущение тяжести, опустившейся на ноги. Как будто что-то придавило к земле ступни. И у него совсем не осталось сил идти.
Он сказал: «Ноги почему-то отказывают». И засмеялся. Ему на самом деле было смешно. И ситуация, и тетка эта, и ноги без сил. И необыкновенная легкость. Его не смущало несоответствие: там тяжесть, тут легкость. Было понятно: единство и борьба противоположностей. И еще было понятно, что уже все пройдено. И нет ничего впереди. И позади пусто. Только здесь и сейчас.
Он смеялся и видел себя маленьким. Таким, каким не мог бы себе запомниться. Но это было не страшно, а тоже смешно.
Она, эта женщина, смотрела просто. Как будто ничего более естественного, чем старый, лысый, хохочущий в кафе на окраине Парижа мужик, вообще нет на свете. Она, эта женщина, что-то сказала. Что-то хорошее о нем. Но даже если бы и не сказала…
Сразу стало ясно, что многое до нее было пустым и половинчатым. И он сам тоже. Но в один момент стал целым. Это было удивительно, но плохо.
Он пытался все это называть потом разными словами, чтобы испортить. Он говорил «свалилось на голову», говорил «нам этого не нужно», говорил еще, что ненавидит пошлость, а это именно пошло и никак иначе.
Она, эта женщина, соглашалась. Пожимала плечами. Качала головой. И он ловил себя на том, что тоже. Тоже пожимает плечами и тоже качает головой.
Жена сказала ему, что готова уйти. Коллеги предложили «закрыть лавочку»: остановить процесс и дело. Всем и ему самому было очевидно, что паровоз приехал к конечной станции. И дальше пути нет. Поле, бездорожье, безденежье, скорее всего работа на чужого дядю, дети… Пятеро, кажется.
И был момент. Был момент, когда он подумал: «А и черт с ними со всеми. Куплю сапоги, ружье, собаку… Буду жить». И в этом «буду» он, конечно, видел ее, эту женщину. И ей не требовалось ни отдельного глагола, ни местоимения «мы».
И нет, она не была его отражением. Хотя многим так казалось. Но у них была другая формула: она была им, а он был ею. Такое вот мещанство.
Жена советовала ему навестить психиатра. Потому что в сорок лет такие страсти грозят не только распадом семьи, но и распадом личности. Жену было жалко. А себя – нет.
С тех пор как он встретил эту женщину, ему ни разу не пришлось себя пожалеть. Не было необходимости. А когда он с ней расстался, сразу разучился жалеть других.
Расстался. Расстался. Расстался. Потому что…
Жену было жалко. А дело вообще не двигалось с места. И она, эта женщина, ничего не говорила. Ничего не говорила о разводе. О его разводе, о своем. Ничего. Носила фамилию мужа и встречалась с ним, с мужем, на курортах. И вроде бы вообще не собиралась ничего менять.
Он хотел у нее спросить почему. Но испугался.
А она, эта женщина, расставания не приняла. Она как будто точно знала о нем: никуда не денется. И о себе как будто точно знала. Не денется.
И тогда он взял ее в свое дело. И нарочно, нарочно ею рисковал. Посылал в Россию с сомнительными поручениями. Пару раз ее даже «закрывали». Но муж платил, выручал, вывозил, прятал. Муж раздражал.
Он ревновал к мужу мучительно, потому что сам так никогда не смог бы. Ревновал мучительно, но верил без оглядки.
И нарочно держал дистанцию. А ей, этой женщине, было как будто все равно. Она никуда не исчезала, не убегала, не хлопала дверью, не вешалась на шею, не требовала объяснений. Была и была.
Жена плакала по ночам. А он уставал сильно, пил снотворное, но сквозь сон – без вины – слышал: плачет.
«Пройдет, пройдет», – шептал он и гладил жену по седым волосам. Она не соглашалась: «Это никогда не перестает».
И фраза эта его злила. Он знал откуда. Когда-то он учился много и хорошо. Он знал эти Боженькины слова: «долготерпит, милосердствует, не ищет своего, все покрывает, всему верит, всегда надеется…» Он не хотел этих слов и этих сравнений.
Когда жена плакала, он понимал, что удачно избежал ловушки. Что чудом не стал как все, что судьба его – другая. И он почему-то грозил кому-то в потолок.
Но даже когда грозил, знал: был момент. Один раз за всю жизнь. Или вместо жизни. Или просто слабость.
Но он ее победил. Вообще, если разобраться, всех победил, всех в России построил, со всеми посчитался, стал кем собирался стать.
И она, эта женщина, его все-таки бросила. Когда мыслил рационально, он всегда знал, что так и будет. И вот бросила. Умерла.
А момент остался. Только он и остался. Как реальность, данная в ощущениях.
И в этой реальности он думал о том, что был готов дать ей свою фамилию. И тогда, наверное, она легла бы в землю позже, и не под стену, а где-нибудь на деревенском кладбище, под крест, рядом с ним. Владимир Ульянов. Инесса Ульянова.
И все было бы по-другому. Везде. Вообще везде.
И дети – пять, кажется, а может быть, и шесть – приходили бы их навещать.
И все засмеялись
Паша Михайлов сказал: «Убрать вот эти погончики десятилетней давности с пиджачка – и все у вас будет модно. По-человечески».
И все засмеялись.
«Погончики» были в ответ. В ответ на вопросы Кати.
Вопросов было много: зачем людям платья из обоев? Все ли обои подходят для коллекции или их надо специально заказывать? Можно ли оклеить квартиру тем, что остается после дефиле?..
Катя сама нарвалась. Она хотела унизить Пашу Михайлова. Это очень простое желание. Унизить, чтобы возвыситься.
Утерянный суффикс «ся». Все делом в нем. Утерянный или лишний. Как хотите…
Погончики. Пиджачок. Такая была бедность тогда… Такая бедность. Ею одной определялись все желания.
Есть, например, хотелось. Батончиков шоколадных. Все казалось, что они кончатся, а Катя так и не попробует.
А тут – Паша. Модельер. Бывший водитель паровоза. Работал в настоящем депо. А Катя Измайлова училась. В художественной школе. Потом в училище. Потом в текстильном институте. И все это, как дохлая ворона эстонцу, «н-не прик-кодил-лось».
А надо было работать в депо! Надо было догадаться! Если все заказчики – бывшие водители паровозов, зачем им Катя?
Все смеялись. И Катя тоже. Хохотала. Оглаживала рукой погончики, вертелась, подмигивала кому-то. Думала, что красивая. Думала, что легкая, умопомрачительная.
А на самом деле была толстая. Это через десять лет только выяснилось. И то случайно: старые фотографии. Катя себя не узнала. Подумала: «Кто эта бойкая бабенка?»
Погончики. Пиджачок. Ага…
«И очочки эти… Может, лучше линзы? – еще сказал Паша Михайлов. – Ну очень запущенный случай… А на пластику точно денег нет?»
Это уже не при всех. Это на прощанье. В улыбке. В красивых и модных фарфоровых зубах. Спасибо.
Потом Кате сказали, что он «пидор, но косит под би». Что в любовниках у него – министр, министерская жена и министерский сынок. Все по разным ведомствам. В постели не пересекаются. Но дружно делают одно дело. Двигают. В большую моду.
А на самом деле у Паши Михайлова были очень пьющая мать-портниха, младший брат-гонщик, сестра-модель и коза по имени Матильда. И вопрос у Паши всегда стоял остро и однообразно: либо мать в денатурате, либо брат на зоне, либо сестра на панели.
С Матильдой было проще. Потому что все козы для пьющих людей примерно на одно лицо. Даже если это козлы.
Когда очередную Матильду переезжал поезд, Паша Михайлов просто покупал новую. Мать разницы не замечала. На козу у Паши деньги были всегда, а на ткани – нет. Сначала подбирал лоскуты за матерью, потом шил из материалов заказчика.
И все это тоже выяснилось только через десять лет.
А тогда Катя Измайлова написала статью «Жуткие розочки Паши Михайлова».
Все снова смеялись.
Паше тоже пришлось. Он смеялся. Так смеялся, что уехал в Питер. С одной стороны, не Михайловское, а даже наоборот. С другой, в Питере не было знакомых министров. И принято было носить вчерашнее. Или даже позавчерашнее.
Паше приходилось ездить. Туда-сюда. На паровозе, который он мог бы водить сам.
В жизни Паши Михайлова не было места Кате Измайловой. У Кати Измайловой тем более все прошло и забылось.
Погончики. Пиджачок. Забылось. Висело в шкафу. Выбросить было недосуг. Отдать – некому.
Встретились в клубе. По логике, это должен был быть клуб железнодорожников. Но какая нынче логика?
Паша сидел в углу. Блестел и переливался. Плакал. Бормотал что-то. Выкрикивал: «Ничего не знаю. Если бы только мне сказать… А как сказать?.. Сопли, что ли?.. В горле стоит. Я ж не маленький. Мне не надо конфетку. Мне – жить. Мне жить… Как же… Все отдам. А кому? Ему? Ему не надо. Подержи меня… На руках. Посади на колени. Я буду послушный. Мне не к кому и не за что… Кому кричать? Кому вслед? Убью… Убьюсь…»
А увидел Катю – улыбнулся. «Ты та самая сука? Хорошо выглядишь».
Узнал. Подтянулся. А Катя его не узнала. Не захотела.
И некому было перевести стрелку, чтобы их пути сошлись. Или чтобы сошлись не пути, а поезда. И чтобы бух-бах-катастрофа, она же катарсис и смысл. И дружба навеки.
Но некому. Все водители паровозов ушли в «Дольче». А некоторые в «Дольче и Габбану».
Катя отвернулась от Паши. А он ей прямо в затылок: «Все мужики – сволочи. Скажи?»
Конечно, сволочи. Тут без вопросов. Сволочи. Особенно если губы – лезвиями. Не губы, а так – ерунда, жесткость сплошная. В поцелуях – сложно, а в телевизоре – даже ничего, стильно. Мужественно. Но подбородок все равно ящерицей. Узкий. И спасибо, что не зеленый. Но каменный. Яшмовый. Холодный.
Губы и подбородок. Еще дыхание, которое трудно отпустить. Всего восемь часов в неделю. На работе не считается. Там он не Кате дышал, а всем. Дышал, говорил, думал. Всеобщее достояние. Гордость нации. Таких раньше торжественно закапывали под Кремлевской стеной.
…Но восемь часов дыхания. Целых восемь – Кате. Остальное жданки.
«А жданки выждались!» – сказала Катя.
Сказала и ушла с телевидения. Все думали, в монастырь. А она – в учительницы. Рисования. Плюс кружок-факультатив.
Ушла в люди! Вместо записки оставила в редакции на столе заявление по собственному желанию.
Там, где все блестело и переливалось, Кати Измайловой больше не стало. О ней не говорили. Но «жуткие розочки» вспоминали.
Погончики. Пиджачок.
А Паша Михайлов отравился угарным газом. В непроданном почему-то родительском доме. У станции. В смерти блестки и переливы с него тоже сошли. И в строгом костюме он был похож на трудовика, который недавно рассчитался из Катиной школы.
Мать Паши на похороны не приехала: лечилась в Швейцарии. Сестра тоже. Она не лечилась, но в том индийском штате, где сестра возвращалась к природе, принципиально не было ни телевизоров, ни связи. Брат сидел. Шептались, что с братом не удалось.
Зато удалось с министрами и министершами. Прощались с Пашей по-хорошему. Целовали в лоб. Некоторые норовили пожать руку.
А тот, у кого губы – лезвия, жена – из системной династии… тот, у кого дыхания, если выплыть и остаться рядом, только на восемь часов…
Тот, чьими ресницами была отравлена Катина кровь…
Тот, который ни разу – ни разочка! – ничего такого ей и никогда, потому что «слова лгут»…
…сказал негромко, но так, что всем-всем (министрам, капиталистам, телевизионщикам и всему международному сионизму) было слышно. Сказал негромко, потому что отчаяние – это окончательно и кричать уже не имеет смысла. Сказал Паше Михайлову: «Любимый мой…»
Погончики. Пиджачок.
Ну не смешно?
Король музыкальных инструментов
При Советах он заведовал складом музыкальных инструментов. Не мясокомбинат, но воровалось тоже хорошо. Легко. И люди все сплошь интеллигентные. Бедные, но ради «скрипочки для сына» готовые голодать на семьдесят рублей, откладывая двадцатку на переплату. Король любил их унижать. Такое наслаждение! Такое счастье было видеть, как эти грамотные суетливо краснеют, суют деньги, просят, лебезят. А он крученый был, скрипочки мог достать хорошие, не магазинные.
В конце восьмидесятых вообще расцвел. Братве сначала гитары импортные поставлял, потом машины немецкие стал гонять. Продавал той же братве. Вовремя сориентировался, бригаду крепкую-верную завел, чтобы, значит, в ногу со временем. За власть когтем зацепился. Одно время даже культурой заведовал. А потом уже всем – стройками, пароходами, железными дорогами, банками. Иначе как холуями вообще никого не называл. Это если вежливый был и в настроении.
А так вообще людей в упор не видел. Говорил, что у кого нет лишнего, тот – животное и должен жить, как животное. Жену где-то сгноил. Говорили, бил ее для развлечения. И прибил. Ну, или какой другой несчастный случай.
Три девки у него росли. Ганя и Регина запуганные были, но брехливые. Инстинкт самосохранения кого хочешь научит. Бывало, приходит он домой, а у Ганьки – подружки, так он ботинки снимет, в башку ими запустит, за волосы всех потягает, матом обложит, а потом довольный говорит: «Ну-ка, Ганька, расскажи, как папку своего любишь». Та слезы глотает, но мурлычет: «Люблю, как никто и никогда». Брешет, конечно, но жить-то надо. Мы его упрекали – мол, зачем так с детьми? А он нам по их этой общей программе: «Рот закрой! Если ты такой умный, чего такой бедный? Бабло побеждает зло! На кишках твоих тебя ж и повешу». Ну, такое…
Девки его быстро замуж выскочили. Ганька за албанца местного, а Регина за одного из братков. А ей без разницы, от кого по морде получать: от папаши или от мужа. Лишь бы деньги давали.
А младшая его, Кирка, та с характером была. Ты ей слово – она тебе десять. Ну, не успел Король ее толком запугать. Бизнес, то да се, закрутило. Росла как сорняк в поле. Оно и на пользу. Она и бояться его не боялась, а потому и ненавидеть не начала.
К старости Король устал, к лести привык. Думал, что задница у него – цветок благоуханный, все выставлял ее для поцелуев. Дошел до того, что решил, будто сам по себе ценен. Без бабосов, недвижимости и всяких офшорок. Сказал: «Ну-ка, девки, налетай-забирай! Кто обцелует папочку получше, тому и достанется». Ганька с Региной оттарабанили как по писаному. А Кирка плечами пожала. Промолчала по факту. Он ей: «Я тебя в Африку голой пущу! Землю жрать будешь!» А она фыркнула и за француза вышла. Уехала.
Кент Королю говорил: «Остынь, не раздавай майно-то. А то сам голым в Африку. Без майна-то и власти ты – что? Ничто!» А он ни в какую. Пусть, мол, только пикнут. Это ж я им всё – и унитазы золотые, и полы, Сваровским лепленные. Это ж я велик. Это ж ко мне по первому свистку все короли и прочие премьеры с прокурорами. Величие мое чтили и чтить будут! Стану жить налегке, как сыр в масле кататься. А зятья нехай побегают. Поприумножают. Пообслуживают мою счастливую старость.
И отписал Ганьке с Регинкой всё. Жить решил сначала у Ганьки. Со свитой.
А свита у него была, я вам доложу, человек сто: массажистки, повара китайские, борцы дзюдо, спичрайтеры (он же сам ни бум-бум). В общем, всякие были. Нужные, ненужные, для красоты, для тела, для дела… Я шофером у него работал. Как в запас отправили, так и пошел баранку крутить.
В общем, сто человек… Сам он – идиот буйный. И прислуга такая же. Ганька ему сказала: «Папаша, а давайте-ка поменьше народу в моем доме! Человек двадцать вам вполне себе хватит».
Как он орал! «Чтоб ты сдохла, чтоб ты выродка родила, чтоб ты повесилась на суку, чтоб земля тебя не носила, сволочь ты неблагодарная!» Хорошо албанец в отлучке был, концерта полностью не слышал. Вот.
Наорался Король, наплевался, натопался – и к Регинке. А там тот же компот. «Вы, папаша, ведите себя поаккуратнее, а не то…»
Ушел он от них. Вроде как умом тронулся. Спрашивает меня: «А как это у вас летом так жарко? А где же ваши кондиционеры?» или «А воду вы фильтрованную пьете или откуда?»
А морда у него приметная была, в телевизоре намельканная, на плакатах всяких. Народ его знал и, мягко говоря, проклинал на чем свет стоит. Плюс денег нет. Кому нужен? Подались к бомжам. Там своя стихия. Ходит наш Король, разговоры разговаривает. Уже не кажутся ему люди такими тварями животными. Но удивлять не перестают. То вещи не от Бриони – сюрприз, то удобства, не к столу будет сказано, не золотые, а так – яма в кустах. То зима настала, как обычно, неожиданно, а из крыши над головой – только теплоцентраль.
Жизнь, в общем, в него проникла. Такая, какая есть. Я ему предлагал к Кирке во Францию съехать. А он – нет. И знаешь, бросил я его. К столовке благотворительной пристроил и бросил.
Не смог. Потому как турист он в нашей жизни был. Не задружил ни с кем, не пригрел никого. Кент ему помогал много. Последним делился, морду за него каждому чистил. Но к нему Король тоже никак. Вроде понимает, осознал, а вроде и нету нас. А если и есть, то всегда должны – мысли его новые поддерживать, бред руками разгребать. То голым побежит, то заговариваться начинает. А людей все равно как через пленку видит. Или как кента – типа не помнит.
Дальше вообще криминальная хроника. Кирка про ситуацию прознала, приехала. Нашла папашку, отмыла, нарядила. И нет бы ему тут сказать: «Доця, давай начнем все сначала на твоей новой французской родине». Так он – типа ж сумасшедший, но уже нарядный и сытый – молчит, вроде не возражает в имущественных правах восстановиться, во всем на нее полагается. А бабы ж дуры.
И Кирка тоже. Затеяла против сестер войну за майно. Они ей киллера заказали, сами перессорились: там и яд был, и порча, и поножовщина, натурально друг друга извели, через отравление и самоубийство. Браток, муж Регинин, под раздачу тоже попал. Погиб.
А Король только над Кирой и убивался, что ты… вроде даже по-настоящему чего-то понял. И от понимания этого умер.
Один албанец из всей семейки выжил. Сейчас дерганый такой. Ни детей не хочет, ни денег тестевых. Что рейдеры не забрали, то в приюты для бомжей отдал и в дом престарелых. Говорит, мол, слава богу, мы до таких денег и до таких лет не доживем. И это не может не радовать.
А мне, знаешь, девок почему-то жалко. Хотя народ говорит, что так им всем и надо, и Королю все-таки симпатизирует больше.
Памятник Шопену
Никогда! Вы слышите меня? Никогда этого не будет. Владимир Шопен – коллаборационист. Пока запомнил это слово, чуть котенка не родил.
Что вы на меня смотрите? Что значит, мужчина не может родить котенка? Генеральный план развития города родить может, а котенка – нет? Вы меня обидеть пришли или в землю закопать?
Нет! Знаете такое русское слово?
И кому только в голову пришло? Памятники фашистам? И немцам своим передайте, что фамилия его была Шопин. Ну как Жопин, только через «Ш». И как была, так и осталась! У нас тут коммунистов знаете сколько расстреляли? А он мэрствовал при этом! Почему допустил? Почему разрешил?
Люди говорят: сам ходил и списки составлял! Прям по домам. Приходит вечером и говорит: «Петренко, ты коммунист? Будем тебя завтра расстреливать! Приходи к церкви в десять утра!»
Что вы улыбаетесь? Что вы улыбаетесь, я спрашиваю? Вас бы вот вызвали на расстрел – улыбались бы? Обосрались бы, извините за такое выражение!
Приехал сюда из Москвы перед самой войной. Инженером на заводе работал. Не так работал, как кобелировал. Если б за это памятники ставили, то да. Тогда нам всем можно было бы… Ну, не в этом смысле, шо вы подумали. Просто по молодости.
А когда наши уходили, он, сволочь, баб своих подбил на демонстрацию. Стали кругом у шахты: не дадим взорвать, и хоть бы хны. Бабы плакали: «Не губите, чем же ж жить будем? Зима ж скоро…» Наши немного для острастки постреляли. Но спешили и не всех предательниц поубили. Хотя бабы, что с них возьмешь. У них мозга на предательство нет. А про Шопена вашего я документы поднял! На него еще в тридцать девятом пятнадцать жалоб поступило от коммунистов и беспартийных. А он их за это чужими руками и под расстрел. И главное ж – еще и ночь целую людям портил. Потому что как заснешь, если к десяти утра тебя пуля ждет?
А шахта что? Шахта – важное дело. Пригодилась, конечно. Вон и сейчас как королевна стоит. Неопасная, мирная и высокоэффективная шахта. За последние десять лет только тридцать жертв, что для нашей отрасли, сами понимаете…
А вы гномов делать умеете? Гномов таких, в половину человеческого роста, лучше деревянных, чтобы как в «Поляне сказок», в Ялте. Вы были в Ялте? Меня в «Артек» как лучшего горниста отправляли. И в «Поляну сказок» возили. Я прямо тогда и загорелся: будет дом, чтобы и огород, и теплицы, и чтоб место еще оставалось, обязательно себе заведу. Мечта у меня такая из детства.
Очень бы гномов хотелось. Я б заплатил не хуже, чем эти ваши немцы за своего Шопена.
Гномы – это красота и для детей польза.
А Шопен ваш – тьфу. Говорю: коллаборационист. Завод не дал разграбить, шахты обе две работали как часы. Пекарня была и парикмахерская. Документы есть об этом. А на кого, спрашивается, работали? Что шахта, что парикмахерская? Вы это понимаете?
Я как депутат нашего совета, как председатель комиссии по образованию, я как гражданин! Вы понимаете? И права я свои знаю, и все, что вы вот это сейчас записываете, не может быть опубликовано без моей визы. Без подписи моей то есть, потому что это теперь наша с вами совместная интеллектуальная собственность.
И это я еще добрый, вот вы с нашей общественностью повстречайтесь, общественность вам сику, извините за выражение, надерет за эти разговоры.
Это ж где это видано, это оскорбление какое, чтобы фашистского прихвостня памятником поставить!
И просто интересно мне, как вы изображать-то собираетесь? По рассказам трудящихся? Ни одной же фотографии! Ни единой его фотографии не осталось! Хоть и газета выходила, и мероприятия всякие проводились: то пуск водокачки, то Масленицу праздновали, а то просто народные гуляния по случаю дня рождения фюрера. И всякие, даже скажу вам, случайные люди, как, например, к сожалению, бабуся моя… Она очень любопытная была и до гуляния охочая. Дед в армию Красную ушел, а она тут с детьми. И на заводе вкалывала, еще стирала по людям их сранки, извините за выражение, но вот ничего ее не брало. Все было совершенно интересно и ничего ей было не страшно. Она и за деда по любопытству азартному пошла. У того жена померла, трое детей запаршивели просто. Люди говорили: помрут. А бабуся каже: «Сами вы помрете вперед них!»
Если б померли, то сидел бы я тут? Отлыгали дети, а мамка моя ей первой помощницей стала.
Дед, когда пришел с войны, сразу запил. Что-то у него надорвалось внутри. Пил по-черному, не переставая. Так и тут бабуся в азарте своем: выбила санаторий и запроторила его туда. Люди говорили, что, мол, в богадельню отдала, то да се. А нет! Как новенький дед стал. Приехал уже с новой женой. Так и так, прости. Спасли оне меня от душевной смерти и буду им по гроб жизни благодарность и любовь в душе носить. Тем более что и беременные оне уже.
А там же закон был: если не в законном браке, то байстрюк и прочерк в отцовской линии на всю жизнь…
Русалочка, говорите? А я и сам, знаете, про это догадался. По телевизору мультфильм этот передавали импортный. Так я сразу и понял: про бабусю мою.
А что обличие ее на всех фотографиях в этой немецкой газете, то и что? То и пустяк есть. Ее когда на сотрудничество с немцами проверяли, так она сказала, что воровать ходила. По карманам орудовала. У кого губную гармошку, у кого денег их этих, ненужных, а у кого аусвайс… Оговорила себя специально. А губные гармошки у нас в хате были, на чердаке в ящике лежали. Штук десять, для ансамбля прямо.
А Шопена вашего на фотографиях не было.
И если разобраться, может, его вообще не было? Может, это нам судьба была такая, чтобы и шахты остались, и жиды, евреи то есть, извиняюсь, успели в церкви по распоряжению свыше, из самой магистратуры, покреститься, и чтобы это, значит, хлеб… Ну, это… Пекли ж хлеб.
Так и где, по-вашему, видано, чтобы судьба фотографировалась? Или чтобы памятник ей, судьбе?
Олень
(святочный рассказ)
Сергей Андреевич просился на родину так, что отец, хотя и требовал объяснений, был все же вынужден уступить.
В Австрии, где выстроен был дом, Сергея Андреевича не любили, как не любили в Британии, где он немного поучился, но не захотел остаться. Его так много где не любили, что отец советовал жить на Кипре – среди своих. Но жить на Кипре означало признать поражение. Поэтому Сергей Андреевич мучился в доме под Веной, мучил жену и двоих детей, которые так плохо понимали по-русски, что хотели сниматься в сериале про освобождение родины от немецко-фашистских захватчиков в роли врагов.
Все возрасты мужского акме, в момент которого нужно было что-то сделать и умереть, Сергей Андреевич пережил в унынии и скуке. Он не завоевал мир, не сочинил музыку, не написал конституцию. Почти смирившись с дамским «в сорок лет жизнь только начинается», он прождал еще два года, но и они не принесли никаких изменений.
Отец на родине, да, стал богаче. А Сергей Андреевич только дежурно проконтролировал легализацию значительной части семейных доходов. Австрияки любили их деньги, но по-прежнему не хотели любить их самих.
В отместку Сергей Андреевич целый год думал о Китае. Жена пересказывала ему выдержки из истории династии Цинь, и династии Мин, и Ляо, и Хань… Теперь она перелопачивала Интернет не только в поисках партнеров по покеру, но и в поисках смысла истории Срединного царства.
Лао-цзы и Конфуций в пересказах жены потрясли Сергея Андреевича.
«Нет беды тяжелее незнания удовлетворения», – сказал кто-то из них. И мысль эта проняла до слез.
«Я хочу вернуться. И в этом решении я тверд», – заявил Сергей Андреевич отцу. И тот, тяжело вздохнув, согласился: «Может быть, ты и прав… Когда-нибудь ты станешь мне заменой…»
Княжество, в котором отец Сергея Андреевича вассалил вот уже двадцать лет, обладало удивительным свойством. Оно катилось в пропасть шумно, азартно и всегда по какой-то неожиданной траектории. В пути княжество умудрялось еще угрожать, причитать и смеяться. А пьянствовало так, что пропасть, от греха подальше, сама отступала, а иногда неожиданно разверзалась в далеких приличных местах, где никто никуда катиться не собирался.
Рано или поздно княжество должно было кануть. И отец Сергея Андреевича – Вечный Визирь – не переставал удивляться собственным успехам, за которые два раза в год обычно получал ордена.
В вотчину Сергею Андреевичу выделили высший учебно-академический институт. Отец его рассудил, что дважды убить умершее нельзя, а хоронить-мавзолеить можно долго. Были бы деньги.
В первый месяц Сергей Андреевич привыкал к новой жизни: жмурился. Широко открытыми глазами он глядел только на пентхаус, лифт и автомобиль, садясь в который тотчас же закрывал глаза… Снова видеть, несмотря на неприятное жжение в глазах, начинал только на месте службы.
«Голос истины противен слуху». Вид ее тоже был довольно противным: бедным, тусклым и не склонным к любви.
Люди, доставшиеся Сергею Андреевичу, не вызывали приятных чувств и не откликались на проводимые им реформы. Они противились борьбе с голубями и не желали начинать день с молитвы о ниспослании командного духа. Именно голуби, а не воробьи, как у Мао Цзэдуна, между тем были настоящей проблемой. Они важно ходили по площади, сидели на ступеньках, попрошайничали и ели с рук, шумели и гадили. В том числе на личные автомобили руководства княжеством.
Будучи человеком европейским, Сергей Андреевич предложил голубей стерилизовать. Биологический факультет должен был обеспечить процесс: создать вакцину. А если вакцина не получится, то подготовить в аудиториях операционные… Философский факультет взялся за пиар-сопровождение акции. Химикам было тайно поручено приготовить яд, который не сможет обнаружить никакая судебная экспертиза. Остальные факультеты разбивались на отряды по отлову и передержке птиц в комнатах и подсобных помещениях студенческих общежитий.
Когда дело завертелось, а его первые этапы были освещены в печати и показаны по телевидению, свой протест заявили церковь и коммунистическая партия.
«Меня кто-то подставил, – сказал Сергей Андреевич жене. – Меня кто-то подставил, но пока не могу понять кто».
«Олень или лошадь, – таинственно улыбнулась жена. – Олень или лошадь. Притча династии Цинь. Тот, кто согласится признать в олене лошадь, – твой, верный. Остальных можно будет казнить».
Оленя заказали в Якутии. Живого, подлинного. С рогами.
Можно было бы взять в зоологическом музее. Но чучело, стоявшее там, было таким древним, ветхим и невнятно-безрогим, что в нем легко можно было разглядеть и лошадь, и корову, и даже крокодила. Сергею Андреевичу такая легкость была не нужна. Потому что «истинно человечный муж добивается всего собственными усилиями».
Большой деревянный ящик с дырочками для поступления воздуха доставили через две недели, ночью, за два дня до Нового года. Сторож Густав Эрикович позвонил и спросил, вскрывать ли ящик и можно ли кормить…
«Он еще ничего не сделал, чтобы его кормить!» – строго сказал заспанный Сергей Андреевич. Вскрывать ящик тоже запретил.
К вечеру следующего дня в конференц-зале собрал деканов, их заместителей, заведующих кафедрами и по мелочи – профессоров и доцентов, а также студенческий и профсоюзный актив.
– Наступает момент истины! В этом ящике наше будущее. Ваше будущее. Когда ящик будет открыт, многим из вас может показаться, что там – олень. Но умные не бывают учены, а ученые не бывают умны. Загляните в глубину своего сердца. Почувствуйте его биение. Представьте биржу труда и свою человеческую неэффективность. Ибо благородный муж не может жить на те деньги, которые вы называете зарплатой. На пособие же он и вовсе умрет. И когда вы услышите мой голос в себе, скажите мне, что видите лошадь. Потому что там, в ящике, именно лошадь…
– Кобыла или жеребец? – спросил заведующий кафедрой зоологии.
– Это нам без разницы, – отрезал Сергей Андреевич и дал отмашку вскрыть ящик.
– Ме-ме, – тоскливо сказало животное.
Но Сергей Андреевич не повернул головы. Ему важно было увидеть, как рождается в глазах подчиненных верность. Как проходят скулами схватки, отходят слезами воды, и она, верность, ягодичками, не быстро, является на свет, чтобы служить Сергею Андреевичу… По недополученному образованию он был гинеколог.
– Так вот ты какой, северный олень! – радостно закричал прозрачный до синевы студент.
– Пьяный? – грозно спросил Сергей Андреевич.
– А мы его уже отчислили! И из актива вывели. Мы его уже в жандармерию сдали, а сюда взяли, чтобы не сбежал, – запричитал проректор по учебной работе. – И всем коллективом видим – лошадь.
– Да, – раздались голоса. – Да… Да.
– Арабский жеребец!
– Нет-нет, это гнедая кобыла!
– Помилуйте, господа, это типичный орловский рысак! Посмотрите, какие подвижные уши…
Сергей Андреевич не различал ни лиц, ни голосов. Он был сердит, потому что «легко достигнутое согласие не заслуживает доверия». Ему нужен был противник, переломленный через колено. Ему нужен был враг, готовый вступить в схватку.
– А вы, что же вы молчите? – Сергей Андреевич обратился к заведующей библиотекой.
– Любуюсь, – буркнула она.
– И чем? Назовите!
– Господи, каких только козлов я не называла жеребцами…
– Или вы пойдете на пенсию, – нежно сказал Сергей Андреевич, – или перестанете вилять.
– Жеребец, – тихо выдохнула заведующая библиотекой.
– Громче!
– Громче она не может, – сообщил сидевший рядом антикварного вида профессор. – У нее ангина.
– А… Вот как. А вам? Вам тоже кажется, что это не лошадь? – нахмурился Сергей Андреевич.
– Ой, я вас умоляю, – устало отмахнулся профессор. – Мне вообще кажется, что все это не жизнь, так зачем я буду сводить счеты с какой-то лошадью?
– Саботажа не будет! – объявил Сергей Андреевич. – Подходите по одному. По списку. И с документом, удостоверяющим личность.
Из семидесяти двух присутствовавших сорок восемь согласились, что это лошадь, одиннадцать с вызовом заявили, что видят пони. Еще один сказал, что это шайр, а другой признал в животном фалабеллу, и эти двое чуть не убили друг друга. Остальные сказали: «Не олень». И Сергей Андреевич мучительно раздумывал, прошли ли они испытание на верность.
Когда конференц-зал опустел, был уже вечер. Деревянный ящик с животным заколотили и унесли. Еще унесли одного нервного, который после слова «лошадь» собирался выброситься из окна, но его успели удержать, схватив за ноги в самом начале полета.
Шел снег. Сергей Андреевич вдруг понял, что скучает по Австрии. Потому что благочестивому мужу все равно, где именно его будут не любить.
А оленя он решил списать с баланса института и продать. В ресторан или в конюшню какого-нибудь феодала.
В поисках оленя Сергей Андреевич долго бродил по пустым полутемным коридорам. Нашел сторожа Густава Эриковича.
– А где олень? – строго спросил Сергей Андреевич.
– Козел, – грубо сказал сторож.
– Что вы себе позволяете, гражданин безработный?
– Козел, говорю, это был. Оленя продали еще до тебя. В пути… А нам привезли козла. Тебе ж без разницы, кого объявить лошадью, правильно?
– Как это «без разницы»? Как это «без разницы»? Император Цинь показывал именно оленя! В этом вся соль!
– Козел и евнух, – сказал Густав Эрикович. – У нас был козел. У императора Цинь – евнух. Разве император стал бы так унижаться? Это евнух его шалил. От безъяичности.
– В тюрьме сгниешь, – процедил Сергей Андреевич и стал звонить отцу.
Густав Эрикович пожал плечами. С самого детства он слышал такие угрозы. С тех еще пор, как маленьким мальчиком сказал одному королю, что тот ходит по улицам совершенно голым. Король давно умер, на смену ему пришли другие, не такие голые и не такие глупые. Мир менялся. В некоторых частях света он становился лучше, в других – хуже. Но Густава не взяли ни в одну школу и не приняли ни в один коллектив. Все ремесла, бизнесы и науки воротили от него нос. А женщины не выходили за него замуж.
Он мог только сторожить. Но того, что стоило сторожить, становилось все меньше. С другой стороны, тех, кто мог что-то уберечь, тоже почти не прибавлялось.