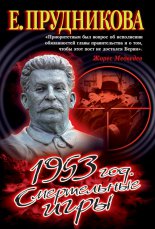Один талант Стяжкина Елена

27
Сделали ксерокопию. Директриса поставила на нее печать с номером фонда, дела и страниц, которые здесь именовались листами. «Можно еще акты гражданского состояния посмотреть? – спросил Яша. – Справки какие, если есть…»
Запись о браке была. Об усыновлении Лёвки. И Зины с Катей. Об удочерении их и смене фамилии.
Яша был тоже. Рожденный от Никифора и Анны в июле сорок третьего года.
Лёве эти документы помогли мало. Никак не помогли.
Он позвонил ночью, потому что ночной тариф дешевле дневного и потому что ночью подстерегала-наваливалась, наверное, тоска.
«Ты прости меня, дурака старого. Затеял это. Это все из-за меня. Мамка наша… Из-за меня пустила фрица. Жила, сцепив зубы, через стыд свой и позор».
«Она могла его любить…» – хотел сказать Яша, потому что уже знал тогда.
Она могла его любить.
Уходя вслед за Никифором и признавая в Яне Катю-Катюшу, мать часто говорила ей: «Н-н-не было греха. От н-н-начала и д-д-до конца не было греха. Р-р-разные все люди. Х-х-хороший он был…»
Яша слушал это с тревогой и нежностью. Хотел понимать как оправдание Зине, той старой истории, которую по детству своему не заметил.
Хотел понимать и понимал именно так даже тогда, когда мать гладила его по руке и быстро, без заикания говорила немецкие слова. Не «хэндэ хох» это было, не «швайн» и не «ахтунг».
Яша отчетливо различал знакомое «их либэ дих» и частое – «игал вас комт»[1]. Различал и целовал ее осторожно, то в щеку, то в нос. Куда придется. Она улыбалась и вздыхала, как после слез.
Дверь, состоящая из семи ровных полосок бумаги, была теперь закрыта. Мать как камень, лежащий в основе мироздания. Особенно такого хрупкого, как у Лёвки. Мать как часть всеобщего страдательного залога. Так правильно? Так лучше? Если Лёве так лучше…
К шестидесяти катились Яшины годы. Давно уже выветрился из головы язык, которым мерилась молодая жизнь. И деньги получили не только вкус, но и привкус. Привычный привкус унижения, когда или ты, или тебя.
Майору Онищенко не перепало. Яша свернул бизнес. Сделать это было легко: торговля не производство. Длинный обмен без серьезных обязательств.
К своему юбилею он стал доктором наук. Уже без Маркса и без уверенности в том, что экономическая теория – это наука, которая может. Что-нибудь может.
Очередной новый мир, частью которого снова был Яша, весело отрицал прошлое. Не пригождались навыки. Родители все время оказывались более глупыми и неприспособленными, чем дети. Кто у кого должен учиться, чтобы идти вперед?
Яша хотел читать вслед за студентами, чтобы понять. Но оказалось, что читать нечего. Яша не был уверен, что хочет идти вперед. Вот так, налегке. Но Яна… Яна настаивала: шунтирование, водитель ритма. И инфаркт – уже не приговор. Точно не разрыв сердца.
Она говорила, что это прогресс. И что он, Яша, своими торговыми деньгами дал ей возможность быть-оставаться врачом. И это большое счастье.
«Один грабит население, другой спасает, у нас с тобой безотходное производство», – отмахивался Яша.
«Ты не грабил! – сердилась жена. – Ты не грабил…»
А он смеялся. Вообще с Яной грустил редко. Был на месте и при деле. Читал спецкурс «Откаты как они есть». Официальное название, конечно, было другим…
А Лёве так ничего и не сказал. И себе не делал раны. Не копал, не судил и больше не писал Кате писем с требованием правды.
28
В Бризигелле купил картошки. И на всякий случай лука. Умылся в фонтане, как под колонкой. Хороший такой, уютный, домашний, хоть и уличный фонтан. Удивился цветам – желтый, коричневый, оранжевый, снова желтый, розовый… Даже серые каменные стены умудрялись подцепить здесь яркие – красные или зеленые – двери и ставни. Подумал о том, что уезжать будет жалко. И будет сердиться Иван Николаевич, но не денется никуда, потому что у него Лёвкин масштаб вины. Неизбывный и бесконечный. И Яше от него – полезный кусочек. Открытые пока еще калитки, подъезды, ворота. Можно войти. Надо научиться, наверное, ставить уколы, следить за расписанием приема таблеток. Протертые супы, каши, паровые котлеты – это Яша уже умел.
Сорок секунд положено мужчине, чтобы понять, где нужное, а где ненужное. И взять нужное с собой.
У Яши теперь была женщина, о ней следовало заботиться. Баловать, кормить, защищать.
И была работа. Нормальная, человеческая работа. Грязная? Стыдная? Это смотря чем брезговать и с чем сравнивать. Бывали у Яши работы и хуже.
В общем, хватило бы здоровья. Но расценки придется повысить.
Мария бежала навстречу по дороге, к которой тихонько, но с любопытством, сползали поля.
– Я думала, что ты меня бросил.
– Нет. – Он покачал головой. – Мы поедим картошки. Я уеду. И приеду осенью.
– На праздник груш?
– На праздник груш. Но прошу тебя – никаких больше братьев. Пусть будут только девочки. Они смелые…
Место личного солнца
– Давай, как будто все уже было. Давай, как будто это было честно. Твоя спина – мокрая, а по позвоночнику течет ручей. Я накрываю тебя тяжелой махровой простыней. Ладно… Знаю сам: ручей вообще не отсюда. Капец. Плохо придумалось. Будем считать, вырвалось. Давай, я кладу щеку на твое плечо, да? Не поворачивай голову. Я небритый. Уколешься… И давай, как будто дети наши выросли, но мы еще есть. Просто поговорим.
Будем разговаривать, пока есть время. А хочешь, буду говорить я один…
* * *
Жара. Восток. Лето. Море. Два часа дня.
Из всего этого я понимаю и принимаю только Восток. Ничего или почти ничего не рассказывая о себе, Восток делает меня послушной. Дома, на севере, я дружу с адреналином. Я все о нем знаю, часто использую по назначению, успевая прожить день, как год. Если считать по результатам. Но мне некогда их считать.
Здесь, на Востоке, я дружу с истомой. Ее не обязательно знать, можно только чувствовать. С ней непривычно и сначала кажется, что неуютно. Истома открывает мне глаза медленно и сладко. И вместо гулкого и сильного сердечного толчка она разливает по моему телу кровь не быстро, по каплям. И каждую из них я проживаю отдельно.
Истома пахнет, как кофе, как лаванда, как мокрый песок, как орхидея, как шкура натруженного вола. Мне не нравятся ее запахи. Точнее – не все запахи ее мне нравятся. Но я дружу с ней теперь. И нахожу радость, влажность и готовность долго раскачиваться в гамаке, отталкиваясь ногой от земли, покрытой поливной, а значит, немного искусственной травой.
Восток – вторая причина, по которой я не убегаю от этого сумасшедшего, с кем у меня, оказывается, уже все было.
Первая – место действия.
Мы в тренажерном зале. И лично я иду по дорожке. После травмы спины мне нельзя бегать, прыгать, поднимать тяжести. Позвоночник мой чуть искривлен. И сумасшедший прав: ручей – плохое слово. Пот сбегает по моей спине такими причудливыми траекториями, что они скорее похожи на линии ладони. И по ним даже можно гадать.
С двух до четырех в тренажерном зале я зарабатываю себе яблочный пирог на ужин. Получается, что сначала исповедуюсь, а потом – сознательно и специально – грешу. Я знаю, что нужно как-то наоборот. Но у меня наказание предшествует преступлению. А совесть все равно не очищается.
Я люблю яблочный пирог, сливки, перловую кашу (слава Аллаху, ее здесь не дают на ужин).
Еда – это тоже часть истомы, с которой я не борюсь. Потому что она все равно побеждает. Мне нравится быть пораженкой. Здесь или вообще, не знаю. Но здесь – точно нравится. Я поддаюсь и отзываюсь. Не бессовестно, но точно без стыда и с наслаждением.
Дома у меня нет искушений. Не диета, а образ жизни. Я привыкла. Мы все привыкли отгонять от себя возраст и думать, что так сохраняем себя для…
Я не знаю, для чего. Для того, наверное, чтобы приятно отражаться в зеркале и с презрением проходить мимо магазинов с названием «Три Кита».
В четыре в зал приходят муж и сын. Мучается только сын. Считается, что он не умеет бегать, подтягиваться и хорошо качать пресс. Ему восемь лет, и он уже «не мужик». И это надо как-то исправить.
Вечером, после полупревращения, он ест мороженое. Так что мы с ним оба грешники, кающиеся наперед. И еще я рассказываю ему про кентавра из Древней Греции. А он мне – про кентавра Флоренца из Гарри Поттера. У нас получаются разные кентавры, потому что мой Хирон – умный, добрый и праведный, но полунемужик, а Флоренцу это все равно, потому что он вообще никак не поддерживает идею самоопределения. Ему без разницы, кто сверху и что снизу.
Кентавр моего сына считает, что мир ценен сам по себе, а не в сочетании с гантелями или челночным бегом.
* * *
– Вынь наушники, а? Что у тебя там?
У меня там английский. Сейчас как раз всё о негодяях – scoundrel, rascal, villain. Слова в программе для изучения подобраны не мной, но очень причудливо. За расческой и веником могут следовать бровь, сделка и грабеж. А после психологии, сердечного приступа и зятя вдруг звучат гроб, похороны и дружок жениха. Зато их можно слушать пятьдесят минут так, как будто все они звучат впервые. Запоминания почти ноль. Но много-много удивления.
– Вынь наушники. Вынь наушники, я сказал!
Он злится. Он вообще злой. Когда он пришел в зал в первый раз, чуть не убил рыженького английского мальчика за то, что тот не стелил полотенце на доску. И доска для жима лежа была не сухой, а пропитанной чужим, резко пахнущим, подростковым потом.
Он кричал рыженькому по-русски: «Полотенце возьми! В руки возьми! Вытри! После тебя тут люди еще!» А мальчик улыбался и спрашивал: «What’s up?»
Я могла бы им перевести. Но этот, злой, просто хотел кричать. И в руках у него у самого было полотенце. А в углу их вообще лежала целая стопка. Дело было просто в крике. В желании крика.
И в том, как он, этот Злой, сводил брови, напрягал мышцы шеи и, словно живущий где-нибудь в саванне гепард, готовился к прыжку.
Зачем переводчик тому, кто голоден злостью?
Тогда я тоже ходила по дорожке. И мне не было страшно. Еще я увидела, что он, этот Злой, – красивый.
Из таких, каких я не люблю. В нем было слишком много работы над собой. Бицепсы, трицепсы, кубики пресса, отличные мышцы спины… Его взяли бы в модели и Фидий, и Лисипп.
Но такая телесная античность предполагает наличие рабов. А я против рабства – и всегда, и теперь.
* * *
– Ты не бреешь ноги, потому что у тебя не растут волосы на ногах. У тебя гладкая кожа. Шелковые простыни есть? Борешься с ними? Не любишь? Но хлопковые ты капец как не любишь тоже. У тебя морщины под глазами. Тебе сорок, хотя все думают, что тридцать пять. В вечернем освещении тебе дают тридцать. Но тебе сорок. Ты увидела меня в первый день. И отвергла. Тебе нравится слово «отвергла»? Нет? А мне кажется, что в нем что-то есть. Как ты думаешь, Мандельштам видел море?
– При чем здесь Мандельштам?
Это было первое, что я сказала. Злой улыбнулся:
– Я ненавижу… Я ненавижу открытое море. Если бы Мандельштам видел настоящее открытое море, море, которое нигде и никогда не кончается, он смог бы прочесть весь список кораблей. Весь, а не до середины. Чтобы перебить страх открытого пространства, он читал бы до самого конца. Как Гомер. Вряд ли он был слепой. Гомер. А не Мандельштам. Раз знал… «Славные оба врачи, Асклепия мудрые дети. Выпуклых тридцать судов за ними рядами приплыло». Я прочел его весь. Чернобоких было больше, чем выпуклых… Я думал раньше, что такой флот не стоил стонов проститутки Елены. Я и сейчас так думаю. А ты?
– Мандельштам видел Средиземное море…
Да, мне сорок два года. И это не страшно и не жаль. Учительницей русского в школе я не прижилась: в то время как раз кончились прививки в виде зарплаты. На меня напал вирус бедности. Вылечить его невозможно никакими деньгами. Она дает хроническое осложнение: страх.
А Мандельштам был в Италии, дети, и сказал: «Историю нельзя начать. Ее вообще немыслимо начать». Там было еще что-то о простом механическом движении часовой стрелки. Вместо истории. Вместо всего.
В четыре я заканчиваю тренировку и иду плавать. Отель стоит в бухте, где как будто нет моря, но есть множество озер, разделенных скалами и неширокими дорожками суши.
Из множества пляжей – с песком, мелкой галькой, камнями, землей, я выбираю тот, что стоит на бетонной плите.
Плавание – это запас. Я могу захотеть вечером чего-нибудь еще. И это означает, что два раза туда и обратно я должна проплыть быстро, ровно, но, увы, неспортивно. Я плаваю на спине и работаю только ногами. Мне не интересно, на что это похоже со стороны.
* * *
– Потому что ты из разряда дурочек, – говорит он. Говорит, как стреляет. Из пулемета, очередями, плотно. Он и молчит плотно. И качает пресс. Он – в шортах. Только в шортах.
Я позволяю себе разглядывать его. Еще не жадно, но уже нахально. У нас ведь «все было». Why not? Тем более что он красиво двигается. Труда и пота не видно.
– …Из разряда дурочек, для которых «и море, и Гомер, все движется любовью».
Он не ждет от меня ответа. Но я выключаю английский язык и вытаскиваю наушник. Он усмехается. Я пожимаю плечами.
– Можно было бы… Мы совпали на двенадцать дней из четырнадцати. Я узнавал. Мы могли бы провести вместе двадцать часов. Почти сутки…
– Почему двадцать? Почему не двадцать четыре? – улыбаюсь я.
– Нужно было понять, что это – ты. И поговорить. Два дня минус. Осталось бы двадцать часов… По-другому тоже можно. Всё разрушить. Здесь и там. Найти тебя на берегу. На суше. Взять. Жить…
Я качаю головой. Это не «нет». И конечно, не «да». Злой, самовлюбленный, ярко акающий… Я качаю головой и улыбаюсь.
– Когда ты занимаешься длинной приводящей мышцей бедра, я не понимаю: ты растишь ее или сушишь?
– А где у меня длинная приводящая мышца бедра?
Он краснеет! Сквозь темный, почти «бородинский» загар видно, как по его лицу разливается румянец. Он опускает глаза и шумно переводит дыхание. У него еще два пресс-подхода. Дыхание должно быть ровным, четким. Вдох – напряжение – выдох – исходное. Вдох-выдох. Ну?
* * *
Что мы делаем? Что мы делаем, два старых русских дурака (один из которых только русскоговорящая дура)? Здесь и вообще?
Я давно не играю в эту игру. Я забыла ее правила и причины. Мой двадцатилетний безоблачный брак давал надежду на счастливую смерть в один день. Ею можно было жить. Ею одной – ничего не бояться. Но полгода назад он нечаянно рухнул под словами: «Прости, я полюбил другую женщину».
– В аду холодно, – сказала я случайно. В аду холодно. Через полтора месяца муж вернулся, назначив мне трон и титул. Титул Снежной королевы. Я приняла его, потому что…
– Наверное, – вдруг сказал злой и отвернулся.
Лег под штангу. Замолчал.
Возможно, мы поссорились.
Скорее всего. Я больше не смотрела на него. И осторожно обходила стороной коврик, на котором он пыхтел-отжимался.
В четыре я ушла к лежаку на бетонной плите. К морю, которое и в тени было теплым, как летние асфальтовые лужи после бурного, но короткого ливня. Спустя сорок минут я увидела, как Злой плавал. Два раза ко мне и два назад. Назад, к своей жаркой стороне, где были мелкая галька, голые дети и красные резиновые матрасы, на которых можно окончательно искривить позвоночник. Они были набиты чем-то таким податливым, что принимало любую форму, но не держало свою.
* * *
Я не из дурочек. Но биться с жизнью можно было только спиной к спине. Биться и иногда, в паузах, запрокидывать голову. Тихо тереться макушкой о его позвоночник. Медленно вдыхать запах его волос. Запах с двадцатилетней выдержкой. Вдыхать и знать: я – дома.
Больше этого ощущения нет. И это странно, но не жалко. За разрушенными стенами оказалась возможность мира. Вместо любви мне выдали просветление – у других людей оно, я слышала, достигается только упорными медитациями или курением травы.
Психиатр, пользовавший меня полтора месяца, сказал, что брошенные жены живучи как кошки. Они выбираются из таких передряг, что всей стране стоит поучиться. «Вообще нашей стране полезно было бы стать брошенной женой». Мой случай его удивил. Боль, которую я носила в солнечном сплетении, была похожа на сбегающее дрожжевое тесто. Мы пытались поймать-смять ее транквилизаторами, вмесить в расползающиеся части антидепрессанты. Мы даже делали меня овощем и очень рассчитывали на химический сон, откуда я должна была вернуться если не излеченной, то, по крайней мере, отдохнувшей от слез.
Мы всыпали в боль столько фармакологической муки, что наркобароны могли бы назначить меня шеф-поваром.
Со мной нельзя было справиться. И каждый следующий день был хуже предыдущего, хотя опытные женщины уверяли, что время лечит. И когда-нибудь будет лучше. Нужно только не мешать.
Они устали от меня, эти опытные женщины. Они устали и ушли, не переставая удивляться. А по утрам я хотела, чтобы мое сердце перестало биться, чтобы все закончилось – я знала – острой, невыносимой, но последней болью.
Я ходила на работу, я управляла сетью стоматологических клиник, я привычно улыбалась во все зубы и, нажимая на все кнопки аварийных вызовов, искала себе еще какой-нибудь проект. Не дело всей жизни, как мечталось раньше. А только проект, способный принести мне деньги. Много денег. Легальных, здоровых. Таких, которые можно было бы оставить по наследству так, чтобы хватило на всё.
«У вас есть суицидальные мысли?» – спросил психиатр.
«Нет, – ответила я. – Напротив. Мои мысли исключительно живучи…»
«Шутите?» – подозрительно спросил он.
И мы даже вместе смеялись, рассчитывая дозы, призванные улучшить мое состояние…
* * *
После плавания Злой ложился на гальку, животом вниз. Он широко раскидывал руки. Он дышал куда-то вглубь пляжа, вглубь земли. И лица его не было видно. Я делала вид, что на том берегу, где был он, мне нужно поменять полотенца, но на самом деле ходила смотреть.
Смотреть на Злого. А он лежал, не поворачивая головы. И я глядела на его спину, вылепленную – я видела – жестокостью и какой-то отчаянной нелюбовью к собственному телу. Наверное, в детстве он был толстым. Я тоже была.
А потом… А потом я искала его. Весь шумный, звенящий тарелками и ножами ужин, и весь вечер, суетливый и влажный, и всю ночь… Почти всю ночь я искала его и не нашла его. В первоисточнике было по-другому: «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его».
Впрочем, не по-другому. Так все и было. Я искала на ложе. Но обнаруживала только себя – отдельную, бесстыдную, совсем незнакомую. Счастливую без единой причины к счастью. Муж говорил мне, орал шепотом в ухо: «Мы есть, есть, есть!»
«Наверное», – отвечала я, закрывая глаза.
– Арауканы. Знаешь, какие у них уши? У них из ушей – перья! Своего первого араукана я назвал Полковник. Он был щуплый, сердитый, бесхвостый. На выставку без хвоста нельзя. С бабами тоже нежелательно. Ухудшение породы. Ему была одна дорога – в суп. Но характер! Когда его хотели бить, он смотрел в небо. Пятился. Пятился к стене. Но оттуда вылетал как истребитель. На низком, бреющем ходу. Сбивал с ног всех без разбора. Меня тоже. Дрался как бог. Как Ахилл. Я назвал его Полковник и поселил с обычными курами. Они несли голубые яйца. Белые, бежевые и голубые. Генетика. Капец. Полковник любил всех своих баб – без разбора. Когда он умер, я похоронил его. На клумбе. Он был моим другом. Скажешь, стыдно? Мне не стыдно: я дружил с петухом.
* * *
Год назад я бы подумала об одиночестве. Об одиночестве этого Злого, выбиравшего в друзья суповой неликвид. Я придумала бы ему историю, в которой он хотел бы взрослеть летчиком, но умирал, обрастая навозом и ценами на куриное мясо. Я бы отчетливо видела контуры его разрушений, в которых шея наливалась силой и неповоротливостью, а пальцы, когда-то листавшие книги, становились узловатыми, чужими, незнакомыми ему самому.
А теперь я думала о радости. О разноцветных перьях, о возможности ходить подпрыгивая, передвигаться, не касаясь земли. О смелости. О любви без разбора. Я думала о том, что тоже могла бы дружить с петухом.
– Ты поставил на клумбе камень?
– Да. И нарисовал на нем хвост. Масляными красками. К Пасхе усиливаю цвета.
Мы лежим на черных ковриках, покрытых желтыми полотенцами. Желтыми и мокрыми от нашего пота. Мы лежим макушка к макушке. Мы не видим друг друга. И никого вокруг. Мы все, ожидающие попутного ветра, рациональные и контролирующие, мы все, у кого было и было по-честному, исчезли, чтобы получить слух, и зрение, и кожу, собирающую память о безымянных и неслучившихся объятиях.
– Не тяни шею, – говорит он. – Не тяни голову и шею. Поднимай лопатки. Отрывай лопатки. Иначе будет болеть, – говорит он. – И отдыхай.
Я переворачиваюсь на живот. Улыбаюсь. Сегодня я видела его на пляже. Его жену, сына, его друзей и их дочь. Он, мой Злой, был в кепке. И я не сразу узнала его. Нервного, агрессивного, требующего немедленно уйти в тень, ревущего на жену, раскрывающего зонтик и разрывающего воду не плавным, но грозным движением рук.
А его сын был ровесником моему.
Злой тоже переворачивается на живот. Подкладывает под подбородок кулаки. Он смотрит на меня. И я понимаю, что больше никогда не будет пропасти-воронки, которая забирает-затягивает, которая утробно зовет прикоснуться ко дну, обещая, что после можно будет подняться.
Он смотрит, и я знаю, что не буду ни падать, ни подниматься, потому что страшно больше не будет. Мне смешно, меня слегка подташнивает. Я думаю о его пупке, уголки которого, как складка скорби, чуть потянуты вниз. Я думаю о его пупке. И меня слегка подташнивает, потому что я хочу дотронуться. Погладить.
Мне жаль, что у нас все уже было.
* * *
А потом я ухожу. Я всегда ухожу раньше. Я меняю «потное» полотенце на чистое, покупаю на пляже горячий чай и прошу перелить его из чашки в пластиковый стакан. Бармен не удивляется. Он удивился только в первый раз. Во второй привык, а в третий пристрастился к радости нашего совместного хулиганства. Теперь мы киваем друг другу, как заговорщики. Я заматываю пластик в желтое полотенце, чтобы не обжечь пальцы. Я несу свой чай, как новую куклу или щенка. На вытянутых руках, любуясь. Я несу его, как запрещенное наслаждение, и люди моей стороны моря понимающе улыбаются. Восток. Жара. Здесь принято быть не в себе.
Вода, которая трогает мои ноги, почти горячая. Почти такая же, как та, что трогает губы и обжигает язык. Но кто здесь ищет прохлады? Только не мы, новобранцы армии солнечных человечков. Только не мы, размякшие, налюбленные, медленные. Не мы, едва поднимающие ресницы. Не мы, узнавшие наконец, куда ведет длинная-предлинная приводящая мышца бедра.
Я не плаваю. Просто болтаюсь в воде, ожидая, что он, Злой, скоро придет и будет мерить лагуну, формой похожую на столовую ложку, руками, ногами, телом, которое теперь принадлежит мне.
Мысль о том, что Злой разговаривает не со мной, приходит с грустной улыбкой. Я вывожу ее на воздух, бросаю на волны, я купаю ее. Я говорю: «Не со мной».
С какой-то другой женщиной. Он оставил ее дома. Он просто оставил ее. Я не знаю, на подступах к ней или уже после всего Злой скомандовал себе: «Не сметь!» Я не знаю, когда именно он выяснил, что может «не сметь», но не может теперь дышать.
Всё как у всех.
Он плывет к моей бетонной плите, туда, где нет солнца, но есть жара. Он не видит меня. Занят. Я хочу спросить, как ее зовут.
Но боюсь услышать: «Лена, Таня, Юля, Наташа». Мне не подходят эти имена. Я согласилась бы на Джинджер, Мэй или Блюбелл.
Злюсь. Злюсь не жадно, не взахлеб. Злюсь теплой, густой и сладкой волной, в которой есть я, есть он, есть ужин, привычно звенящий тарелками и голосами, а значит, есть время мести.
Я предаю Злого во время десерта. Я предаю его легко. Я показываю его мужу и говорю сыто: «Мой жених из тренажерного зала».
«Да? – Он равнодушно вскидывает бровь. – Мы тоже пересекаемся с ним минут на тридцать. Когда ты уходишь на пляж».
«Так он и твой жених?»
«Перестань, – хмурится он. – Перестань…»
Мы должны были засмеяться. Придумать мою жизнь со Злым. Мы должны были рассердиться и помириться, вспоминая и продолжая невинный список всех случайных «женихов» и «невест».
Но наши семейные коды больше не действуют. Пароли, явки, адреса – провалены. Позади минное поле, заросшее дикими маками и ромашками, еще не приученными к клумбе. И улицы. Есть улицы – с безногим, безруким, безликим Пасквино, с уставшим в боях кондотьером Гаттамелатой, с домом Рембрандта, со странным названием «Ищи полдень». Но взгляд на них означает взрыв. Гибель.
Чашки, стулья, вокзалы, цветы в горшках, «ненавижу оперу», устрицы на площади Мадлен, визиты зубной феи, оправы для очков, шампунь, грибной суп, голубой домашний свитер, сигареты «госдума ночью»… Проклятые фашисты заминировали все, работая без устали и выходных.
Иногда кажется, что там, позади, все живо, все дышит… Но тот, кто нажимает на черно-белые клавиши, играет одной рукой. Мелодия звучит пронзительно тихо и как будто оглядывается, ждет. «Не тяни шею. Не тяни голову и шею… Иначе будет болеть».
Будет болеть, превратится в песок, исчезнет.
Если бы моя мама сказала: «Прости, я полюбила другую девочку», я, наверное, чувствовала бы себя так же. Я бы не смогла поверить в это. А когда смогла бы, это уже была бы не я.
* * *
Утром говорю себе: «Не пойду». Говорю сыну, говорю мужу. Плаваю нехотя. Плаваю, объявляя себя чернобокой лодкой с парусами из белой косынки. Говорю себе: «Не пойду», различая-пробуя разные интонации – от истерики до эсэмэски. Повторяя и повторяя, скатываюсь или поднимаюсь, не знаю, к Надюхе ли, к «Любви с голубями». Говорю…
Говорю звонко и вызывающе: «Не пойду!»
Я…
Я не заменитель сахара. Не имитатор. Не римейк. Не соевое мясо. Вообще не мясо. Я не беда его и не зазноба. Я не кожа, не волосы, не губы. Не те кожа, волосы и губы, от которых он сбежал в злость и шесть отчетливых до зависти кубиков на животе.
Или так: не я…
В два часа я сижу у бассейна, одетая по последней моде. В черных шортах и черных кроссовках. Я курю, умножая пожары и нарушая законы.
Я сижу у бассейна и смотрю. На детей, играющих в ресторан, на воду, на дверь тренажерного зала. Каждые пять минут она открывается. Злой выскакивает на улицу, садится на корточки, закрывает лицо руками, трет глаза.
«Обними меня», – говорю я. И девочка, наливающая бассейновый «суп» в пустые кофейные чашки, протягивает ко мне руки. «И ты обними, – говорит она. – Иначе нечестно».
Мама девочки смотрит на нас с улыбкой. Обнятая, я соглашаюсь попробовать суп. Понарошку. Он кажется мне вкусным. Я никогда такого не ела.
Я смотрю на дверь тренажерного зала и теперь уже не вслух, но почему-то хрипло говорю: «Обними меня. Обними…»
Через сорок минут Злой уходит. Я гляжу ему в спину и вижу его старость. Он сутулится, растерянно шаркает, он становится меньше ростом. Его сорок восемь лет быстро превращаются в семьдесят, и он подумывает о том, не покрасить ли волосы, остатки волос, хотя бы виски…
«Эй! – кричу я. – Эй! Эй ты, Злой!»
Я выскакиваю из супового ресторана, случайно переворачивая чашку, я бегу за ним вслед.
Догоняю. И обнимаю сама. За спину. Со спины. Я прижимаюсь щекой к лопатке и смыкаю ладони на пупке. Он шумно вздыхает. Замирает. И я.
Как карликовая пальма. Дерево-недоносок. Побег, прижившийся в скудной северной земле и чертом или чудом выкорчеванный и высаженный здесь.
Здесь. Где жара и Восток. Где нет людей. Где солнце нехотя покидает зенит. Где не имеет значения, что он сказал своей Джинджер и что ответила ему его Блюбелл.
* * *
Ночью мой сын – лунатик. Он разговаривает, машет руками, резко садится на кровати, встает, бережно прихватывает тяжелую белую простыню-одеяло и вместе с ней отправляется на балкон.
«Сынок, ты куда?» – тревожно спрашивает муж.
«Я просто иду», – говорит мой маленький мальчик.
«А зачем тебе одеяло?»
Он молчит. Спит. И я отвечаю за него: «По дороге на каждого человека может напасть сон».
Мы возвращаем путешественника в постель, по очереди целуя его в макушку.
Мой сон нападает с Запада. Холодным рациональным шепотом он сообщает об опасности для демократии, о том, что силы родины могут иссякнуть, если мы прекратим свои пусть жалкие, но потуги. Она задохнется, да. Но я лишь пожимаю плечами. Что мы можем дать родине, если не умеем ничего дать себе?
Мой сон сердится, считая, что я не должна разговаривать с ним голой. Он думает, что наносит смертельный удар, язвительно сообщая, что всё вот это – пошлость и стыд, позор и глянец… Он просит меня вернуться к пристойным мыслям, зайти в Интернет, увидеть-услышать, принять участие, встревожиться, что-нибудь распечатать, расклеить, раздать, обсудить, не молчать, быть в теме. Но я снова пожимаю плечами. Он шипит: «Курортный роман. Запоздалая месть. Банальность. Последняя гормональная битва».
«Может быть, – соглашаюсь я и прощаюсь с ним нежно. – До свидания, милый…»
* * *
Утром наши дети знакомятся айпадами. Ими дружат, сидя плечом к плечу на одном лежаке. «Ты узнал, как зовут твоего приятеля?» – спрашиваю я. «Кажется, нет, – говорит сын. – А надо?»
Они строят дом, наши дети. Почему-то без дверей, но в три этажа. Большие комнаты без окон, свет вечерний, электрический, слабый. Бассейн на втором этаже. Вместо лестниц лифты. Дети подбегают – то к нам, то к ним. Хвастают. Но мы критикуем их дом. Мы уверены, что в нем нельзя жить. И там, там, где Злой, где его жена и друзья, выбравшие сегодня нашу теневую, почти сумрачную сторону пляжа, их критикуют тоже.
Мы знаем, что войти в воду наши дети могут только с горя. Или из-под палки. Им больше нравится то море, которое они сами заливают прямо у северной стены своего дома, зачем-то покрашенного в коричневый цвет. Заливают и спускают на него яхты.
«Их надо искупать», – говорит муж.
И Злой, наверное, говорит тоже.
Жена Злого хорошо плавает и красиво прыгает с пирса. Мой муж тоже. Дети плюхаются бомбочками, ударяются попами, смеются. «Группируйся! Давай головой. Не бойся… Осторожно…»
В воде – жизнь.
Но мы со Злым на берегу. Мы – на берегу. И здесь мы не знакомы.
* * *
А в зале он говорит:
– Я, наверное, прожил всю жизнь только для того, чтобы рассказать ее тебе. Я хотел быть моряком. Но оказался толстым. Макароны, вермишель, рожки, ракушки. Я был толстым. Зато много читал. Вместо вешалки у нас в коридоре были набиты гвозди. Мама работала техником. Я и сейчас не знаю, как это. Но она работала техником в НИИ. А на филфаке был недобор. Я влюбился в преподшу. Старую, сорокалетнюю, замужнюю. Капец. Она была худой как щепка. Она сказала мне: «Да. Но что мы будем с этим делать?» И сказала еще, что я сам всегда буду знать и буду решать, когда да, а когда нет. Поцеловала меня как большого. Положила ладонь на затылок. Потом засмеялась. А я сказал, что не знаю. Отец умер от пьянки. Тихо замерз в сугробе. В гробу улыбался. Мама злилась. Говорила: «Дезертир». Я пошел работать администратором в кооперативный туалет на вокзале. Прикрывался Веспасианом: «Деньги не пахнут». Прикарманивал по мелочи. Хватило на то, чтобы поставить ларек. Сидел в нем сам. Учил греческий. Защитил диплом по Гомеру. Через год ларек сожгли. Когда я смотрю в зеркало, вижу себя, а когда в паспорт – незнакомого старого дядьку, который может сдать меня в детскую комнату милиции. Каждый год я езжу в морские круизы. И смертельно завидую капитанам. Ненавижу море. Проклинаю открытое пространство. А когда возвращаюсь, понимаю, что еду не домой, а к Полковнику. Могил уже больше, чем друзей. Сначала никто не хотел за меня замуж. Потом я ни на ком не хотел жениться. А потом, когда уже был агрохолдинг, забеременела моя секретарша. Дочь учится в Англии, в школе. Сын здесь. Наследник. Моя преподша… Ты не представляешь, в прошлом году ей исполнилось семьдесят. Когда я возил ее в рестораны или в оперу, она напивалась вдрызг. Седая и худая как щепка. На прощание она всегда говорила мне: «Да. Но что мы будем с этим делать?» Получилось, что с этим можно делать всё. Есть, пить, слушать музыку, грызть семечки, смеяться, смотреть, как садится солнце, как остывают камни и как пятнаются старостью руки… Тебе интересно?
Мы сидим на черном резиновом коврике. Спина к спине. Мы отражаемся в зеркалах. В них и видим друг друга. Мы просто сидим, но считается, что это такая йога. Такая новая русская йога, где медитация начинается словом и просветление приходит с ним же. Я пытаюсь подстроиться под его дыхание. Conspiro – дышать вместе. Всего лишь дышать вместе, а вовсе не быть заговорщиками – пляжными незнакомцами.
Я думаю, что если бы была война, если бы вот прямо сейчас, сию минуту, ему, Злому, на фронт, я стала бы целовать его так, чтобы хватило на пять лет и пять зим. Я бы трогала-запоминала его губы, нарисованные для капризных девочек, надутые, упругие и живые. Я бы гладила его щеки, замученные лезвиями и пенками. Я бы попробовала на ощупь и, может быть, даже на вкус его брови. Но, конечно, не прикоснулась бы к затылку. Потому что я не беру чужого.
– Ты называл ее по отчеству?
Он качает головой:
– Нет. А ты?
– По имени. И сейчас…
Злой не принуждает меня, но я неожиданно легко достаю то, о чем не могу говорить, потому что у меня нет правильных слов и разумных объяснений. Зыбкость, неясность, надежда, горечь и сладость, все то, чего я раньше стыдилась и о чем поспешила забыть.
– Он обижал тебя? – строго, почти с ненавистью спрашивает Злой.
– Нет. Я. Обидела и сбежала. Я сбежала от себя такой, какую не знала. От себя, готовой не существовать, не иметь дома, детей, не иметь сил жить без него. Знаешь, когда меня бросил муж, я ни разу не вспомнила о нем. Потому что он – не возможность, а данность.
– Он живой?
– Да.
– Ты счастливая. Я выбрал тебя, потому что ты – счастливая, и потому…
Он замолкает на полуслове. Люди. Кроме нас, в зале, оказывается, есть люди. Они почему-то перестают бегать по дорожкам, крутить педали и делать жим лежа. Они слушают. И, судя по лицам, готовятся к аплодисментам.
Наши тексты похожи на синопсис пьесы. Но мы сами… Мы сами вряд ли похожи на авторов. Так, исполнители, не лучшие и не худшие. И ноль ответственности за сюжет. Но в моменты искренности мы достигаем таких высот, что, падая, ломаем хребет и себе, и другим. В моменты искренности нам никого не жаль. Мы ждем. Мы таки ждем аплодисментов. Но буддисты говорят, что одной рукой хлопать нельзя. Зато можно наигрывать мелодию.
– Чё уставились? – сердится Злой. – Чё вылупились?
– Мне пора, – говорю я. – В этом месте становится грустно.
– Они всё равно не понимают. Они – не наши! Посмотри на зубы… Это не наши люди.
– Да, – соглашаюсь я. Мы, управляющие стоматологиями и фермами, первым делом смотрим на зубы. На качество их укладки. Длину, ширину, цвет, пропорции. – Это не наши зубы. Хотя у меня делают почти такие же… Почти… До свидания.
* * *
В два часа пополудни, в два своих обычных часа следующего дня я хотела сказать Злому, что мы любим только один раз. Но пока любим, не знаем об этом. Потому что в первый раз никто на самом деле не знает правил. И если «потом» не наступит, мы можем так и не понять, кого и как долго мы любили.
Я хотела сказать Злому, что нельзя играть в дурака разными колодами. И уж тем более нельзя заходить с козырных тузов. Потому что каждый следующий тур будет предсказуемым и скучным. Потому что после тузов наступает честность, похожая на голость. На новорожденную голость, в которой есть только знание, но нет слов.
Я хотела сказать Злому, что стояла посреди февраля, не готового к зиме. Посреди февраля, наперед заплатившего налоги талым коричневым снегом. Посреди февраля, в котором я хотела исчезнуть. «Пусть меня не станет», – говорила я в телефонную трубку всем, кто еще мог и хотел меня слышать. «Пусть меня не станет», – говорила я себе. Говорила до тех пор, пока не услышала в ответ: «Да. Но что мы будем с этим делать?» Мое сумасшествие тогда уже не было цветным и разноголосым. Я утомила всех добрых и раздразнила всех злых. Я думала, что во мне уже нет несогласных. И я удивилась…
Удивилась. Удивилась. Удивилась.
И вдруг захотела остаться. Сильно. Остро.
Я ощупывала себя и замечала, как исчезли все «нет» и все причины для «нет». Я оказалась не живучей как кошка, а просто – живой.
У меня не было ответа на вопрос: «Что мы будем с этим делать?» Вместо него случилось любопытство. Веселое и доброе, как мозаика в домах Помпеи.
Еще я хотела сказать, что с той стороны баррикады, где собираются на перекличку ветреные жены и неверные мужья, не все пошло так, как кажется честным, чистым и железобетонным. И здесь, среди всякой лжи, здесь есть всякая правда, и среди подлости – радость, и среди отчаяния – вера.
Я хотела сказать Злому, что больше не приду. И пусть горят синим пламенем мои пресс, трицепсы и красивая дельтовидная мышца.