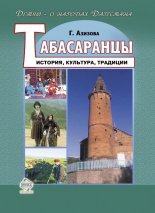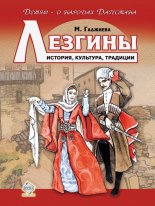Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
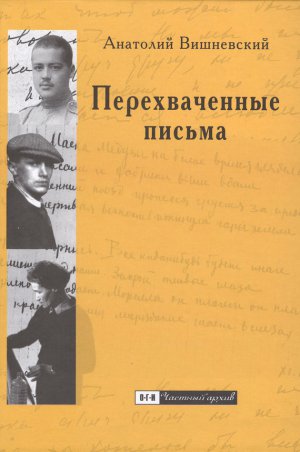
Все хвалили — невроз меня грыз. С Гуком (вот милый человек) купили искусственную бороду и клоунскую шляпу. Были у Аронова, который все такой же. Потом до утра — Варшавский, Закович, Слоним. Ах, я мечтаю о людях, которых чем больше знаешь, тем глубже открываешь. А Слоним стал ровный и доброжелательный — доска. Как мне было плохо от моей бестактной речи. Потом, наконец, наутро, остался совершенно один в «Куполе», где гарсон был мил очень, а сквозь стекла турецкого купола уже был день. Когда я выходил, бульвар был в точности, как в один из них в 1921 году.
Целый день переделывал. Ничего не сделал, кроме одной строфы. Завтра доделаю, мешали люди, хохотали. Золотое ощущение, но слабость сердца после бессонных ночей. Нет, нужно еще написать несколько золотых стихотворений, несколько золотых книг, сказать много золотых слов, прочесть много золотых мыслей, а потом заработок, тоска, болезнь, смерть.
А с Наташей сегодня один только танец станцевали — и как прекрасно, лучше всех прошлых. Наташа, золотая, пришла вниз, была так мила в своих лягушачьих туфлях (с March[62]), дорогая, золотая. А как она была прекрасна, когда говорила Наде, глядя на Венеру:
— Нет, я раньше не замечала времени, а теперь, когда весна приходит, все больше хочется жить, чем старше, тем больше. А потом, раньше я ничего не боялась, а теперь всего, всего, все враги.
Боюсь, что напишу ей завтра исключительно деловое письмо. И денег может быть получу из «Современных Записок».
Из шести дней три дня не медитировал. Два раза — после бессонных ночей, глупых и милых, с Варшавским, вчера — от переутомления после «Снежного Клоуна».
Вчера танцевал у Мандельштамов в новом костюме с слишком короткими рукавами. Нужно будет почистить ширинку, Тарнопольский ее затриперил. Он подарил мне еще две пластинки и рассказал о доброте Ларионова насчет денег и дел, которая меня страшно порадовала. Ведь я всегда думал, что русский гений не может быть без сердца.
Вот уже месяц целый прошел, а я все календаря не составил, да и стыдно составлять, слишком много будет пропавших дней. Дописал вступительное слово, которое, как и все, что я делаю, мне сперва кажется вне литературы, так, чепухой какой-то. Сегодня вечером Bole[63] с моим вступительным словом.
Утром долго сидел около моста Marie «в тайне от всех», в безопасности, как в детстве мечталось. После этого писал на стене в сральнике около Notre-Dame[64] похабное объявление и возбудился, но не дрочил, ушел. В обтянутом пиджаке чувствовал себя на улице плохо. Сейчас все шумит, шипит, стучит вокруг. А вот и Блюм пришел в плохо завязанном красном галстуке, который я давно когда-то ему подарил. Сейчас за ботинками пойдем.
Вчера [слово тщательно замазано, но похоже на «еб». Да, точно: еб. — Осв.] С. П. — с большим удовольствием. Но решил все порвать тотчас же, хотя почувствовал, что это было полезно для сердца и нервов. Наташа перестала существовать.
Вчера искалечили «Лунный дирижабль» в Последних Новостях. Сволочи, 36 франков — и сколько горя. Ничего, внутри все золотое.
Солнце мало греет, хотя рано еще, половина одиннадцатого. Весны не чувствую, не грущу, рвусь в лето, в работу. Хотя было много плохих дней. Полуработа, полубал, полусон, полужизнь (что бы еще прибавить покрасивее для потомства?). Потомство [замазано] тебя в [замазано].
Жду, когда папа уйдет и Ладя, — тогда буду дописывать доклад для Союза[65], который сегодня вечером и меня вовсе не беспокоит. На Гингере народу было мало-мало, но очень меня хвалили.
Вчера прижимал С. П. на Аренах. Парило, в серой мгле шумели птицы. Я был в новом костюме, страдал от алого галстука, узкоплечести и короткорукавности пиджака. Возбудился с С. П. Нужно быть осторожнее. Но если будет еще одна [слово тщательно замазано, но, скорее всего, — ебля; почти наверняка. — Осв.], больше мне ее не видать никогда, ибо сил моих никаких и так не хватает.
Нужно вернуться к стоическому золотому лету, которое снилось около Canal St Martin. Сейчас как раз время для всего. Потом никогда не будет, если будет пропущено сейчас.
Календаря все не составил.
На докладе было 20 человек, говорили много Адамович, Раевский, Варшавский. Адамович, жалея меня, говорил, хвалил и грустил. Он был надушен.
Наташа — чисто сексуальный соловей, которому давно нужно скрутить шею. Нужно держаться, писать, а главное не слушать сексуальных соловьев, хотя бы и милых. Но бедная девочка какая-то голодная до ласк. Сидя со мной, она сексуально вытянулась на диване. Кто-то идет — она тотчас же подобралась и переменила позу, бедная глупая девочка. Подарил ей шелковый платок.
Дни эти пустые, с обрывками медитации, с беготней по лестницам метро. Мучился из-за стихов в Последних Новостях. Бунин был мил в метро. Хорошо было с Тарнопольским утром на March пить чай у евреев. Лето должно быть н сладкое, а золотое.
Бывает снежно, или темно, или тепло, но работы никакой. Целые дни в трамвае, в метро, на поезде. Деньги, дела, натуг плеч — руки кстати исправились: 34 направо, 33 налево. Сейчас в комнате желто и грустно, ибо уже половина шестого. Время идет, и ничего ровно не сделано и не сделается.
Вчера [замазано] мило хотя, но и безвкусно, и противно, в сущности. Не может человек состоять из духов Шанель и из формы плеч.
Лето все же будет такое, которое предчувствовалось тогда на Менильмонтан, стоически золотое, но может и оно, по недоразумению, пролететь впопыхах.
Завтра утром в церковь, говеть с Наташей. Даже и перед Богом не без женщины. С Заковичем в метро важный спор о духе музыки и его отличии от музыки. Большие у него мистические способности, но не хватает знаний строгих, деловитости, серьезности.
- Ледяная сирень расцветает в сочельник
- Подо льдом запевает утопленник альт
- И луна как развратный и тонкий бездельник
- Фиолетовой пяткою гладит асфальт
[Вторая и третья строчки несколько раз исправлены, окончательный вариант не выбран]
Тревога о деньгах. Решил купить рубашку. Вырвать четыре зуба, если платить не надо. Купить ботинки еще одни.
Пустота, обед в Медведе из-за Цветаевой, статьи обо мне, нежность Адамовича. Никак не заживают оцарапанные руки, боль в правом легком. Надежда на Армию Спасения. Мирная процессия с прекрасными и бесполезными флагами и музыкой, замолкающей за углом.
Вчера ликвидирована С. П. после короткой и отвратительно нежной [замазано]. Накануне всю ночь с зубной болью играл в карты с Варшавским и Тарнопольским (35 фр. выигрыша) — после литературного скандала и спора до хрипоты.
Ничего не делаю — тут столько обо мне в одну неделю. Наслаждение всеобщим вниманием и нежностью. Какая-то новая легкая жизнь, пустая и нежная, как смерть ангела в ватер-клозете. Смертельный сон души. Календарь пуст. Пусть так месяц пройдет. Каникулы.
Вчера решил начать новую жизнь, как дети. Новая жизнь началась нелегко (какая, почему, хорошо было бы вспомнить).
Утром [замазано] с С. П., затем поднимал рельсы, прыгал в песок и восхищался Линдбергом. Потом было не так много работы, как много смысла и солнца. А главное одиночества, дождя, солнечных утверждений под дождем. Втащил Варшавского — 78 кило и потом Путинского — 82. Чудеса, побиваю всех!
Вечером — дезертирство с «Зеленой Лампы». Но хорошо было в унижении лежать под пальто и думать о мистическом солнце. Сладкая сонливость костей, свист в ушах, но бодрая бравурная музыка в сердце. Все будет хорошо, все есть хорошо, все-все на солнце, в сфере которого умереть есть высшее благо и счастье.
Целый день гулял с Заковичем. Отломал ручку на двери секретаря в театре Champs-Elysees. Вывинтил лампу и бросил ее в желтый зал, где она почему-то не взорвалась. Было много солнца, автомобилей, зеленых деревьев и синих небес, было тепло на сердце, ходил в одной фуфайке и пыжился. Закович стал слегка противен. Гулять нужно одному отныне. Но в общем золотая жизнь началась.
Опять С. П., отвратительно нежная [замазано]. Сон под слишком узкой простыней, под холодным солнцем. Я ищу у нее утешений от несчастий, в которых она сама виновата, ибо создает только новые несчастья. Все серо и мертво вокруг. Но жизнь всегда только начинается, и я еще раз попробую, и еще двадцать раз. Сумерки, 50 страниц Пруста. Все будет хорошо, если захотеть, но три дня пропали из-за [слово замазано] этой.
Вчера опять С. П. и [замазано], но все же Шеллинг, доклады, даже попытка стихов.
Бежал за автобусом после еды, в результате сердцебиение и тоска. Тренировал руки, спал в золотом освещении весны, жалел прошлую жизнь как нечто уже безвозвратно совершившееся. Как высоко кончается «А la recherche du temps perdu»[66]. Дина в остатках Таниного платья, как бы в купальном костюме, была проста и незначительна. Надо же работать когда-нибудь. Доклад мой будет первым будущего сезона.
Под дождем Мамченко был все-таки скучен, куда ему до Алеши Карамазова (не люблю Достоевского).
Все, ладно, нужно писать статьи.
Пермь, 13 мая 1929
Дорогая моя мама, во вторник на Страстной получила твое дорогое письмо и очень за него благодарю. Оно пришло как раз в полугодовой день кончины бабушки и на другой день, в Страстную среду, после обедни я подала записочку на общей панихиде, и вместе с Надей ее прослушали. Мы все трое говели на Страстной и в Великий четверг причащались. В Страстную пятницу отнесла несколько своих роз к Плащанице. У заутрени Ника и я были в Воскресенской церкви, вернувшись, разгавливались. Благодаря добрых людей у нас было хорошо и все, что нужно, и яйца красили. Праздники провели хорошо, ходили в гости, и вообще настроение было хорошее. Еще не сказала, что в Великую субботу пришла посылка из Москвы от бабушки, и в ней сахар (который нам очень нужен), компот, игрушки и два платьица для Ариньки, миленькое белое пальто летнее Мите, очень оно к нему идет.
Сегодня день нашей свадьбы, время идет — прожили четыре счастливых года! Посылочка твоя еще не дошла. Уроки постепенно начали таять, но, к счастью, у Ники опять имеется в виду прошлогодняя работа по инвентаризации домов, которая нас поддерживает.
Из записей мая 1929
Все же я доволен сегодняшним днем, несмотря на сердце, боль в голове et qu'il tait macul par la plus excrable des couleurs[67] (вчера), на плохую медитацию и на новое хулиганство жирной бляди, которое не стоит описывать.
Ведь я работаю — безрезультатно, правда, но работаю. Может я все-таки получу это место Розанова: и грязен, и болен, и жуликоват, и отвратителен, а прав.
Дождь шел, как в детстве, как в Малаховке, как в 1923 году. Булыжники на Pt. Neuf были, как драгоценная мозаика, в этом мне Пруст помогает, я хотел поцеловать их.
Думаю опять о прозе, о Безобразове, о рассказах. В общем все, кроме медитаций, — в правоте своей. Пиджак лиловый мучает меня узкоплечестью. Может быть будет хорошо у Дины на Daumesnil, потому что там ближе Венсенский лес.
Перечитал несколько строк этого дневника. Мило все-таки и так глупо, что бьет в цель, то есть не жуликовато. Замечаю, что и у меня завелось прошлое — в общем с 1918 года, но, в сущности, по приезде в 1923 году из Берлина.
Вчера утром головная боль, еле ожил. Опять [замазано], автобус, отвращение. Писал и читал немного. Пруст прав, что вот так жизнь дойдет до конца, всегда откладываемая до завтра.
Сегодня снова утро пропало из-за Заковича, который явился ко мне с утра читать свой дневник (!!!). Потом бродили отвратительно, я пыжился и смеялся, умирая от усталости. Дома даже заснул слегка, только в четыре принялся метафизировать. Сейчас, может быть, буду писать стихи.
Вчера был у Злобина, говорили о сладостном поле. Долго шел домой со свистом в ушах под синей зарей и думал о ядре золотом, хотя больше о себе. Написал после одну строфу и опять хорошо бежал за автобусом (дурак, ведь тебе 28 лет!), и потом сам автобус замечательно скользил на мягких своих шинах по пустырям до Place Daumesnil.
Как только Адамович приедет, первое заседание будет. Сомневаюсь, буду ли с «Дмитрием Сергеевичем» говорить о Любви, но я их недооценивал, это факт.
Масса работы, четыре доклада: 1. О любви. 2. В «Кочевье». 3. Для «Воли России». 4. Для религиозно-философского общества. А еще стихи, и чтение запущено, а главное — медитации.
Шел пешком мимо автомобильных магазинов, без мыслей, почти без тела, без плеч. У Злобина ужас меня объял при виде такой толпы. Во врея разговора вдруг явственно слева откуда-то позвала смерть. Comme la petite phrase de Vinteuil[68]. Откуда-то извне. Злобин меня понял, но «промежуточных миров» он не чувствует, потому не поэт.
У Мережковских было отвратительно, все острили насчет вечера о любви и насчет моего «пансексуализма». Входя, забыл поздороваться с половиной присутствовавших. Целуя руку Гиппиус, ткнул в нее носом.
Не может быть хорошего искусства без хорошей метафизики. Какое счастье, что эту мою заветную фразу произнес Адамович. Прекрасный, чудесный разговор в Ротонде и в метро. Ждал я его долго и отчаялся, вдруг он как из-под земли, добрый такой, я ему ручку свою подарил на память о разговоре, хотя до сих пор мне ее страшно жалко. Существо не важно, перебивали друг друга, до того хотели говорить. День на это пропал, но никогда так сердцу моему не было радостно день потерять.
Вчера Дина была у меня, и я опять испытал силу физического ее притяжения сладостного — и как раз на том месте под мостом, где когда-то так часто ждал Таню.
До двух спал, потом до 3–4 писал статью о Минчине, в пустой квартире. В новой босяцкой клеенчатой фуражке поехал к Филиппову, потом к Б. П., с которой [замазано], примеривали платья и читали.
Встал в два, поехал к Черновым, где была одутловатая белесая Наташа. Пьянство необыкновенно сладким вином и Ида, которую я целовал, танцуя.
В субботу 25 был вечер Цветаевой, а до этого March aux puces. В Куполе был милый час в белой фуражке перед огромным растворенным окном рядом с красавицей которая, к сожалению, за меня заплатила.
Пермь, 31 мая 1929
Дорогая моя мама,
Спасибо за твое длинное письмо, которое, как всегда, доставило мне много радости. То, что ты пишешь про помощь, которую ты нам делаешь, страшно нас подбодрило, и мы оба тебя сердечно благодарим за нее и очень тронуты. Для нас, конечно, твоя помощь имеет громадное значение, так как заработок Ники очень неопределенный (об моем и говорить не приходится, настолько он мал), и бывало так, что сидим без копейки и в долгах. За квартиру задерживали за три месяца, хорошо еще, что хозяева хорошие и не очень нажимали. Только меня беспокоит то, что ты могла бы меньше работать и уставать, а из-за нас тебе приходится работать больше. Я все надеялась, что когда-нибудь смогу тебе помогать, а выходит наоборот.
Сейчас Ники с Надей работают по инвентаризации. Ники чертит планы и очень усовершенствовался в этом деле, а потом они с Надей делают вычисления.
Я еще тебе не описывала, как мы провели день наших именин. Утром пошли в церковь — хотели причаститься, но опоздали к причастию, и не пришлось. Днем приходил нас поздравить и принес Ариньке куклу один знакомый старичок, а потом Раиса Константиновна Лебедева пришла, принесла игрушки детям и по платьицу им из очень хорошенькой материи. Аринька бегала и резвилась с племянником Лебедевой, очень милым мальчиком 5 лет. Потом еще пришли знакомые, муж, жена и сын 5 лет и подарили Ариньке мячик. Вечером была Валентина Николаевна, тот же старичок, что и днем, и один из братьев Веревкиных. Провели день очень хорошо, и погода простояла хорошая.
Из записей июня 1929
Написал lettre de rupture[69], как всегда, стало легче и проще, мужественно грустно. Путник, вставай, соловьиный сад позади, золотая дорога одиноких ждет тебя.
Вчера долго смотрел на зарю (после поноса, когда сперва пальцем на стене подтирался, а потом кальсонами, благо прачка чистые принесла), — под мостом, около места нашего бывшего с Т. Ш. Все было гладко сине и прекрасно.
До этого гуляли с Блюмом, и он утешал меня. Время наше уже не проходит даром. Адамович был мил в Coupole, где устраивал пожар на столике.
Плакал и медитировал в церкви для умирающих и вновь искал ее. Утром маслил картины.
В понедельник, 3-го, получил письмо, начинающееся на «Cher![70]», мучился, не работал, страдал в Coupole, позировал Блюму голый, причем страдал от того, что он меня таким узкоплечим вывел. Впрочем выражение глаз изумительное. В поезде грустили и наслаждались духом живописи.
В субботу позировал, потом вечер Союза, где меня хвалили, а Яновский обвинял в том, что я никого не учу. Днем было, кажется, ужасно (сейчас холод и серость).
В пятницу мы были с Минчиным у Блюма, ездили на такси на выставку. Светло и высоко было нам. Было жарко.
В среду С. П. была у меня, опять поебка, после этого я вне себя от боли ее прямо выгнал — и навсегда.
Саломея. На вечере Газданова я впервые заметил ее гордую осанку. На вечере Цветаевой Софья Григорьевна нас познакомила.
В четверг прошлый мы сидели в Куполе, она в манжетах, я в белой фуражке с March. Потом в Кочевье я великолепно позировал, председательствуя, понравился, провожал домой.
— C'est saisissant[71]. На этом Кочевье вы мне очень, очень нравитесь. Et pensez moi[72], — сказала она, уходя.
Она пригласила меня тогда на понедельник, но потом прислала письмо, над которым я умирал от ревности, думая, что она на Зеленой Лампе с Рейзини.
Сегодня, проснувшись, пошел с Ладей пластинки покупать под дождем. Потом были у Дряхловых, танцевал с Диной. Сидели у окна, она плакала, и мы целовались в темноте. У нее было рембрандтовское и святое лицо. «Ведь я твоя мама». Долго сидели, и вдруг слаще стало нам от поцелуев. Было крайне нежно, но безнадежно сексуально. И я понял, что мы были правы, живя вместе, все-таки какая-то реальная нежность была осуществлена.
Рабочее настроение. Угроза перемены жизни. Лучшие дни, может быть, — чтобы опять потом разрыв, надрыв. Видел ее вчера на St Michel. Мы неприятно встретились глазами. Я отдал поклон и даже не обернулся. Она удивилась, и я чувствовал черепом, как она повернулась. Потом я страдал в кафе на углу Petit Pont и хотел быть педерастом, наконец, торжествовал, но придя домой заснул.
Вчера утром работал немного, страдая от отсутствия письма. Впрочем была забастовка почтальонов. Блюм мне мешал. Затем медитировал, страшно долго выбирал галстук, наконец, надувшись, как римлянин, пошел в Кочевье, решив не обращать на нее внимание.
Я блистал и, страдая, говорил что литературы нет.
Инночка все краснела и смущалась в Куполе, я провожал ее, она была мила очень, очень. «Знаете кондитерскую, я там бываю». Потом до утра играли в кости, причем Адамович насыпал мне за шиворот куски льда.
Утром были розовые облака, а я катался на трамваях, грустя и радуясь Инне, деньгам своим, утру, и страдал от Рейзини.
В субботу я работал, даже читал и медитировал, а главное, брился и переодевался. Бал вчера удался, это был мой первый удачный бал. Инна была мила, гладила меня и прижималась щекой во время танца, говорила, что любит страшно. Потом в такси все расстроилось, и она даже испугалась. А я стал ей читать нотации, но она гладила мои руки и говорила: какие гладкие руки. У какого-то «X» были милые глаза, но грубые руки.
Вчера день хороший. Утром гуляли по городу без пиджаков, причем я оплевал одного педераста. Да, кстати, сначала была Инна, но это — противная часть дня, и об этом не стоит вспоминать. Инна — ерунда. Нравится она мне все меньше, c'est une jeune fille sans conversation[73], a главное, вспомнить только эту маленькую искривленную змею рта.
Адамович милый, случайно назвал меня на ты. Я опять с работой вошел в атмосферу любви.
Ночью унижение из-за денег в Daumesnil и поцелуи Маковской в автомобиле, где она счищала мне с лица губную помаду. Здорово был пьян, осталсь жалкое и прекрасное воспоминание.
Пермь, 20 июня 1929
Прошлой ночью у нас побывал вор, и я теперь боюсь ложиться спать, как бы он опять к нам не заглянул. Дело было так. В пятом часу утра какой-то жулик в лаптях вынул у нас в окне кружок от вентилятора, в отверстие просунул руку, повернул шпингалет, выдернул крючок и растворил окно (спим мы в соседней комнате). Сделав все это, стал ходить около нашего окна и осматриваться по сторонам, не заметил ли его кто-нибудь. К счастью, в этот самый момент за ним наблюдала из противоположного дома одна наша хорошая знакомая. Она встала, чтобы накормить своего маленького ребенка, и уже некоторое время следила за манипуляциями жулика. Когда он, увидев, что на улице тихо, приподнял занавеску и закинул ногу, чтобы влезать к нам, она разбудила свою мать, и та громко закричала из окна. Вор мигом убежал во все лопатки, не утащивши ничего, и мы этим милым людям чрезвычайно благодарны, так как могли бы проснуться и не найти своих вещей.
Надя собирается от нас уехать. Усиленно ее вызывает тетя, которой уже наверное достаточно напели про мой дурной характер. Но главным образом Надя едет, так как надеется там устроиться на службу, а здесь кроме одного урока (8 рублей в месяц) ничего нет. Надя нам очень помогает в работе по инвентаризации, но, к сожалению, и это, может быть, закончится. Когда она уедет, я не представляю — и Ники тоже, как мы будем жить, как справимся. Взять человека при наших скудных средствах невозможно, и обойтись без никого тоже очень трудно, ведь детей нельзя ни на минуту оставить одних.
Мика все больше и больше становится проказником, все хватает и тащит. Когда я сижу на крыльце дома, который напротив, он вползает и сползает на четвереньках по лестнице и очень любит это проделывать. Аринька много играет с девочкой, с матерью которой я теперь дружу. Уложив детей, мы с ней иногда ходим в сад Профинтерна послушать музыку. Вчера проводили с Ники вечер в гостях у молодых, на чьей свадьбе в прошлом году пировали. Были недавно с Ники в кино на хорошей картине.
Из записей июля 1929
Вероятно это от робости происходит, но как глубоко было мое горе, а радость уже была меньше. (Кажется, вообще одна из основных печалей то, что горя всегда можно причинить больше, чем радости).
День был высокий-высокий, солнечно неземной. Сидел долго у неизвестного солдата. Пытался писать и работать, но был уже совершенно переутомлен. Секрет продолжения поэзии, вероятно, во внутренней жизни.
Со среды писем нет — 6 дней. Якобы для меня пришла на Монпарнас — не встретил ни разу.
Писем не было еще десять дней, наконец, я узнал, что она хотела мне написать. Послал два объяснения. Встретились у нее, но потом еще в Люксембурге, где я был горд. Милая, дорогая моя, как она обнимала меня и гладила мне волосы на балконе, и говорила, и обещала.
Назавтра встретились в Dm'e, ее мать была здесь, было грустно и нежно. Она, говорит, не любит своего мужа, но ведь будет колебаться его бросить, пока вся прелесть не пропадет.
Вчера ждал безумно, но день, хотя и без медитации, и почти без работы, был ясный и прекрасный. Гулял в Jardin des Plantes. А около Opra (на rue du Havre) вдруг почувствовалось верное зрение — конец неврозу.
Пермь, 7 августа 1929
Я уже благодарила тебя и еще раз благодарю за твою чудную посылку и деньги. И то и другое нам так было необходимо, и мы за это время очень воспрянули духом. Дети настолько не избалованы сладким, что для них сахар — одно из лучших лакомств, и они то и дело меня тормошат, чтобы я его им давала — уже одно кило кончили и принялись теперь за второе. Вообще вся посылка как нельзя лучше подобрана. Благодаря тебе, удалось нам расплатиться с нашим большим долгом квартирным!
Теперь будем шить драповые пальтишки детям: думаем обратиться к Сашеньке. Работа ведь не очень сложная, а возьмет она, конечно, дешевле, чем Пименовна. Купили детям по матросской шапочке, и очень милы они в них.
Мима с каждым днем становится все более бойким; он входит в чужие парадные и сам вскарабкивается по лестнице на второй этаж. На днях утром он у нас пропал. Я еще в утренней прическе, только незадолго перед тем встав с постели, убирала в комнате и выпустила Мимочку в окно, чтобы он мне не мешал. Через некоторое время смотрю — нет его. Бегу во двор, оттуда в соседний двор, мечусь туда и сюда — нет и нет Мимы. Прибегаю за Ники, он тоже встревожился, идем на поиски, и Аринька за нами бежит. Дошли до костела — все нет. От костела я пошла прямо по Соликамской, а Ника повернул направо по Университетской и — хорошо, что у Ники глаза хорошие, — почти за целый квартал увидал маленькую серенькую фигурку, которая все идет себе и идет on its sturdy little legs[74] совершенно невозмутимо и еще кушает шаньгу, которую где-то получил. Ника нагнал его уже на углу Верхотурской.
Из записей августа 1929
Могущественный и ясный день. Долго стоял на заре у реки, смотрел на субъект мира — солнце. Объект же за моей спиной был тоже прекрасен. Ничего не ждать, не грустить, ничего не бояться, радоваться радостью рока. Этот день был очень высокий.
Вчера слишком долго читал Ренана и Рембо у Дины, поэтому, с заездом к зубному врачу, которого не было, опоздал домой. Начал одеваться к Сталинским, хвать — рубашки нет, метался и выл два часа с половиной. Приехал в 10, было плоско и скучно. Странная девушка прижала мою руку к своему животу и все покачивается в кресле. Было отвратительно, говорить было вовсе не о чем. Рейзини понимал, я понимал и страдал от своего молчания. Был равнодушен, сердит, огорчен, подавлен.
Позавчера я работал, написал стихотворение о St Louis, волновался, читал и медитировал. День был очень высокий.
В понедельник писал Аполлона Безобразова и слишком рано ушел к Дине. Но в общем время идет очень высокое. Чудесная прогулка с Заратустрой в Жарден де Плант, ясная. Не время ждать будущего, теперь жизнь вся в настоящем, такую именно сумей ее принять. Золотые дни. Лето это выше всех остальных лет. Золотою осенью в деревню — в леса.
Все мне кажется, что я мало работаю, хотя работал часов пять подряд. Опять страх какой-то ползет, сейчас мы его изгоним. Все утро спал, было жарко, я задыхался, умирал прямо.
Вчера ликвидировал Саломею, она была красна и расстроена, но достойна. Я опять больше не могу. Ах, суета сует. Я не знаю, что такое любовь, по-моему, можно хорошо относиться, avoir un bguin[75] или dsirer[76] кого-нибудь. Я жалко пытался ее обнять.
Был в синема. Саломеи уже не было около меня. В сущности, именно в эти десять и семь дней ожидания и умер ангел, и мы расстались. А рояль все играл и играл какие-то далекие странные, всегда в таких случаях трогающие вальсы, и была во всем какая-то гибель.
К счастью, Дина была не могущей, но приехать туда был рай, лучше даже, чем домой.
Гулял немного в оранжевых ботинках, печаль, угнетенность. Вчера целый день у Дины и вечером с ней в синема, работы никакой, кроме попытки медитации. Позавчера слабость, боль в сердце. Визит к Осоргину, который был мил: «Роман Газданова плохой-преплохой, вы, думаю, хорошо напишете», — спасибо, милый.
Третьего дня день почти никакой, хотя читал и пытался писать. Вечером была потрясающая медитация и столько слез. Но бросить гимнастику не захотел. После этого был отвратительный вечер в Coupole, где я снимал пиджак и показывал тощие руки негру. Отвратительные воспоминания о нем.
До этого был день рабочий с большой медитацией о пространстве и замечателной прогулкой… Ах да, был я еще у Рейзини, и там была она с ее прекрасными ногами, руками, волосами. Она «делала мне глаза» и явно хотела мириться, но нет, это ход опять.
Золотое опрощение не смогло быть сегодня «подвинчено на одно деление», потому что целый день [замазано] и читал жизнь Бодлера. Низкий был человек, больной, но неглубокий, ужасную прожил жизнь.
Милая Т. Л., все-таки elle est dans sa candeur navre[77]. Все от отсутствия «большой волны», ничего не несет в себе, нужно все время «нажимать на акселератор».
Вчера чудные алые облака около Gare de Lyon[78], свинцовая тяжесть рук на скамейке около моста. Прочел 50 страниц Плотина, медитировал. Рогаля милый, мешал, актерствовал в Люксембурге. Людей, даже лучших, не переношу из-за раздвоения личности, двойников.
В субботу после чудного дня на Champs-Elyses вечером встретил Дину в Cachan у Проценко. На бруствере форта познакомились с солдатиком. Гроза прошла, небо стало розовым.
В пятницу отвратительно, несмотря на медитацию и стихотворение. Ебля у Т. Л., страшная тоска, потом ссора, грубости.
Милый разговор с Диной над рекой на подножке странной машины. Мы сидели и делали планы. Нужно ли это крайнее улучшение отношений, возвышение их?
Вчера вечером у Дины было бестолково, но мило, прямо действительно моя семья. Идочка тоже была мила. Домой пришел страшно разбитый, с мучениями совести, что не работал, даже не упражнялся. Пытался помедитировать, но заснул.
Позавчера Рогаля страшно утомил, милый, предлагал в Сирию с ним ехать. Бежал за автобусом на Champs-Elyses — и кажется с пользой. Дома час на солнце читал — 10 страниц Плотина с компанией. Потом философия, медитация, гимнастика. Сейчас опять Рогаля придет.
Подвинчено на одно деление. Нужно поверить в нового золотого человека, решиться уничтожить двойника. Готовлю золотую зиму.
Плохие медитации. Саломеи я не дождался.
Глава 3
МОРЕЛЛА
Еще в давние годы случай познакомил меня с Мореллой, и с первой же встречи душа моя возгорелась огнем, не известным мне ранее. Воспламенил мою душу не Эрос, и все горше и мучительней становилось растущее во мне убежденье, что я не могу ни определить диковинную природу этого огня, ни обуздать его смутный жар.
Эдгар По
…С ним, единственным, кажется, я дрался на кулаках в темном переулке у ателье Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами… Поплавский на вечеринке в ателье Проценко, где днем красили галстуки и шарфы, был особенно раздражен. Статья Адамовича, задевшая его, стакан вина из нового запаса, привезенного таксистом Беком (бывшим русским подводником), или «постоянная» девица, не отстававшая ни на шаг от Бориса, все это могло подействовать на него удручающе.
…Борис вышел с девицею в переулок и уселся в пустое такси Бека, дожидавшееся своего хозяина… Там, на заднем сиденье, Поплавский полулежал с дамою сердца, когда я тоже выполз проветриться. Из озорства я несколько раз протрубил в рожок, мне тогда это показалось остроумным и даже милым.
Но Поплавский вдруг неуклюже, точно медведь, вывалился из такси и полез на меня, матерясь и возмущенно крича:
— Ах, какой хам… ах, какой хам…
В его страдальческом голосе были нотки подлинного отчаяния.
Мы несколько минут сосредоточенно и бесцельно боролись, он зачем-то рвал на мне ворот рубахи и даже вцепился в волосы. Наш общий друг Проценко в это время как раз освежался у забора. От совершенной неожиданности, любя нас обоих, он опешил, буквально парализованный, не зная, что предпринять…
На нашу возню из ателье высыпали другие литераторы, шоферы, дамы. Всеволод Поплавский, брат Бориса, весело картавя, вопил:
— Обожаю русскую речь…
Бек нас разнял…
Из записей сентября — октября 1929
Настроение твердое. Аполлон Безобразов на верфи. Сейчас иду в Лувр.
Вчера странная поездка в St Cloud среди огней и зорей, потом адская боль в зубах, катался и плакал (с удовольствием), заснул с грелкой и морфием.
Позавчера вечером — поездка на трамвае до Etoile с прелестными девочками Шрайбман. Дурили и слушали лысых мопассановских музыкантов.
Три дня подряд переписывал все стихи — до головной боли. Плохие медитации и высокие солнечные состояния.
Невыносимое утро, когда я все время засыпал и еле двигался. Адская жара, отвратительный разговор с мамой о деньгах. Потом мне рвали зубы, я обедал у Диночки, и играл в карты с Цилей, замаливая боль в зубах. Совершенно особенно солнце опускалось в окне.
Ах, какое счастье было бы иметь немного денег и поселиться с ней в одной квартире. Ведь женщины гениальны, когда они любят, для того, кого они любят.
Опять замечаю, что моральная боль, в сущности, — чисто физическая боль в груди. Яновский вывел меня из терпения и был наказан, а я еще больше. Не могу выдержать этой недели без работы, умираю прямо. Потерял пять кило из-за зубов.
Все же золотое ощущение было доступно этим летом, и каким кажется оно огромным, будто много лет прошло. Это значит, что многое произошло.
Целый день то спал, то просыпался, вечером болен совсем от этого. Выгнал Заковича, который возмутил меня своими кражами у меня, и восхитился одновременно красотой стихов. Сейчас жду Дину совершенно больной.
Вчера и позавчера работал. Серо и нежно в эти первые осенние дни. Два дня провел у Дины, переволновался, позавчера не работал. Но буду работать. Осень высокая, не совсем золотая, но трепетная. Близок Рембо, Блок кажется пошляком.
Сумерки, как-то желто и странно, а сейчас розово в окне (бегу смотреть). А как фонари горели желто на розовой заре. Минчин научил меня видеть вечер.
Целый вечер играли в отгадывание, до головной боли. Работа средняя, но высокие голубые путешествия под дождем. Целый день с Диной стихи переписывали, наслаждаясь домом и холодом за окном. Надежды на разбогатение сильно сблизили нас, но может быть я в Иду влюблен вовсе?
Сколько я у них ночей переночевал и как мило утром пили кофе последние дни… Чудные это были дни, 1924 год, по стихам судя.
Мне необычайно повезло в судьбе: я встретила Карского. Светловолосый, с красивыми светло-серыми глазами, очень близорукий. Он великолепно знал языки, делал талантливые переводы (например, переводил на французский язык Мандельштама), работал в редакциях различных газет и печатался в милюковских Последних Новостях, в Монд; сотрудничал с Альбером Камю. Был он также художником.
Его отец, революционер, был сослан в Сибирь, молодая жена его, редкая красавица, отправилась за ним. Там и родился Сергей Карский, их единственный сын. После раскола социал-демократической партии отец покинул страну. Присоединившись к меньшевикам, он вместе с Троцким приехал в Париж… В один прекрасный день он пошел в Булонский лес и застрелился — Сергею было тогда восемь лет. Мы познакомились, когда я еще училась на медицинском факультете. Бывали вместе на богемных вечеринках, бегали на лекции Бердяева и Шестова, посещали вечера «Зеленой лампы» у Мережковского и Гиппиус. Я бы не сказала, что у нас были какие-то особые амурные отношения, — мы просто симпатизировали друг другу.
Понедельник. Без даты
Карскому все равно ничего помочь не может. Но почему тебе нравится уничтожать вещи, не тобою созданные, сами чудесно создавшиеся. Ведь ты могла бы меня полюбить. Ведь ты начала уже немного любить еня, и какое моральное изуверство заставляет тебя от меня отказаться — не знаю. Ведь это так вот брать самое лучшее в жизни людей и самому его рвать, ломать, уничтожать. И во имя чего все это? За меня, ты говоришь, боишься. Так мне ведь только радостно кого-нибудь любить, даже несчастно или полунесчастно. Поэтому я и не забываю всего этого, не отворачиваюсь. А наоборот, упорствую и думаю о тебе. Вернись, Ида, все равно ничего не поможет тем, которым больно. Им не может быть больнее. Это их только обезнадежит и, может, быть освободит. Как всегда меня освобождало.
Друг мой милый, медвежонок, замученный своей добротой. Не покидай меня. Не потому, что я погибну. Слишком уж я здоровый, чтобы так погибнуть. А потому, что что-то еще лучшее, чем жизнь, погибнет. Ведь тебе могло быть со мной хорошо и было уже хорошо немного, я знаю это. Ах, как страшно и ненужно возвращаться в «холодный рассвет», в мертвое ожидание жизни. Когда вот здесь вот, рядом, самая золотая жизнь, самая настоящая, была так грубо, да грубо и изуверски уничтожена. Милый мой медвежонок полузамерзший, как жалко, как страшно, как не нужно ничто произвольно рвать и ломать. Ведь еще так много света между нами. А мы уже хотим расходиться, как будто желанья нет. Б.
Из записей ноября 1929
Первое свидание (когда она была в голубом халатике).
Как сладко было чувствовать ее голову на плече и ее маленькую жесткую ручку. Так сладко бывает только добродетельным людям, которые обычно ничего себе не позволяют. И как будто все сговорились — Закович не пришел, Дина ушла…
Вчера с утра рвался куда-то. День был высокий-высокий, облачно-свежий. Если так, то все да! Вышло все, потому что самое трудное кажется нетрудным. А как трудно даже самое малое в плохие дни. Переписал 450 страниц — целые несколько миров.
Газ шипит, часы стучат, перо скрипит, папа вздыхает во сне. Горло побаливает, но мало. Есть несколько новых книг в уме и в сердце, нужно все это написать напечатать продать. И еще о лучших книгах думать (метафизических). Ничего, a va[80].
Произошло несколько событий: статья Адамовича (какая подлая) и вот это рождение позавчера.
Фотографии замечательные: Дина — Ангелина, она вся заря и неподвижность. А я и Ида — люди и даже демоны, так как хотя не умеем и не хотим жить, нам ничего не больно.
Когда ехали в автомобиле, не находил слов. Потом стеснялся, ронял монокль, но с твердостью пил. Потом Циля заиграла, и все опечалились. Я заревел, как белуга, ревел и смеялся. Дина и Ида тоже заплакали. Потом мы в Куполе целовались и объяснялись в любви, и все в дыму (но без невроза, потому-то и сладко мне), опять ревели. Говорили о том, что не хотим жить, ну словом так, как в хороших ненаписанных романах. В такси я страшно икал, а на следующий день умирал за это от стыда.
Дина снималась в фотоматоне. Были в Сорбонне, много и хорошо говорили о живописи и тайнах простых лиц. Шел страшный дождь. Потом мне стало дурно, а Дина меня гладила и утешала дома. Трудно сегодня даже думать о работе, а ведь надо.
Кокаин.
Кокаин.
Странные, странные дни. «Морелла» сидит напротив меня и спрашивает Раю о китайских событиях. Милая милая Морелла. Черный орленок, что делаешь ты на белых-белых голубятнях?
18 ноября 1929
Завтра 2 недели, как я в Париже. Настроение неважное. Виной тому — отсутствие работы, и Ида, и Дина.
Что они себе думают? Чем закончится Динино поведение? Неужели ей Борис нравится? Я на него не могу даже смотреть. Постараюсь говорить с ним. Навряд ли удастся. Эх! Найти бы работу, а потом устроила бы все по-моему.
Я это сделаю, непременно сделаю. Не знаю, за что взяться. Настроение кошмарное. Ах, найти бы работу, тогда бы все устроилось.
Ида и Дина очень добрые, но они себя совсем не жалеют. Недаром говорили, что Париж всех портит. Оно так и есть. Какой ужас! Вот она любила Мишу, потом не знаю кого, затем Б. П., а теперь, наверное, есть кто-нибудь другой.
Ц. считается женой Пр., а любит какого-то Мамченко. Валериан оставляет Раису и мечтает о какой-то Катяше. Брр, холодно делается от всей этой путаницы. Это значит свобода любви или что? Ничего не понимаю, можно с ума сойти от всей этой путаницы. Смотри, Бетя, не попади в этот круг. Горе мне, коль попаду, — не выкручусь. Лучше всего, буду остерегаться.
Среда ночью. Без даты
Я пользуюсь тем, что у нас дома еще не спят, чтобы переписать тебе «Мореллу», а также чтобы еще раз сказать о том, об чем не смею говорить с тобою при встречах, о том, как я тебя люблю и как мне радостно и странно тебя видеть. Ведь ты для меня сделалась совсем другая, новая, загадочная, и вместе с тем такая знакомая, родная, как маленькая моя сестра. Ах, в этой истории действительно много от Эдгара По. Так же, как у него, мы «воспитывались» вместе и никогда не думали о том, что что-нибудь может быть между нами. Так же теперь, когда я люблю тебя, к твоему новому дорогому, неведомому лицу прибавляется то давно знакомое милое близкое родное лицо моей маленькой нежной сестры, этой Иды, с которой мы варили алхимические супы на rue Gnral Bizot. Пойми меня, Морелла, милая, так страшно странно все это, и глубоко, и мило, мило бесконечно, несмотря на то, что ты не любишь меня и смеешься, вероятно, часто надо мной, над моей бедностью, над моим уродством, над моей любовью и над моими стихами. Спи, дорога моя доблестная девочка. Я написал свою вторую «Мореллу» о том, что я называю твоей доблестью, незабвенной решимостью твоего дорогого, неподвижного, серьезного лица. Неужели ты никогда не вернешься ко мне настолько, чтобы я перестал так страшно тебя бояться и смог рассказать тебе о том, какою я тебя вижу где-то высоко-высоко и далеко за снегами и дождями жизни, в неподвижном и нежном сиянии какой-то прямо-таки неземной доблести.
- Пойте доблесть Мореллы, герои, ушедшие в море,
- Это девочка-вечность расправила крылья орла,
- И врывались метели, и звезды носились в соборе,
- Звезды звали Мореллу, не зная, что ты умерла.
Ах, как у меня рука дрожит от этих аппаратов. Но ведь ты там была, ах какое счастье для меня быть там, где ты, хоть я не знаю другого счастья: прекрасно, вероятно, смотреть тебе в глаза, бледно-серые, прекрасно неподвижные, когда ты серьезна, как то высокое, нестерпимо прекрасное бледное исландское небо, об котором мы давеча говорили. Прощай, Морелла, я почему-то всегда говорю тебе прощай, а не до свидания, так мало я надеюсь вскоре опять тебя увидеть. Боже мой, когда же настанет тот час, когда ты, наконец, поймешь, как глубоко и серьезно я тебя люблю, и еще раз взвесишь и выберешь между двумя «большими» любовями. А не между любовью и «истерикой», ибо какая же здесь истерика, когда человек ясно, как Божий день, понял, что все до того было ерундой и декорацией, а вот теперь его час настал любить, и что проигрывает он этот час. А что внезапно пришел «этот час» — не внезапно, а годами предчувствуя, просыпаясь и почти засыпая, чтобы наконец проснуться и понять, что вот это и есть то, об чем грезил, об чем грустил, об чем всегда писал.
Прощай, Морелла — девочка-вечность.
Скучно пишут те, кто любят, — кажется тем, кого не любят. Я очень люблю тебя, спи спокойно. Христос с тобою.
P.S. Киса, я завтра лучше перепишу тебе Мореллу, а то сегодня больно некрасиво выходит, так рука дрожит из-за аппаратиков[81].
Четверг, 28 ноября 1929
Боролась со шкафами. Устала. Дышу отрывисто и смешно. Дина за что-то на меня сердится. Я продолжаю для нее оставаться такой же легкомысленной девчонкой, како она меня всегда считала. Напрасно в кафе я была с ней так искренна и показала ей всю тяжесть моего состояния. Ведь я ждала морального облегчения от нее, а она не поняла. Уговаривала пойти к Поплавскому. Неужели она не видит, как Карский гибнет: «Вы мое счастье и несчастье». Нет, я не уйду. Я останусь с ним. Но ужас в том, что я не погибну, а он погибнет. А если я уйду, он не погибнет? Достаточно ли одной жалости, сможет ли она поддержать ту радость, тот свет, который озарил и изменил его? Что делать?
Ночь. Без даты
Я вернулся домой в каком-то отчаянии, и вот зачем-то пишу тебе, хотя от этого мне может быть только еще хуже. Но, вероятно, нищим еще больнее терять их копейки, чем богачам — их миллионы. Ведь я теперь живу среди ночи только каким-то загадочным неясным свечением неба, но вот бывают в твоем голосе такие интонации, от которых боль переливается через край, и все буквально тонет и гаснет в ней. Зачем, Ида, ты так говоришь со мной, ведь ты уже знаешь, каково мне, и что я так живу в последней безнадежности, где-то на дне, не знаю, где. Как-то ведь все переменилось во мне, когда я заметил один твой совсем нездешний ангельский взгляд. Когда ты смотрела, как Сережа ищет что-то на полочке, по слепоте своей низко-низко по ней поводя носом, то действительно был тогда милый-милый, и даже во мне что-то к нему переменилось. Ведь я теперь все меньше и меньше жду чего-то, но все больше и глубже люблю тебя. Ведь ты никогда не придешь ко мне. Ах, мне действительно очень-очень плохо, и зачем ты все-таки так со мной говоришь, ведь нехорошо это… Прощай, Ида, ненаглядная моя Морелла, я стараюсь не видеть тебя и прихожу только тогда, когда все действительно через край, когда я уже и не знаю, как день пережить, вечер дожить… Ида, я действительно прошу у тебя, не будь так груба со мной, хотя бы внешне, ибо действительно никогда, никогда в жизни не было мне так тяжело, и я просто не знаю еще, не понимаю, что это такое.
Борис
Я живу теперь только какими-то таинственными отблесками и отражениями, я доволен этим, я буду любить тебя много лет, не обижай меня, Ида, не обижай. Господи Боже, ну как мне объяснить тебе, что этого прямо-таки нельзя теперь делать, нельзя отбирать копейки у нищих, у совсем-совсем побитых, «униженных и оскорбленных».
Из записей декабря 1929
Сегодня первый раз проснулся с именем Мореллы на устах и так радостно о ней думал. Две недели, месяц — прошли как миг, все собралось в одно воспоминание.
Слез больше нет, но светлая любовь вокруг, как зимнее утро.
Оставил их с Сережей, почти не вижу. Гуляю опять по Елисейским полям в высоком золоте решимости. Но когда она обе руки над моими плечами протянула, какое это было счастье, и это легкое пожатье, которое так осветило возвращение домой. «Мне так страшно с тобою встречаться, но страшнее тебя не встречать».
Четыре «сладкие дня» с Диной, но любовь глубже и тоньше за этим всем. Ах, как все-таки я плакал в субботу. И как краска ресниц мироздания тает в слезах. И ничего не замечал. Кто-то приходил, уходил, пил, тушил свет, утешал меня. Но никого не было. Только ты, ты Морелла, одна, дорогая, прекрасная. Как красивы все-таки те, кто любим, прямо на небе они. И сколько слез, слез, слез. Дина все-таки благородный ребенок. И как нежно они обнимались, «снежные сестры».
Вчера день мило пропал. Только совсем ночью были попытки медитации и страшные астральные сны перед сном. А то все боялся я, что метафизически погас.
Носик я ручке помял, когда в будке с Оцупом по телефону говорил. Сегодня, когда не хотел дать Дине картины в St Marcel, понял, как ее люблю. Грустил и сумерничал целый день у Терешковича. Он за ней ухаживает, и это мне льстит. Отбился от работы, вчера медитации не было, сейчас попытаюсь.
Вчера дикий скандал с Идой, медитации не было. Позавчера медитация, чудный вечер — рождение Дины. Флиртовал с Бетти, щипал и целовал Иду, она исчезла из сердца.
В четверг медитация плохая после бессонной ночи. Разговор с Борисом Заковичем у Htel de Ville о Дине. А за два дня до этого, в прошлый вторник, — огромный разговор с Идой, во время которого понял, что ее для меня не существует.
Закович и Ладя уходят в синема, а я отмываю ручку Заковича, с которой вовсе стерты иридиевые наконечники, но за которую эта гнусная личность требует 25 fr., руки все в чернилах. Жду Дину, которая вдруг стала интересоваться Терешковичем и целоваться с ним, когда мы уже совсем решили повенчаться. Так все в жизни расстраивается из-за пустяков.
Большой разговор с нежностями на моих коленях, как тогда на rue de Seine, когда играла флейта. Слезы, когда ели шоколадные конфеты, — из-за Терешковича.
Опять, может быть, люблю, но все время ссоры.
Говорил Заковичу в заснеженном Jardin des Plantes: ведь я еще ничего не сделал. А сегодня: Безобразов будет только пробой пера « l'uvre»[82].
Почти не работал, нежность душит. Снежно.
Позавчера странный сон, Дина в зеленом платье. А вчера Дина — мраморная статуя, которую надо оживить поцелуями. Пишу опять новым стило, она подарила, а я ей свое с новым пером.
Среда 18 декабря 1929