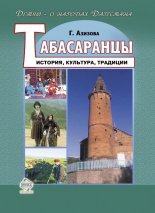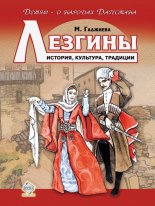Перехваченные письма. Роман-коллаж Вишневский Анатолий
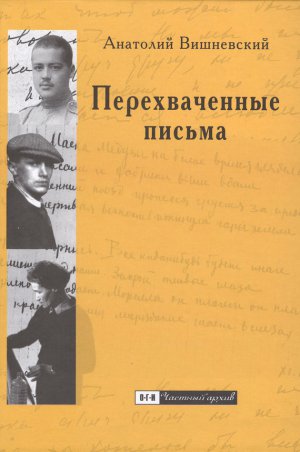
Играли в стрелу у Карских и нежно и несколько надорвано еблись у них на верхнем этаже при открытой двери. Затем тоска и отскребывание засперменных брюк. Поздно вечером нежность — и безумно трогательные отношения, кажется, опять любовь. Перекрестил ей лоб, грудь и руку.
Обязательно письмо Татьяне.
Мама ушла. Дина остается — милая. Надо бы поработать еще.
Солнце закатывается совсем.
Примечание Осветителя. Наклеен клочок русской газеты с вырезанным куском. Оставшийся текст: «Эпоха „непризнанных гениев“ и „прекрасных безумцев“ миновала. В публике — и даже не только в публике — есть твердое убеждение: всякий талантли-… [далее вырезано, затем:] …Конечно, биографии великих людей известны и выпускаются в свет в настоящее время особенно часто. Известно, что величайший математический гений истекшего столетия Абель умер от голода и неудач…» Приписка: «Это обо мне. Вот дура милая».
Страшная сонливость. Засыпаю по пять раз в день. Плохие, но чрезвычайно волевые медитации. Иногда боль в голове, все там же. Сегодня франко-рюс[94], не хочется, но пойду и буду говорить. Дина очень близка.
Вчера объяснение со «Службой», смысл которого в том, что прошлое неотменимо и что вполне стоит три месяца встречаться и скучать, чтоб в результате три минуты было хорошо, — стихи неизвестного достоинства.
Беспорядок в жизни — остаток прохождения «Службы». Но появляется солнце и некие глубоко метафизические часы, когда так много счастья и свободы, что, кажется, мне бы написать все книги, все стихи и даже все картины мира. О счастье, близко лето, когда все дела уедут и можно будет так много работать и потеть на солнце, и опять на природу поеду, хотя страшно — не разучился ли ее понимать.
- В мавзолее из черного камня
- Посредине огромного зала
- Будет сниться века и века мне,
- Как в слезах ты меня целовала.
- Я боль люблю. Я полюблю.
- Я погибаю и люблю.
- Я пароход ушедший в море,
- Я капитан, грустящий в нем,
- Я синее сиянье с моря,
- Я буря в мире роковом.
- Прости меня, пойми с полслова,
- Погибнет все вернется слово,
- И снова скажут это слово,
- Любимое повторят снова.
- Но вот мечта: в последний час,
- Смеркаясь в бездне голубой,
- Твое лицо в последний раз
- Хочу увидеть пред собой.
- Не синее сиянье звезд,
- Не музыку, не гор громады,
- Твое лицо и белый крест —
- И больше ничего не надо.
Глава 5
ПОШЕЛ ПО ВОЗДУХУ
Из записей мая-июня 1930
Был небольшой бал. После хорошего в общем дня сперва я держал себя страшно чинно и благородно, потом, увлекшись стрелой, перессорился с Дряхловым из-за трех франков до слез. На рассвете возвращался изможденный и грустный и тоже все хотел плакать; хотя хорошо плакать.
Настало мое идеальное время. Нужно будет осуществить золотую жизнь. Радует комната и книги. Все в общем в порядке, с христианской точки зрения, а без нее — мрак и боль ужасная. Совесть вообще стала меня дико грызть.
Май кончается, а уж настроение совсем летнее. Хочется ходить целыми днями, полным сомнений, храбрости и жалости. Читаю немного о древности и прямо восторгаюсь. Много теряю времени на прогулки с Заковичем, который мне очень мешает, да и сейчас он здесь сидит и, посвистывая, читает Последние Новости.
С Диной вчера опять отвратительные нежности и ссора, а был такой изумительный, сияющий вечер, и где-то все теплело и дышало. Хочется работать, но скоро надо будет идти на «Службу» и купить ту изумительную книгу рукописную.
Руки грязны, морда небрита, и грязна, и желта, узкоплечесть, грязная рубашка, босой совсем — ботинки развалились, но здоровье ничего, сердце будто исчезло, на аппаратах всех побиваю легко.
Вчера спал до трех, потом читал и, получив письмо от «Службы», с облегчением пошел к Дине, с которой было отвратительно. В страшном утомлении, прямо-таки в изнурении ехали домой с Ладей в коричневом трамвае, где я, увы, потерял полтинник. Оборвался я страшно, каждую минуту готов с кем-нибудь драться.
Голова немного болит, до того ужасная тоска и опустошение от утреннего путешествия с Заковичем. Не могу даже писать. Уже 5 часов, и ничего еще не сделано. А в 8 надо быть на «Службе». Кстати, чудно я вдруг стал к ней относиться, могу с ней поговорить о религии. Милая, обижается, прислала pneu: «Я совсем потерялась».
Вчера целый день прибирал, рвал и расставлял, потом тоска, пустота в душе и усталость. Какая длинная жизнь между этими четырьмя стенами или, вернее, двумя, ибо левая — окно, а правая — кухня. Был вечером у Дины довольно рао. Чудный разговор (добрый) перед оранжево-фиолетовым небом. Изумительная медитация во время возвращения в страшном утомлении. Решил вести правдивый дневник религиозной жизни.
А позавчера — March aux puces, унижение, раздражение. Затем обед у Дины, белый закат, стихи и огромный разговор с Диной о сумасшествии и оккультных науках. О невозможности одновременно еть и заниматься медитациями, о разрыве в мозгу, о головных болях, о страшной судьбе. Затем простили друг друга и плакали.
Работаю мало, но медитирую. Сегодня буду читать Шеллинга и писать сюрреалистические стихи или наоборот.
Всеволод переодевает рубашку. Опять беспокоится о будущем в нищете. Старая истина. За себя страха нет, так за свое добро страх гложет.
Болит нога при ходьбе и распухла — вот горе. Чудный солнечный день. Обязательно пойду гулять, хотя бы калекой останусь.
Вчера чудный день. Утром стихи, затем гулял с Блюмом и один — грязный, со страшной болью в ноге, но дивно медитировал, и все было все равно. Потом читал Гюисманса и был у Дины, вели себя осторожно и потом разговаривали до головной боли страшно мистично.
«Но я в тебе не нуждаюсь. Мне нужен только Поэт, а не ты». Опасные слова: «ты мне не нужен».
Ночевал у Блюма из-за страшной боли в ноге — растянул связку. Ночью во сне еб, вопил и спускал. До того голый до пояса смотрелся в зеркало. Фигура стала прямо акробатической. Но в пиджаке, особенно в синем, по-прежнему жалкий слабый вид.
Сегодня мое рождение. День солнечный, жаркий. Дина подарила Заратустру по-немецки, мама — 19 fr., а Ладя подушил меня зверобойными духами.
Может быть, самое светлое рождение в жизни. Сейчас буду читать Шеллинга, которого читал вчера с трудом, но толково, 20 страниц в два часа. Медитировал духовно, но без блеска. К ночи дико, дико устал, еле шел, и все болело от усталости. Ногу забинтовал, и легче.
Безумно грустная прогулка с Заковичем в Люксембурге, где рядом сидела милая какая-то с больным англосаксонским лицом. Пойду сегодня нарочно, не придет ли? Говорил — специально, чтоб она слышала, — о таинственных вещах.
Раскаленные дни. Все время клонит ко сну — и вроде бессонницы. Дикая усталость часам к 8. Прекрасная работа, хотя без внешних результатов. Медитация вчера на Champs-Elyses. Было мистически необходимо трижды перекреститься — при всех не смог, перекрестился только один раз и то как-то иронически.
Красивый был закат, огромное солнце без облаков и пух, тихо, как снег, летящий в теплом воздухе.
Не спал почти, все ворочался, жопа возле головы, адская тоска и боль в животе, а с утра кашель, слабость и сухость. Буду работать.
Вчера работал первый день после дивной, золотой, но такой тяжелой недели. Ждал ее долго на углу Edgar-Quinet и видел какого-то погибшего человека, который раньше, в 1921 году, бывал в Caf Vavin. Он уже сумасшедший и говорит сам с собой.
На rue de Rennes были такие огромные зарницы.
В воскресенье с утра был страшный ливень. Стоял в подворотне на rue St Jacques и думал о сладости одиночества и безвестности. Были с Диной в Лувре. Вечером — карты и Мережковские, было мило и тяжело. Погибший день.
В субботу с утра дикая работа, вечером медитация со слезами и судорогами. Потом, о ужас, ебся и спускал, потому что занежничались и — в моем переутомлении — не было сил противиться.
Воскресенье. В Тюильри, где очень много раздвинутых пизд, какая-то сорокалетняя женщина всячески кругом ходила, мечтая познакомиться, но я был с Диной. После этого у нас был огромный оккультный разговор о Троице, до головной боли, затем обед.
С Варшавским состязались на аппаратах и толкали ядро — к позору всех мальчишек и отчасти его. Затем играли в карты до трех часов, и все мы с Диной проигрывали.
В пятницу был чудный, неземной день. Работа и открытия в метафизике, до слез, до прямо-таки экстатического состояния. Записал 40 страниц Шеллинга.
С Варшавским и Диной мило разговаривали на St Michel. У Варшавского неудача в любви, и поэтому он стал свободнее и милее. По-прежнему он чудно скромен, приветлив и красив, приятно просто на него смотреть.
В среду работал, читал и писал роман и медитировал, хотя голова уже была слегка на боку. Всю ночь разговаривал и занимал всех. Переживал всеобщую любовь и любовь всех. Проценко даже мне руки целовать собирался. Выпили с Ладинским на «ты». Вот и все. Но в общем чудное, чудное лето, никогда такого не было.
Лето идет так скоро, так скоро. «По дорожке той, которой пеший не пройдет живой», — Ладя поет, надевая туфли.
Разбирал стихи, а вчера целый день книги — по отделам. Книг много хороших, напрасно я сомневался. Но дико устал и палец ободрал. Тосковал, не смог написать никаких стихов. Зато Аполлон Безобразов — ничего себе. Шел мимо голубого собора и плакал, медитируя. Затем шел мимо кожевенных заводов, молился в садике Армии Спасения.
С Диной были в синема. Она была фиолетового цвета, в заколке. Страшная любовь, нежность без конца, хотя настроение решительно против сексуальных авантюр. Читала она мне новых сюрреалистов — прямо до слез. В сущности, никто мне так много добра не сделал и так не окружал меня всегда религиозным настроением. Светлая, светлая девочка, ангел прямо — со всеми недостатками ангелов.
Позавчера спровадил Заковича, которому все еще не могу простить, что он не хотел нам дать на балу десять франков, хотя пропивал нашенские, а сам имел пятьдесят. Рано утром у Карских немного ебся, хотя не спускал, и со скандалом, но милым скандалом.
В общем, не знаю, как сказать, но я Дину обожаю.
Дивные дни, три недели абсолютной работы.
Из записей июля 1930
Я почти целый месяц буду вечера проводить одна. В этом есть какой-то смысл: тоска, думы, прелесть тоски — я это люблю. Мы с Диной все больше и больше расходимся. Я часто хочу подойти и взять ее руку, погладить и сказать: «Диночка, мы обе виноваты». Но когда я подхожу к ней, я начинаю нервничать, мне скучно, а главное, противно. Я ей говорю грубости, она же не менее грубо на это отвечает. Сюсюканье с Борисом. Я знаю, это нехорошо, что я раздражаюсь, но мне это противно. Борис ее не любит, он никого не любит. Оттого, может быть, Дина иногда такая противная. Но я все-таки ее люблю.
Меня многие разлюбили после брака, вернее, никогда не любили. Думаю, что у моря мы с Сережей сблизимся. Мне многое неизвестно.
Уезжаем в St Gilles sur Vie[95] — так, кажется, не уверена. Не радуюсь, хотя из Парижа хотелось уехать. Очень огорчает Дина. Не знаешь, где граница ее физических страданий, а где начало моральных. Боюсь за мою девочку, но когда вижу ее, всегда ссоримся. Поплавский убивает в ней то светлое, за которое я ее так люблю. Она от присутствия Поплавского делается мрачной, грубой, темной и иногда похожа на Раису. Эти дни, что я ходила к ним, я старалась шутить, но когда я выходила, то мне казалось, что сейчас упаду. Тротуары казались наклонными, и я все боялась, что не удержусь на ногах. Сережа тоже страдает, он говорит, что у меня в глазах иногда такое отвращение, когда я смотрю на него, что ему страшно. Мне и здесь, и там страшно. А это ведь самые близкие мне люди.
Тень темная, синяя, теплая лежит над Парижем. Я сказала Сереже, что тень, наверное, трудно было бы написать. Он согласился. Она темная и теплая. У нас тоже было сегодня тепло. Он ушел в салон, а я возьму книгу и буду читать. Кажется, хорошая книга Marivaux.
Сегодня было очень мило. Сережа пришел в 6 часов утра, уселся на моей кровати и (не помню причины) весело смеялись.
Если б Карскому везло в жизни, я ушла бы от него. Мне трудно здесь жить, трудно работать. Мне стыдно об этом писать, но ведь это так. Карскому со мной не легче. Но я трус, я боюь, что если уйду, то будет хуже. Он мне все-таки дорог.
Из записей июля 1930
Гуляю и думаю, дохожу до покоя, до полного самоискупления. Тема: по ту сторону возмездия и наказания. Даже счастье любви есть препятствие, если его искать. Сегодня с утра рассматривал символы Таро.
Сейчас придет Дина и мы будем переписывать стихи для книги. Позавчера работали целый день, только мешали нам. Ладины армяне свалились в дом — хамство. Дина страдала — бедная, святая.
Ничего, главное — раскаянье, мужество, мужество и мужество, молчание. Ужасно страдаю от разговоров — даже с милыми людьми, от карт, от игр. Гордость и величественность. Нужно быть во что бы то ни стало смелым, то есть трагическим.
Был в Последних Новостях и говорил с Ладинским насчет моих страданий о стихах. Потом изумительно интересно гулял среди пассажей около Porte St Martin и по средневековой rue de Venise.
Вчера был тяжелый грозовой день. Но необыкновенное закатное состояние и мужественное смиренное шествие по rue de la Glacire. Светлые остановившиеся облака над 22, rue Barrault. Мужество.
«Святая Ольга — все Ольги именинницы», — говорит папа энергичным голосом, моя посуду, святой человек. С утра была смута и тяжесть в голове. В бане безумно устал. Приятно было идти с Ладей рядом, все принимали за шофера. Потом был в типографии, брал книги, ждал папу, чтобы подарить. Милая Воля России, как я люблю этот задний склад.
Лихорадочно писал роман, безумная нервность, не знаю почему. Все очень-очень высоко, хотя ничего не видно и в переутомлении еле работаю — все не знаю, отдыхать ли. Надо как-то проснуться, а то на вершине какой-то сумрак на меня спускается. Среди солнечного дня все стало темно и рассветно — не нахожу себе метафизического места. Одно знаю, больше радоваться нельзя, нужно страдать и плакать, пока во всем мире останется хотя бы еще один, кто плачет.
Вчера, во вторник, целый день читал и спал в солнечном озере каком-то, видел оккультные и эротические сны. Вечером медитировал упорно, но без блеска, читал Гегеля, ночью гулял с Диной, корил ее за молчание, в конце светло разговорился о Логике, смотрел звезды и молился на улице. «Ты бегаешь по закоулкам». А ты летишь высоко-высоко, как белая птица, qui n'a jamais connu la terre, qui n'a jamais eu de nid[96]. Кто знает, может быть она мне суждена как свидетель и утешитель, а я так долго ни во что ее не ставил. Какое огромное впечатление произвели на нее карты Таро.
В понедельник с утра дождь, светлая прогулка с Заковичем через весь город. Заходили в несколько церквей. Он ищет утешения в религии, светлый мальчик. Боже, сохрани его для себя.
Потом редакция, тревога о Современных Записках. Иванов ругал мои стихи. Шел в закате долго-долго через Sant, было светло и тайно. Ночью Дина меня утешала на Place Monge.
В воскресенье работал у Карских. Стихи, Гегель, серый свежий день. Ебля, но без спуска. Все же очень высокие дни. Мило ссорились с Диной на Port-Royal.
Суббота, с утра дождь и солнце. Высокие разговоры с Заковичем о Боге, о поисках устремления силы в Боге. Пешком в Кламар. Жалость и дружба Андреева ко мне, светлая семейная атмосфера.
Дома скандал с Диной. Полетел к ней за тетрадками, она меня дико била по лицу, затем ругались, плакали, я просил прощения. Были в кинематографе, ели mille-feuilles[97] и видели возбудительнейшую широкопиздую красавицу.
В пятницу работал. Был на докладе Вейдле, не имел успеха, но познакомился с Берберовой. Красивая и милая, золотая бабочка на розовой кофточке. Все они дураки.
После высокой туманной недели, когда все было за облаками и я не находил себе метафизического места, теперь новая неделя в огромных темных иллюминациях, хотя и без серьезной работы. Только читаю, но много, хотя все чепуху. Черные, потому что никто не имеет права радоваться до конца мира, а наоборот, вся задача в том, чтобы углубляться, ввинчиваться в сознание боли Христовой и в ответственность за все.
Сегодня у меня страх. Прочел тяжелую и правильную книгу «У фонаря», подумал, что где-то в глубине, в России, среди большевиков может быть высокая религиозная атмосфера.
Дина близка и, пожалуй, сладка даже. Хотя зря у нас такие фамильярные отношения.
Вчера ссорился с Диной. Высоко медитировал на улице глубокой ночью — решил, что ни с кем не будет ебли.
После Оцупа, который не хочет для №2 моей требухи, высоко медитировал около метро St Jacques. Потом под дождем, один играл в стрелу. Мило ссорились с Диной. Я сказал ей, что считаю себя святым, но отрицал осень и уход.
В воскресенье 27-го работал и медитировал вечером — все у Карских.
25 июля 1930
Я уже давно тебе писала, как меня удручает наша неприятная соседка по квартире. Трудно перечислить всю ту массу мелких гадостей, которые она каждый день нам устраивает, и все эти мелкие дрязги ужасно меня угнетают. Я еще не встречала в жизни человека, который бы так сильно меня ненавидел. Бывали антипатичные люди, но все это было шутками в сравнении с этой женщиной. Единственное утешение, если это вообще может считаться утешением, — это сознание того, что все вокруг живущие в нашем квартале ее ненавидят, и она всех ненавидит и почти со всеми ругается, но жить с таким экземпляром в одной квартире приходится нам, и поэтому наше положение хуже всех. Да еще сын этой женщины, 14-летний мальчик, дразнит нашу девочку, пугает ее, строит гадкие непристойные рожи, и бедная крошка под впечатлением их с плачем просыпается по ночам.
Сегодня своими ушами, которые, как говорит Ники, слишком далеко все слышат, я слыхала, что она мечтает нас выселить из нашей квартирки; она это говорила своему брату, прибавляя очень нелестные эпитеты. Но брат ее порядочный человек и плохо на ее слова реагировал. Я так жду от тебя письма, и вообще по временам у нас бывает такое чувство, что нас все забыли. Ты не можешь себе представить, как бы нам хотелось выбраться отсюда и переехать в Москву.
Из записей августа 1930
Страшный пустой день. Обнаружил в зубе огромную дырку — совсем инвалид. Спал много днем, а сейчас слаб, грязен, небрит, ботинки не завязаны. Читал свои тетради — сколько боли. Сомневаюсь теперь в своих философских способностях.
Папа спит, добрый, добрый. Сейчас будет шесть часов, и мы с Диной пойдем к ней. Она добра опять сегодня со мной, что большое счастье для меня, ибо я слаб и разбит. Только стихи меня радуют и Аполлон Безобразов. И вообще все напечатанное — это защита от самопрезрения.
Вчера не работал. Утром, в нелепом счастье, выпятив грудь со слабым сердцем, укатил в Кашан, одевшись в нищее платье, безумно тосковал там.
Толкали ядро с Варшавским, причем я его побил. Пытался разговаривать с Дряхловым, но слова буквально не действовали. Возвращаясь, думал в трамвае о времени, когда сойду с ума.
Поссорился с Диной, потом тяжелые разговоры и раскаянья. Думал все-таки употребить, но не встал. Пытался немного медитировать, но почти не мог.
Позавчера с утра написал стихотворение. Потом днем спал до пяти, вечером писал «О Молитве» и медитировал очень высоко.
Все лежат, а мы с тобой, Мимишка, сидим работаем, давай и мы немного полежим.
Свеча тает и коптит. Всеволод философствует в кровати о том, что нужно ехать на море, море отвлекает и производит странные операции.
Чудная лунная, свежая, теплая ночь. Днем билось сердце. Мы с Диной переписываем стихи, думаю об успехе и готовлюсь к ругательствам. Разбирал коробку с реликвиями, подарил ей почти все. Милая, больная, родная, слабая, нежная, святая, никогда, никогда, никогда мы не расстанемся.
Светлое лето. Ищу название для книги, оно должно было бы говорить ожалости и бесконечном: «Солнце судьбы», «Ангелы ада»…
Вчера думал: «Такой труд, легче деньги зарабатывать». Страшная тоска была вчера, но все же медитация, как в четверг, хотя в четверг день почти пропал, да и совсем весь пропал. Шел вдоль Halles aux vins[98], видел странный паровоз посередине бульвара, молился. Вчера сомневался во всем.
Вытащил Дину в синема для мальчишек, кончилось ужасной сценой до 2 1/2 со слезами, дракой, оторванными пуговицами. Безумно корили друг друга, но и безумно любили. Светлый, светлый человек Дина, чистый небесный. Я так люблю ее.
Дивный день. На столе суп с рисом и сахаром. Брюки с рванинностью, ботинки с March.
Только что медитировал. Нужно быть тверже, суровее, мрачнее, неуклоннее. Нужно быть протестантом в черном с суровым лицом. Нужно плакать, работать и совершенно по-особенному воспринимать солнечные дни.
Решил отказаться от жалости и любить Дину всегда, ибо если можно это сделать, почему же нет. Тяжело и светло впереди.
Жара, окна в пекло, сизое, горячее небо. Не молился три дня, слабость, припадки бешенства, вчера разбил стол. Мучился из-за стихов. Без медитаций жить невозможно.
Из записей сентября 1930
В St Gilles было очень хорошо. В Париже снова плохо.
Худые бледные девочки. Дина в упадочном состоянии. Я сама тупая, почти глупая. Снова похудевший и враждебно ко мне относящийся Сережа. Мне скучно с людьми, которые приходят к нам. Ни я, ни Сережа не работаем. Один другого нисколько не подталкивает, а скорее раздражает. Я думаю, что я Сережу тоже раздражаю. Нужно его освободить, ему тяжело. Я сама, когда с ним, мрачнею. Котляр и Юлик смущают меня. Они любят Сережу, ко мне они очень холодно относятся.
Мне никогда в жизни не «везло». Но теперь творится что-то необычайное, почти со дня замужества. Почва ускользает из-под ног. Вечные мысли и разговоры о деньгах. Отход Дины, неудачи на факультете, чувство усталости и постоянной слабости. Еще один учебный год пропадает. Нужно бросить медицину, это меня мучает.
Из записей сентября 1930[99]
Надо уехать: болен, слабость, вчера и позавчера 39°. Читаю до одурения географические книги. Дина меня нежно лечит, чистая она необычайно, лицо какое-то фарфоровое и безгрешное.
Ровно с прошлого воскресенья никакой работы — сперва из-за переутомления, затем из-за дикой страшной ебли три дня подряд, затем из-за бала и болезни. Бал был тусклый, только под утро, совсем больной, разговаривал с Дряхловым, скитаясь в изнеможении по зоревым улицам, об «Обществе святых последнего часа». Нашел в нем отзвук, но после этого опять ебля.
Одного я еще не научился — работать без иллюминаций, между ними, в страшное серое время.
Дина уезжала, нес ее чемодан в лунном тумане, делая им гимнастику. Милая, светлая, не ссорились и не употреблялись.
А вчера — дикая ссора в лесу, когда она ушла неизвестно куда. Потом, по дороге, где я ее побил, она простила, зная. Потом темно употребились, но она страшно против. Это хорошо.
В среду 17-го с утра собрался. Взял миллион книг. Гулял до 4 в безумной сутолоке и шуме, был в Notre-Dame-de-Lorette, где видел педерастов. С адским чемоданом, беспорядочно попрощавшись, отправился на вокзал. Ехал радостно, видел распятие на холме, все время смотрел в окно, дико трудился с каменным чемоданом.
В четверг утром гулял по болоту, переходил в брод реку, устал, читал, обедал. Истинно деревенская, помещичья, а не дачная жизнь. Молился 1/2 часа.
В пятницу на рассвете вышел к болоту, потом убирал дрова и писал стихи. Ходил в соседнюю деревню за маслом по белой дороге, неся свою боль. Кормил кур. Читал. Молился 1/2 часа.
В субботу 20-го молился хорошо, плакал, читал, писал стихи, ходил в лес, где вымок.
В понедельник был в лесу, молился хорошо под соснами на хвое под белым солнцем. Прочел 100 страниц Джойса. Вечером думал о необходимости логических занятий. Святой день.
Молился, у плотины в шезлонге смотрел на закат, писал стихи. Ночью сладострастные сны.
Приехал, дико устав от адских чемоданов. Улицы дико измучили. Молился рано утром до поезда.
Плакал в Coupole за столиком, вымаливая у Оцупа свои кровные деньги. Адамович и Варшавский продолжали шутить и веселиться. Впрочем, Адамович дал потом 20 fr. и 10 Оцупу, который передал их мне вместе со своими пятью. Нужно будет все мобилизовать, все дела, какие возможно. Тяжко от этого.
Вчера еб, третьего дня ibid[100]. Но все же молился аккуратно, хотя часто почти не работал, не очень мистическое время. Дико меня хвалили сперва, сегодня Вейдле ругал. Какая-то постоянная напряженность, безумное беспокойство, никакой надежды, страшно, мучительно жить.
18 октября 1930
Дорогая моя мама,
Вот я теперь поправилась и снова принялась за уроки, в которых во время болезни меня заменял Ники. У него тоже сейчас есть работа — планы, и мы стали немножко зарабатывать, но жизнь настолько дорога, что не хватает. Весь мой заработок (а у меня сейчас 8 учеников) уходит полностью на одно молоко детям, а ведь кроме молока так много и других расходов. Мимочка растет не по дням, а по часам, надо сшить ему что-нибудь тепленькое на зиму, хотим употребить на это твою хорошую юбку, которую ты мне подарила.
Последние дни мне было как-то ужасно тоскливо. Ты, наверное, себе не представляешь, как сильно я стосковалась по тебе, а вместе с тем, какая возможность нам увидеться? Я сегодня ходила в Административный отдел и там наводила справки. Мне сказали, что нужно подать заявление и одновременно с этим внести деньги за паспорта. Деньги такие большие, с каждого по 330 рублей — значит 660 за двоих. С детей — ничего. Еще, кроме этого, нужно получить визу из твоей страны. Вот при наличии всего этого можно начать хлопотать, но не раньше, так как анкеты (заявления) подаются одновременно с деньгами.
Из записей октября 1930
Опять мучение, сутолока, ссора с Диной из-за страха нищеты.
Клялись на кресте, что больше не будем еться. А то пропадай все. Ее гибель для меня тьма и смерть.
Пил, танцевал со стуком в сердце. Бесконечно разговаривал под дождем. Спал почти в мокрой одежде. Клеил обои. Был в Лувре с Блюмом (один у меня друг).
Вчера проснулся в час. Был у Нелидовой и в Возрождении, безумно устал. Заснул, ожидаючи, у Дины и со сна был страшно груб. Она на коленях просила остаться.
Во вторник 28-го молился у Дины и писал утром. Весь день шел дождь. Вечером мучился от похвал в Союзе.
В воскресенье весь день метался по городу. Был у Карских, у Дины и у Андреевых, там было мило до крайности, еще потом у Минчина — взял три картины. Шаршун в своем нищем курятнике. Дина — золото милое.
Теперь ночь, болят зубы.
Хорошо, что молился утром хотя бы. Спать. Смириться судьбе. Войти в иной, золотой тон.
Из записей ноября 1930
Теперь Сережа — солдат. В первый день по уходе я сильно скучала. Должно быть все-таки успела привыкнуть. Очень хорошо отношусь к Сереженьке. И сейчас еще скучаю.
Многое было. Споры из-за живописи и многое другое. Все время с отхода Сережи в солдаты работала. Котляр стал лучше ко мне относиться. История с Проценками и Дряхловым — смешна. Раиса, должно быть, ревнует меня к Валерьяну. С моей стороны к Валерьяну ничего нет, а Валерьян всегда относился хорошо ко мне. Он, кода меня видел, просто больше говорил обо мне, и это все.
Карский не хотел бы, чтобы я работала с некоторыми людьми, а именно: Валерьяном, Шатцманом, Борисом… и еще некоторыми (имена он не называл). Он говорит, что здесь не ревность, а просто боязнь, что у меня останется слишком мало времени для него, так как буду беседовать с ними и после работы. Он прав, конечно, но ведь это почти единственные люди, которых я знаю и которые меня интересуют. Правда и то, что он ведь не запрещает мне встречаться с ними.
Поплавский не написал посвящение над Мореллой, может быть ему стыдно за прошлое, а может быть не желает, чтоб знали, что эти стихи каким-то образом мною вызваны, такой непрезентабельной барышней.
Из записей декабря 1930
Вот перед тобою твои анналы, чтобы в такие черные недели воззреться на столькие месяцы беспрерывной работы. Иллюминации перемежаются, между их удивительными днями многие дни серого религиозного неба, когда ничто не подхватывает усилия, когда спор движется во враждебной и заглушающей среде. Почему так? Потому что иллюминация приходит как страшное потрясение, разрешающееся в глубоком переутомлении, звоне в ушах и слабости. Две вещи следует изо всех сил экономизировать в безиллюминаторное время: нервные силы и устремленность, которая вдруг как бы взрывается в иллюминацию.
Воззрись на эту ужасную темную неделю. Что мешало тебе? Усталость и страх, ужасный страх зубов, неудачи, нищеты. Но все же ты каждый день работал.
Медитации, бессонная ночь с Булатовичем в кафе, тоска в Кашане. Интересный момент был в Кашане. Дряхлов и Ида лежали на кровати, мы ее, шутя, удерживали. Бедная Ида. Муж — скучный солдат, ножки в желваках, жизнь ее кончается. О Морелла, вернись, как ужасны орлиные жизни.
Но как же этот месяц прошел? В делах: университет, деньги, статьи для мерзавца Оцупа. В страхе. Но в небывалом напоре еще как бы сдвинулось что-то, и свобода мелькнула. Несколько незабвенных медитаций, казавшихся откровениями. Слезы градом, удары в грудь, чуть не судороги.
Рваться сквозь зиму. Медитации каждый день, иногда низкие, на улице, но с мучением и с осмысленностью абсолютного решения. Какие-то откровения, рождающиеся на границе души, иногда до ужаса. Как тогда в Ротонде, когда я крестился на виду у всех, а Булатович и Браславский делали вид, что не замечают. Новые замечательные знакомые. Булатович, Федотов, Артур Адамов — человек огромной мистической одаренности.
Унижение сердца, смирение и печаль, постоянный страх, упадок сил, слюна во рту, звон в ушах, стук в сердце. Дивное это русское слово надрыв. Как будто надрывается что-то (прошлая жизнь — грех), как будто с разрыванием отрывается душа от чего-то наполовину.
Как быстро время летит! Боже мой, как все прошло неуследимо, неповторимо. Борюсь со страхом, увещеваю и уговариваю себя, по существу, боюсь всего. Всечасно чувство тяжести за плечами.
Дела идут все же. Вчера был у Ремизова, чудное светлое посещение, на прощание Ремизов руку пожал, я думал легко, как мышка, — нет твердо, чуть ли не как атлет. Князь Ширинский-Шахматов[101] заказал мне национальный гимн, были Болдырев и Варшавский, горели лампады, и было тепло сердцу. Говорили о многом.
Этой тетради конец. Не о том она немного, не смелая она и не краткая.
Так год прошел — светло и трудно. Сколько было труда, сколько труда. Иллюминации были и есть — подготовленные, наконец достигнутые, сменяемые глубоким мраком. Дивный прошел год, самый высокий из моих годов, хотя написано, сделано мало. Зато решение какое-то пришло.
Елка была у Дины. Смотрели на свечки до слез за преферансом. Нужно быть милее Дине, слабее, не прятаться.
Мучение дел поослабло, последняя мука — Современные Записки и обложка.
Надоела эта тетрадка. Всегда надо рождаться вновь, отрываться, умирать к прошлой, не той жизни. Так и теперь: все начинается сначала. Радость трудная, золотая, разрыв со страхом. Совсем по-другому предполагается жить: в сплошной волевой иллюминации, высоко над страхом. Что достигнуто? Кончено с полом. Забыл о сердце, о болезнях. Вернулся на гору. Пошел по воздуху.
ЧАСТЬ IV
УЗЛЫ И РАЗВЯЗКИ
Глава 1
ПЕРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Из писем мая — июня 1931
Пермь
У нас наступила чудная погода и мы пользуемся ею вовсю. В полдень, окончив разные скучные дела, я забираю детей, и мы отправляемся на Егошиху. Но теперь, что у меня дети уже стали большие, мы не ограничиваемся, как в прошлом году, небольшим леском на солдатском кладбище, мы переходим речку Егошиху и поднимаемся на крутую высокую гору за ней, гора эта примерно равняется высоте десятиэтажного дома. Достигнув вершины ее, я в изнеможении бросаюсь на землю и провожу так несколько прекрасных часов. Дети резвятся и играют, воздух чистый, пенье птиц и отсутствие знакомых — все это действует так успокоительно и приятно! Лежа под палящими лучами солнца, не хочется думать о разных неприятностях и волнениях, и все мрачное как-то уходит на задний план. Мы приносим с собой что-нибудь поесть и бутылочку с водой и возвращаемся домой, когда тени начинают удлиняться. Дома едим что-нибудь вроде обеда, а потом, если нет урока, а если есть, то после него, снова отправляемся в путь, на этот раз идем бродить по кладбищам, навещая могилы знакомых.
На днях я получила длинное письмо от бабушки. Она в нем пишет о том, что Ика совершенно от них отошла, делаю тебе выписку из ее письма.
«Ты спрашиваешь про Ику? Она так изменилась, что грустно мне про нее говорить. Давно думала тебе написать, да не хватало духа. Она продолжает с нами жить, то есть ночует у нас, но всякие с нами сношения прекратила; не говорит и даже не кланяется и ведет себя в отношении нас, как более чем чужой человек, не обедает у нас и даже не приходит пить чай или кофе. Одним словом, нас игнорирует совсем. Как это больно после того, что вы были у нас как родные дети. Я очень страдаю от этого, обидно и тяжело умереть при таких условиях, а годы мои такие, что долго не проживешь».
Мне Ика сама ничего не пишет.
Сейчас стало тепло и дети целый день проводят на воздухе, а вчера с ними ходила на Егошиху. Свое положение переношу неважно, чувствую тошноту и отвращение ко всему, что мне нужно есть дома, и наряду с этим ужасные желания есть то, чего как раз мы иметь не можем. Эти безумные желания еды — ведь это не голод? Картофель, и хлеб, и даже каши я всегда могу иметь. Мне страшно хочется мяса, и об нем я мечтала целые дни и ночи. Один раз я дошла до безумства и, почувствовав себя больше не в силах терпеть этот своеобразный голод, уговорила Ники пойти в ресторан. Денег у нас было очень немного, и мы оставили за наш ужин 7 рублей. Ники выбрал для себя шницель, а я порцию скоблянки (беф-Строганов) и под звуки оркестра наслаждалась едой. А через полчаса по выходе из ресторана мне уже снова хотелось есть.
Наше материальное положение сейчас несколько улучшилось. Ники имеет много работы по черчению, он поступил на службу и получил карточки на хлеб. Работает он чрезвычайно много и кроме того еще успевает давать уроки и делать переводы, если подвернутся. В общем, большой молодец, и мне стыдно, что я так мало делаю в то время, что он так трудится. Но это не лень с моей стороны, а следствие моего положения. Мне даже трудным кажется писать письма.
Наряду с этим я немножко развлекалась в последнее время, и вышла из этого ужасная драма. У нас здесь есть соседи: муж инженер (очень приличный и солидный, помнит папа по Ярославлю) и жена его, Елена Викентьевна, ветреная полька, мнящая себя обаятельной женщиной. Недавно она влюбилась по уши в одного доктора. Доктор, правда, очень красив, на него невольно обратишь внимание — он француз по происхождению. Часто бывая у соседей, я также познакомилась с доктором, и тут-то и началась драма. Доктор оставил свою даму и стал ухаживать за мной.
Сначала я не придавала этому значения, а за последнее время убедилась в том, что красивый доктор действительно мной увлечен, и решила, что почему бы мне немножко и не позабавиться, совершенно не учитывая последствий. Третьего дня утром я к ней захожу, она меня встречает в ярости и говорит мне кучу неприятностей. А сегодня приходит ко мне, и начинается у нас форменная перестрелка страшных, ядовитых слов. Но это еще полбеды; под влиянием своего гнева она мне просто наносит оскорбление, вспоминая какой-то никогда не происходивший случай, который якобы имел место полтора года тому назад при встрече Нового года. Я якобы позволяла мужчинам себя обнимать и целовать в присутствии Ники, а он был настолько пьян, что ничего не видел. Когда она мне это сказала, я, стоя у комода против зеркала, увидела, насколько я побледнела, но, совладев с собой, я ей прямо сказала, что она лжет и что ничего не может быть хуже глупой и гадкой женщины. Потом, когда Ники пришел домой, он меня успокоил, сказав, что она это со злости выдумала и что она должна прийти и передо мной извиниться. А мне сейчас немножко жаль, что мой flirt с красивым доктором должен оборваться. Эта злая женщина будет всячески стараться испортить мою репутацию, но я надеюсь, что люди, хорошо меня знающие, ей не поверят.
С нетерпением жду от тебя ответа на свое письмо.
Дорогая моя мама, я до сих пор не получила от тебя ответа на письмо, где просила совета, что мне делать. Такого рода вещи не могут замедляться, и надо решаться на что-то в ближайшие дни. Если и на это письмо ответ придет не так быстро, как нужно, то будет уже поздно что-либо предпринимать.
Сегодня я была у профессора Лебедева, и он категорически мне сказал, что я не должна иметь третьего ребенка. Вот его диагноз, списываю его полностью. «Голицына Ирина Дмитриевна страдает катаром верхушки правого легкого, упадком питания и резко выраженным малокровием. Нуждается в прерывании беременности». Я ему напомнила, что почти такой же диагноз был им поставлен и перед Мимочкой, у меня легкие были не совсем в порядке. Но он ответил, что состояние здоровья теперь ухудшилось.
Я же вижу это дело совсем в иной плоскости. И Ники, и я против аборта, как, думаю и надеюсь, и ты, но все-таки хотелось бы еще от тебя иметь подтверждение. Я провела у профессора очень много времени, то есть не у него в кабинете, а в его семье, они все очень милые и отзывчивые люди, главным образом, его жена. Еще есть мать жены, которая напоминает мне бабушку Анну. Она мне говорит, что я не от мира сего, нечего даже задумываться над такими простыми вещами, ее знакомая сделала девять абортов и осталась такая же интересная и привлекательная. Она закончила тем, что передала мнение еще одной нашей общей знакомой, которая в своем раздражении по поводу появления на свет Мимочки назвала меня преступницей. Раиса Константиновна (жена профессора), несравненно более умная и тонкая женщина, также уговаривала меня сделать аборт. Но ни та, ни другая меня не убедили, и раз что туберкулез у меня еще не открылся, нужно действовать так, как говорит совесть. Таково мое мнение, и при нем я остаюсь и вооружусь терпением для выслушивания всевозможной критики и порицаний, а их будет немало.
Дети здоровы и Ники также. Вчера жгли костер и пекли картофель, вымокли под дождем.
Булинька меня поражает своими пластическими способностями. Она ходит совершенно свободно на point'ax в своих рваных башмачках и, как настоящая балерина, перегибается, бросаясь на землю и удерживаясь одними ручками. Где она все это видела, и кто ее учил?
Из записей лета 1931
В жизни нужно делать что-нибудь или готовиться к чему-нибудь. Я же ничего не делаю и ни к чему не готовлюсь. Я всем говорю, что женщина обязательно должна иметь ребенка. Но я лично ничего не чувствую к детям. Могу целый день возиться с ними, но они мне быстро надоедают. Вряд ли с моим ребенком было бы иначе. Мне скучно. Этого ощущения у меня раньше не было. Пустота, я никому не нужна, да и мне никто не нужен. Меня даже книги не интересуют — зачем читать? Ненавижу бесплодное чтение.
Не понимаю, зачем Сережа женился на мне. Ему нужно спокойствие, а я не могу ему этого дать. Уж как я ни билась над собой, ничего не выходит. К тому же я заметила, что он меня меньше любит. Мне тяжело оставить его, но еще тяжелее жить с ним. Мне хочется поговорить с ним, но кажется, что он не поймет. Он просил остаться до конца его военной службы.
Мне иногда кажется, что Сережа прекрасно устроится когда-нибудь, но я-то тут буду не причем. Нужно уйти от Сережи, а там увидим, что будет. Но я, наверное, никогда не уйду. Я привыкла жить с ним. Потом приятно, что есть человек, который тебя любит и заботится о тебе.
Дина живет у нас, но я с ней редко разговариваю.
Любит ли меня Дина? Если даже и любит, то не так, как в 1928 году. Она тогда сильно ошибалась, думая, что мне ведомо то, к чему я приспособлена. Ни тогда, ни сейчас я не знаю: где и что я? Я кидаюсь, мечусь. Где цель, я ведь без цели не могу.
Милый Сережин,
И вы, и я теперь живем и ждем как будто случая, который нам помог бы разойтись. Теперь вы, кажется, даже больше меня хотите этого. Я сдержу свое обещание и останусь до конца вашей военной службы. Потом мы, по всей вероятности, расстанемся. Мне может быть (наверное) будет тяжело. Я в начале нашего брака вас не любила, у меня была сильная жалость, которая оказалась сильнее вашей любви ко мне; теперь же я очень привыкла (а может быть даже люблю, думаю, что люблю, по крайней мере, мне никто не был так близок, как вы).
Вы меня не любили, по крайней мере, в субботу сказали, что не любили. Не понимаю до сих пор, зачем вы мне говорили, что любите, что я — ваше счастье и несчастье, зачем пугали отъездом в Иностранный легион? Не знаю, да и вы наверно не знаете. Теперь только я увидала, что вы меня не любите, что вы вообще любите Наташу, и особенно теперь, я теперь только груз. Я вас не обвиняю, вы несчастный мой мальчик, Сергулька, ошиблись, Вы думали забыть ее и думали, что полюбите меня. Бедный мой.
Но можно еще все поправить. Не хочу, чтоб вы думали, что из-за меня ваша жизнь загублена. Помните, я вам говорила, что если узнаю, что вы любите другую, я уйду. Теперь я знаю, да и вы теперь знаете. Не любя окружающих меня, не любя моих сестер, вечно критикуя меня и анализируя, вы не любите меня, я вам совсем чужая.
И потому особенно я ценю вашу деликатность. Вы заботились обо мне и помогали мне иногда. Спасибо. Я это всегда помнить буду.
Хорошо, что у нас нет детей. Я все равно ушла бы. Мне только стыдно перед вашей матерью, которая вас так любит. Она, наверное, станет меня винить, — если это будет так, мне будет легче.
Выходя за вас замуж, я думала, что мы поможем друг другу жить. Но каждый еще больше спрятался в коробку. Когда мне бывало плохо, вы злились, считали себя обиженным, а меня капризной, никогда не старались узнать, в чем дело. Мой дорогой, будьте откровеннее с другой, не женитесь на девушке, которую не любите. Мне жалко, что у вас останется плохое воспоминание обо мне. Мы ведь не очень страдали этот год, бывали и светлые минуты, я бывала и счастлива.
Наиболее совершенными, то есть наиболее нашедшими себя, кажутся мне на выставке Блюм и Карский, причем Блюму, вероятно, труднее было «добиться» своей живописи, ибо его цветовые возможности, вероятно, шире возможностей Карского. Работы Карского, тонко-живописные, кажутся бедными цветом, но внутри этой бедности они живут глубокой и искренней жизнью, вложенной в нарочито скромные рамки, просто сделанные, они очень красивы.
Наши соседи (инженер, который знал еще моего отца) готовились к пышной, с шампанским, встрече наступающего нового, 1932, года. Мы были приглашены и пообещали прийти, хотя мысли наши были далеко не праздничными. По такому случаю мы принарядились, и мне даже удалось втиснуться в прелестное вечернее платье с кружевами, оставшееся от лучших времен.
Почти все уже были в сборе. Нас было одиннадцать, когда зазвенел звонок у двери, и появилось еще двое — французский доктор со своей пожилой матерью. Нас стало тринадцать — предзнаменование, которого, я знала, надо избежать. Единственное, что мне оставалось, это встать и, по возможности незаметно, уйти. Но не успела я подойти к входной двери, как хозяйка остановила меня.
Я пробормотала что, дескать, не слишком хорошо себя чувствую и что мне лучше спокойно побыть в моей комнате, в любую минуту могут начаться схватки.
Но она не хотела и слушать. Возможно, она читала мои мысли[102], потому что сказала: «Я знаю, что вас тревожит, не думайте об этом, забудьте. Как вы можете так просто уйти? Это немыслимо, весь вечер будет испорчен».
Когда она это говорила, я ощутила движения моего малыша, и новая мысль пришла мне в голову. «За столом нас будет не тринадцать, а четырнадцать, ведь я не одна сейчас, нас двое».
Вечеринка прошла очень весело, и мы ушли только рано утром.
Следующая неделя была последней перед рождением нашего третьего ребенка. 8 января я вышла на кухню, чтобы сварить макароны на ужин. Надо было наколоть щепок для нашей голландской печки, но только я подняла топор, как почувствовала, что со мной происходит что-то необычное. Я бросила топор и побежала в комнату. Ники уложил меня в постель и кинулся к соседке, жившей через дорогу. Она сказала ему: «Что же вы делаете! Ей давно уже надо быть в больнице, роды могут начаться в любую минуту!»
Было бессмысленно ловить извозчика — их не было в нашем районе. Ники помог мне встать, надеть пальто, и мы отправились в путь пешком. Не могу забыть этого похода. До больницы было около двух километров, но схватки уже начались, и мы могли двигаться только в промежутках между ними. Ники был страшно встревожен, но напрасно он озирался по сторонам в поисках извозчика или какой-нибудь повозки, которая могла бы нас подвезти. Ничего не попадалось, и мы продолжали идти пешком в промежутках между схватками, которые становились все короче. Наконец, мы добрались до больницы… У меня родилась девочка.
А еще же через несколько дней почта принесла письмо из Лондона, и в нем мы прочли: «Появилась новая идея, и на этот раз может получиться». Эта магическая фраза казалась первой ласточкой, началом чего-то важного.
Январь 1932
Очень устала, постарела за эти два года. Сережа со мной и я с ним обращаемся так, точно находимся на вокзале. Придут разные поезда, и вот разъедемся, а потому не следует привыкать, все равно поезда разные. Даже как-то боимся показаться слабыми и захотеть взять то же направление.
Живопись еще хуже, бездарна, как сапог, что-то чувствую, но ничего не могу сказать. В общем все подло.
Однажды в конце февраля, когда мы готовились купать наших троих детей, дверь внезапно отворилась, и в комнату вошло несколько мужчин. Мое сердце упало. Я поняла, что это за гости, хотя они и были в штатском. Они старались быть вежливыми, даже извинялись за причиненное беспокойство, но это ничего не меняло. Они увели мужа. Я кончила купать детей, уложила их спать, села и разрыдалась. В это время зашла жившая над нами комсомолка. Возможно, ее послали, чтобы посмотреть на мою реакцию. Я налила ей чаю и взяла себя в руки.
Когда она ушла, я послала женщину, которая помогала мне по дому, к знакомым — семье инженера, жившей неподалеку. Жена инженера передала мне в ответ, что я ни при каких обстоятельствах никому не должна рассказывать, что между нами были какие-то отношения. Я все поняла. Идти было не к кому. Но как я буду жить? Без денег, без друзей — все были слишком запуганы, чтобы признать знакомство с нами, — с тремя маленькими детьми…
Дети мирно спали. Я упала на колени перед образом Казанской Божьей Матери, который висел в углу над моей кроватью, и взмолилась. Я просила Божью Матерь вернуть мне мужа и сделать так, чтобы мы смогли уехать заграницу. Я знаю, что просить об этом — безумие, говорила я, но я не могу больше переносить эти страдания. Помоги нам, Богородица, молю тебя.
Я разделась и легла в постель. Вдруг послышались шаги на снегу. Я вслушивалась, не веря своим ушам. Раздался знакомый стук в окно столовой. Я выскочила из постели и бросилась к окну. Это был Ники. Святая Дева выполнила мою первую просьбу.
Я прекрасно знала, где Ники провел последние четыре часа, и понимала, что когда туда попадаешь, нельзя рассчитывать на скорое возвращение. Сейчас мой Ники был со мной, больше мне ничего не нужно было, я сияла от счастья. Но он выглядел усталым, и хотя улыбался и делал все, что мог, чтобы тоже казаться счастливым, его одолевали какие-то мрачные мысли, которыми он не хотел делиться со мной. Я не стала выяснять причин его тревоги. В конце концов, кто мог бы быть счастливым на нашем месте, зная, что в любое время могут прийти и сделать с нами все, что захотят.
Ники сказал, что, возможно, у него будет работа. А немного позже объяснил, что мы должны будем пойти «туда» вместе.
— Зачем? — спросила я.
— Не тревожься, они только хотят знать, что ты не работаешь против них.