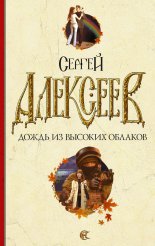Адаптация Былинский Валерий
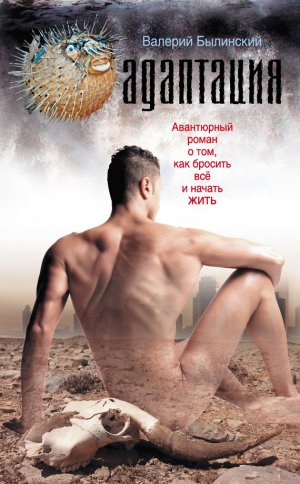
Ладно. Положите эти буквы в мусорную корзину и радуйтесь дальше жизни, если у вас есть чему радоваться и зачем жить. Или радуйтесь просто так. У меня иногда получалось.
У меня нет чувства юмора, признаю. Любая мысль о смехе в тех местах, где смеха нет и в зародыше – только лишь потому, что человек не должен унывать – вызывает у меня смертную тоску. Зачем смеяться? Для «позитива»?
Единственное спасение, считают многие, в крепкой семье. Единственное спасение, считает кто-то еще, в вере в Бога. У меня нет ни того, ни другого.
А впрочем – все не о том.
Прочитал сейчас эти буквы, и думаю: а ведь я вру, в общем-то, вру. Чувствую это, как Родион Раскольников, который стоял когда-то на мосту и хотел утопиться; чувствую, что шевелится внутри меня, как и у него, какая-то глобальная ложь, которой я почему-то подчиняюсь. И верю ей, этой лжи. Почему? Словно обманули меня еще в детстве или в юности каким-то очень каверзным фокусом, и начал я после этого фокуса жить совсем не в ту сторону, не в свою. Те же родители у меня остались, тот же брат, тот же дом, страна, земля – а я живу в другую сторону. А настоящая жизнь, все еще немного видимая, осталась где-то в стороне – да так далеко, что всех оставшихся лет жизни мне до нее дойти не хватит.
А что, если…
Что, если вдруг сложится лист бумаги, по которому я иду по прямой к моей оставленной жизни, сложится прямо под ногами поперек пути – и я, скатившись по этому листу вниз, сразу, одним махом, достигну цели? При внезапном преломлении пространства, по теории Эйнштейна, соединенные прямой линией точки накладываются одна на другую – соединяются.
Что, если бы так, одним махом? А?
Отличие от сумасшедшего Сида
Когда я вернулся в Москву, первым, кого я там встретил, оказался Сид. Он сидел в клубе «ОГИ» в Потаповском переулке, куда я отправился, едва заехав домой и бросив в коридоре сумку. Мне хотелось одиночества и в то же время хотелось видеть вокруг людей.
Сид не входит в число тех, кто мешает тебе быть одному.
– Будешь? – спросил он меня. – Текила. Мать подкинула денег, хочу потратить.
Я кивнул. Сид заказал еще текилы, мы выпили. Я обратил внимание, что он читает Роберта Музиля «Человек без свойств».
– Ужасно увлекательная и в то же время отупляющая вещь, – покачал головой Сид, показывая на книгу. – Чувствуется, что ее писал человек, утративший красоту. Местами написано сильно, кажется, что вот сейчас все разгонится и произойдет что-то настоящее! Но потом все вяло скатывается на обочину и ничего не происходит. Словно скоро наступит оргазм – а его все нет. А сам процесс секса нормальный.
– Перечитай «Илиаду», – посоветовал я, – там совершенно другой мир, с красотой и силой. Может, он всколыхнет тебя.
– Да уже перечитывал, – усмехнулся Сид. – Видишь ли, после того, как дядька Христос привнес в нашу цивилизацию совесть, веришь или не веришь в этого дядьку, а совести в литературе уже не хватает. Как хороших специй в пресной еде.
– И в жизни тоже, – сказал я.
– Что в жизни?
– Совести не хватает.
– А… ну так это да, конечно. Литература, как и любой, впрочем, вид искусства, – это способ познания жизни путем ее художественного преображения. Как тебе кажется, не слабо я придумал определение литературы?
Я кивнул. А потом сказал:
– А может, совесть – это и есть то, что мы едим, а все остальное – просто приправы к ней?
– Как-то слишком уж заумно. Наша жизнь ушла в красивые разговоры, Саша.
– Раньше ты так не говорил, Сид. Ты говорил, что в словах хоть какая-то жизнь есть. А в делах только фальшь осталась. Ты говорил, что без верного слова, которое стоит вначале, делать вообще ничего не стоит. Говорил?
Сид кивнул. Но промолчал.
«Человек без дела все-таки сдохнет…» – подумал он.
Я его услышал. И подумал в ответ: «А разве твой реальный роман не дело?»
Он усмехнулся.
Мы выпили.
– Кстати, как поживает твой реальный роман? – спросил я.
– Паршиво. Полезла банальщина, Саша. Ездил в Амстердам, подрался сперва с арабами, потом с нацистами. Хлипкие они там какие-то, даже я, дохлый чувак, одному морду случайно набил. А арабы смелые, когда их много. Ну посидел в тюрьме голландской, ел там ананасы на завтрак. Потом переспал с какой-то сорокалетней австралийкой, пишущей реальные стихи. Последовательница моя, представляешь? Тоже в реальности пишет, только не роман, а стихи. Сидит, например, в кафе, смотрит на чашку с кофе, на круассан, на бокал вина, потом на себя, на соседей, сидящих рядом. Сначала сочиняет стихи из этих предметов, а потом реально их декламирует: выливает вино себе на грудь, переворачивает чашку с кофе, крошит и подбрасывает круассан, сажает на себя стул, бьет свою руку щекой. А если ее спросить, почему она вылила на грудь именно вино, а не горячий кофе, она объяснит, что грудь с вином лучше рифмуется. Это ее стихотворение называлось «Здравый смысл в окружении сумасшедших». А стихотворение «Русская любовь» (не про меня) было следующим: она подходила к какому-то бюргеру и предлагала ему жениться на ней, уверяя, что будет послушной и верной женой до гроба. Самое интересное, что третий по счету кандидат в мужья вполне серьезно согласился. Они пошли регистрировать свой брак, собрались венчаться, но уже почти под венцом поэтесса заявила, что это всего лишь реальная литература, так что она передумала.
Дым от сигареты попал ему в глаз, и Сид поморщился.
– Они не понимают, Саша, что в реальной литературе, как и в обычной, нужно отвечать за каждое слово. Они вообще почему-то думают, что реальная литература – это новый вид уличного театра. Бездарная она поэтесса, эта австралийка. Хоть и последовательница. Самое смешное: мне одна компания предложила, чтобы я вставлял рекламные блоки в главы своего романа. Ну, заработок. Похоже, там у них реальная литература становится действительно модной.
– И как эти рекламные блоки… рекламируют?
– Идешь где-нибудь, встреваешь в какую-нибудь историю, пишешь и произносишь при этом время от времени рекламу какой-нибудь фирмы. Скрыто, конечно, в виде продакт плейсмента. Или носишь одежду с лейблом. Договор предлагали…
– И что?
– Дурной это знак, похоже. Я исписался, Саша.
– Творческий кризис?
– Ага.
– Бывает, – кивнул я.
– А твой обычный роман как? – спросил он.
– Пустота. Конец близок. В общем, все как у тебя.
Мы помолчали, еще выпили.
– Ты куда-то уезжал? – спросил он меня.
– Да, к отцу.
Сид вновь заказал текилы.
– Смерть банальна, – произнес я.
Он посмотрел на меня.
– Кажется, с тобой что-то происходит, Саша.
– Что?
– Ты сам знаешь. Если тебе в чем-то плохо, скажи. Я думаю, если плохо, то надо говорить.
– Знаешь, мне хочется исчезнуть, но при этом оставаться живым.
– Так бывает только на том свете, – без улыбки улыбнулся Сид.
– А на этом?
– На этом – иллюзия.
– Этот я ненавижу, Сид.
– А я бы рад ненавидеть, Саша. Но я его не люблю и не ненавижу.
– Среднее?
– Да.
– Знаешь, мне иногда бывает жаль, что я не алкоголик и не наркоман, – сказал я.
– Почему?
– Мне некуда уйти.
Он повернул голову. Прищурив глаза, смотрел на меня несколько секунд.
– С тобой что-то серьезное, Саша. Помнишь, Мармеладову в «Преступлении и наказании» некуда было идти? А тебе – некуда уходить. Я бы хотел тебе помочь. Но я не понимаю, как. Скажи?
Я качнул головой:
– Я просто хочу сильнее погрузиться в еще живую реальность. Может, и утонуть в ней. Будь как будет.
– Может быть, ты и прав. Если захочешь выплыть, найди меня.
Кстати говоря, Сид еврей.
«Когда я вижу это лицо, – сказал он однажды, попыхивая сигаретой в шевелящего губами на экране телевизора Березовского, – мне хочется повеситься, как Отто Вейнингеру, от стыда за свою нацию. Но, во-первых, я же не написал, бляха-муха, такой гениальной книги, как Вейнингер, а во-вторых, боюсь, что на том свете всех грешников построят на плацу и заставят отжиматься, как в армии.
– Самоубийство – грех?
– Я думаю, грех – это умереть, не сделав того, что тебе предназначено.
– А ты делаешь?
– Я все еще не понял, что я должен делать. Поэтому и страшно умирать.
«Смерть банальна. Я это видел, – вспомнил я. – И все-таки страшно…»
– А знаешь, ведь ты меня успокоил, – сказал я чуть позже.
– Да? Чем?
– Тем, что понял меня, Сид.
– Понял… Ага… Знаешь, мы и живем, может быть, для того, чтобы нас понимали. Чтобы кто-нибудь когда-нибудь понял. Хоть на пару секунд. Не понимают только сумасшедших, Саша.
– А мы не сумасшедшие, Сид.
– Нет. Точно не сумасшедшие.
Мы выпили.
– А знаешь, – почему-то, сам того не ожидая, сказал я, – мы живем не только для того, чтобы нас понимали. Ведь понимать могут и сволочей, Сид. Другие сволочи.
– Согласен. А для чего тогда?
– Не знаю. Надо подумать… – я сидел и смотрел в деревянный стол. Мне вдруг стало резко тяжело и плохо внутри – но не в теле, а намного глубже. От этого стало портиться настроение.
– Может быть, мы живем для того, – словно издалека слышал я голос Сида, – чтобы не нас, а чтобы мы кого-нибудь поняли? А, ты как считаешь?
Я кивал, чувствуя, что ко мне вплотную приблизилось густое темное пыльное облако – из тех, что я видел в документальных фильмах про торнадо. Изнутри что-то ломало и медленно сжимало мои кости и мышцы в неспешных тисках. Особенно больно не было, но давление все время нарастало, корежило.
– Знаешь, я пойду…
Я встал, протянул Сиду руку и, стараясь не покачнуться и не упасть, вышел из «ОГИ».
Он молча смотрел мне вслед.
На улице меня немного отпустило. Я стал бесцельно бродить по городу, дошел до Тверского бульвара. Я все еще не был пьян и только лишь воткнул свою голову в реальность, я это чувствовал. Вдруг послышалось, будто кто-то меня позвал. Оглянулся – вокруг тишина, если не считать шума машин и гула голосов. На скамейках сидели люди, медленно поворачивающие ко мне лица с чужими взглядами.
Кто-то опять окликнул меня. Я обернулся – и увидел выглядывающую из окна маленькой, застрявшей в пробке серебристой машины, Инну.
Я не хотел ее видеть. Хотя, в общем-то, мне было безразлично. Может, сделать вид, что я ослеп и с улыбкой пройти мимо?
– Саша! Саша! – позвала Инна, приоткрыв дверцу машины и махая рукой.
Я подошел, с улыбкой кивнул.
– Ты давно приехал? Я тебе звонила, – ее лицо было тревожно-радостным.
– Да… я отключил телефон.
– Как твоя мама, Саша?
– Умерла.
– Боже мой, Саша… Ты держись. Поехали сегодня ко мне. Поехали?
Я с улыбкой пожал плечами.
– Ты купила машину?
– Да… Я только не сейчас… Я сейчас с подругой в джаз-клуб договорилась, давай я вечером за тобой заеду и поедем ко мне. Давай? Я хотела тебя на вокзале встретить, но ты не отвечал…
– Хорошо.
– Что хорошо?
– Все.
Автомобили засигналили – пробка двинулась, «Хендай Гетц» Инны загораживал им дорогу.
– Ты включи телефон, слышишь? Я позвоню… – говорила она, садясь на водительское сиденье и закрывая дверь.
– Ага, позвони, хорошо.
Гул голосов, сигналов, моторов слился в один грязевый поток.
– Пока, позвоню.
Машина Инны тронулась. В грязевом потоке едва слышно звенела мелодия: какой-то оркестр, исполняющий классику. Что-то вроде Моцарта в смеси с ранним «Пинк Флойд». Мелодия тихо пела в моей голове.
Семья как галлюцинация
Вот уже третью неделю я живу с Инной.
Похоже, в гражданском, как говорится, браке.
То есть как любовник с любовницей. Партнер с партнершей. Бойфренд с герлфрендшей.
Живем, в общем.
Инна позвонила в дверь моей квартиры на третий день после нашей встречи на Тверском бульваре. У нее была серьезно заготовленная речь. Я к тому времени успел получить деньги за поставленные после моего ухода из «Красной шапочки» передачи, в подготовке которых принимал участие. Уже тогда я понял, что, пока эти деньги не закончатся, я не буду делать ничего. Совсем ничего – абсолютно. И потом, вероятно, тоже.
Войдя ко мне, Инна сообщила, что я ее устраиваю и что нам надо продолжать выстраивать отношения. Ничего, говорила она, не делается без усилий. Я ее почти не слушал. Сказал, что, в общем-то, мне плевать на свою жизнь, да и на ее тоже. Она согласилась: что ж. Помня ее трудоголические нравы, я с издевательской улыбкой сообщил, что любая работа отныне вызывает у меня отвращение, и я не собираюсь никуда устраиваться. Она сдержанно пожала плечами. Также я сообщил, что мне все равно, где жить, здесь или у нее. Если она хочет, я поеду к ней – но буду вести себя как хочу, пусть не строит иллюзий. Со своей стороны, я ее насиловать претензиями тоже не буду. Инна уверенно кивнула. «О’кей, меня все устраивает!» – сказала она.
Я ей, конечно, не поверил. Да и себе – тоже.
Мы поехали к ней на ее новеньком «Хендай Гетц». После небольшого препирательства Инна на полпути пустила меня за руль, и я с веселой злостью, следуя ее четким указаниям, куда поворачивать, поехал по городу – за рулем я не сидел почти два года.
С зеркальца автомобиля свисала на шнурке крохотная иконка с залакированным, наклеенным на фанерку золотистым ликом Богоматери с младенцем. Я кивнул на иконку:
– Что, оберег для авто купила? Какая-то она у тебя народная. Или сейчас у среднего класса популярна простота?
Инна хмуро и, как мне показалось, растерянно взглянула на меня:
– Я не купила, это подарок, в храме бабулька подарила.
– В храм ходишь? – удивился я.
– Нет. Это моя подруга ходит, она верующая. Я ей деньги должна была передать, а у нее вечно времени нет, вот там и встретились. А вообще, при чем здесь: хожу я или не хожу? В вере тоже что-то есть, я еще не разобралась что, но есть.
– Ничего, разберешься, – сказал я, надавливая на газ, – ты ведь умница, Инночка, во всем всегда разбираешься…
– Смотри на дорогу, на дорогу! – резко оборвала меня Инна. – Господи! Тебе надо потренироваться, навыки восстанавливать, а потом уже садиться за руль.
У нее дома мы сразу стали заниматься сексом, и я делал это в какой-то туманной полумгле с проблесками солнечной неги. Сначала я входил в нее сверху, потом она лежала на мне. Всего было пять или шесть оргазмов – у меня, не у нее. Оргазм у Инны был всегда в конце, главный, я делал его ей рукой или языком. Она так была сложена, что не получала сексуальной разрядки от естественного проникновения двух тел. Но говорила, что нимало от этого не страдает – ей было радостно, когда я просто входил в нее и кончал сам. Занимаясь с ней любовью – да, все-таки это была немного любовь… – я вспомнил, что Инна в этот раз не ввела, как обычно, себе внутрь свечу, чтобы обезопаситься от беременности. Хотя, в общем-то, мне было все равно. Когда я довел ее до оргазма, Инна сильно задергалась, выдернула из себя мою руку и затихла, глядя сквозь полуприкрытые глаза в потолок. Я вспомнил, что примерно так умирала моя мать.
– Спасибо тебе, что ты приехал, – сказала она минуты через три. – Еще немного, и у меня бы начался нервный срыв.
На секунду мне стало страшно. Показалось, что покойник воскрес.
Посвежевшая после секса, с сияющим детским лицом, Инна стала рассказывать, что в последний год, после того как мы с ней первый раз разошлись, ее начало раздражать слишком многое, такого раньше с ней никогда не было. Бесило почти все: подруги, работа, клубы, театр, кино. Она даже подумывала, не отправиться ли ей вновь на прием к психотерапевту. Только приходя каждый день на работу, Инна забывалась в бодрых трудовых буднях и шутила с подругами, что лучший ее любовник – должность менеджера в кредитном отделе.
Я думал при этом: а что, если и после смерти, как после оргазма, наступает вот такое же радостное счастливое состояние? Нет, вряд ли. Смерть ведь не назовешь удовольствием. Все-таки – не назовешь.
Инна между тем проникновенно делилась со мной тем, что занималась в одиночестве мастурбацией – но при этом всегда страдала из-за того, что это все-таки был искусственный секс.
Бывает ли искусственная смерть?
Инне всегда, по ее словам, хотелось прикосновения к живому, мягкому, родному мужскому телу.
«Так что же ты не могла найти мужчину?» – спросил я наконец. Нет-нет, она пробовала с двумя. Но это был кошмар. «Один, коллега по работе, – улыбалась, подняв брови, Инна, – вообще оказался импотент, я еле возродила его к жизни» (так она и сказала). Другой, с которым она познакомилась по Интернету, оказался роботом: сделал свое дело и тут же ушел, сославшись на дела.
Искусственной смерти не существует. Как и родов. Ты просто приходишь на этот свет и уходишь на тот. Вот и все. Почему же так много искусственного и лживого в том настоящем, что длится между родами и смертью?
«Представляешь, он пытался со мной в постели говорить о том, как ему нравится нефтедобывающая отрасль, в которой он работает, – со смехом, подперев кулачками щеки, рассказывала Инна. – Я, конечно, понимаю, что нефтедобывающая отрасль приносит хорошие деньги, что это серьезное дело, и я даже уважаю его… но слушать, что нефть бывает еще и прекрасна!.. это выше моих сил», – хохотала она.
Что-то в ее голосе и позе было натужным, нервным. Глаза излучали тепло и бросали искры, готовые вот-вот перейти в слезы. Я знал, конечно, что долго этот ветхий рай не продлится. Людей не изменить, даже если одиночество становится для них невыносимым. Мы разные, просто сейчас мы лучшие – и в нас на миг соединилось между собой лучшее, что есть у нас обоих. Может, это лучшее, как редкое утешение, слетает к нам ненадолго откуда-то сверху, с небес…
Жаль, что это состояние нельзя оставить навсегда.
Мне кажется, в минуты и часы своего бескорыстия Инна искренне полагала, что в наших отношениях можно что-то переменить. И я любил и жалел ее за это, и мне сильно, по-настоящему хотелось ей помочь. Я только старался держать себя в руках и не сползать в иллюзию, в глубине которой так часто тонул. Сейчас во мне тоже работала часть меня – может быть, и лучшая. Но не настоящая.
Кто сказал, что самые искренние части души в человеке и есть лучшие?
Моя рука вытянулась, коснулась пальцами волос на темени. Пальцы медленно и легко продавили черепную коробку, вошли в месиво мозга – и двинулись дальше, через горло вползли в грудную клетку. Оставив в стороне сердце, мои пальцы ринулись сквозь какие-то склизкие мышцы еще дальше в глубь меня, стали там что-то искать, рыться, перебирать…
– Ты что… делаешь? – Инна стоит возле кровати и, расширив глаза, смотрит на меня.
– Погоди! – я отмахиваюсь от нее свободной рукой. – Ищу в себе лучшее, не видишь?
Ее глаза раскрываются шире. Она хватает меня за руку, силясь вытащить ее наружу – а мне смешно. Пока не найду лучшее, не вытащу, ясно? Только почему мне так хохотливо сейчас, если должно быть страшно…
– Саша! Саша! – стоя надо мной на коленях в постели, Инна сильно дергает меня за руку.
Я резко просыпаюсь. И обнаруживаю, что почти наполовину засунул в рот пальцы и кусаю их так, словно они сделаны из плотного теста и их можно перекусить, как трубочки для ленивых вареников.
– Что ты делаешь… – она наконец выдергивает у меня изо рта мою руку.
– Я думал, они пластмассовые… – говорю я, чувствуя в пальцах боль.
– Что?! – в ее глазах пляшут отблески страха.
Укушенные пальцы ноют сильнее.
– Извини… да… – я окончательно пришел в себя. – Что-то дурное приснилось.
Утро. Мы пьем на кухне кофе.
– Саша, – смотрит на меня Инна, – тебе надо показаться к психотерапевту.
– Да? Хорошо.
– У меня есть знакомый психотерапевт, у него лечилась моя подруга.
– Отлично, конечно, твоя подруга.
– Саша, я говорю серьезно. Очень серьезно, слышишь?
Я серьезно киваю. Я не обманываю ее. Мне очень хочется, чтобы она побыстрее прекратила говорить обо всем этом.
Об Инне и новом Лютере
Когда время тусклое, оно движется быстрее. Каждое утро Инна отправлялась в свой банковский офис, а я оставался дома и не делал ничего. Вернее, писал в тетради свою нереальную «Адаптацию», о которой я когда-то говорил Инне и которую она реальным делом не считала.
Многим людям, не только женщинам, занятие, связанное с отвлеченной деятельностью в сфере искусств или науки, кажется значимым только после того, как за него заплатили деньги или ты достиг популярности – то есть социального статуса. Будто времени, потраченного на достижение этого статуса, не существует и художник должен перескочить этот отрезок каким-то фантастическим способом.
Впрочем, я не думал, что «Адаптация» принесет мне деньги. Я просто выписывал в эту книгу себя, чтобы не исчезнуть в реальности. Лучше я убью себя там, на страницах, написанных частично чернилами, частично в воображении. В то же время я понимал, что не хочу себя убивать – и помимо воли скользил по размокшей дороге вниз. Зачем?
Чего-то там не хватало, чего-то точно не хватало.
Помимо «Адаптации» я выходил из дома и тратил деньги на покупку продуктов. Инна мне предлагала несколько раз свои деньги, но я не брал. У меня еще были свои, а во-вторых, наши отношения держались во многом благодаря тому, что я еще мог за что-то платить. В этом была честность, необходимая, когда нет любви. Впрочем, когда она есть, тоже. Честность необходима, чтобы создавать запасы прочности на тот период, когда любовь ослабнет и кончится.
Иногда я приезжал в центр города, выпивал в каком-нибудь заведении типа «ОГИ», «Билингвы» или «Рок-Вегаса» пару текил. После работы Инна, бывало, отправлялась со мной в сверкающие бело-фиолетовым светом кофейни, где мы ели тирамису, штрудели и чизкейки, и там я замечал, что на Инну внимательно смотрят мужчины – она умеет подчеркнуть фигуру одеждой.
Как-то в «Кафе-Бин» мы встретили ее корпоративных знакомых: гражданскую семейную пару менеджеров среднего звена. «А они подходят друг другу…» – вероятно, думали эти люди, улыбчиво рассматривая нас. Но они-то, может, и являлись семьей, а мы – нет. Один раз Инна уговорила меня посетить с ней престижный спектакль в Ленкоме, современный ремейк «Мертвых душ» Гоголя. Мне показалось, я попал в сумасшедший дом смеха – все вокруг в зале с хохотом аплодировали причудам, разыгрываемым на театральной сцене, а мне абсолютно не было смешно. Мало того – меня чуть не вырвало. Не дождавшись конца спектакля, я вышел из зала и с облегчением дождался Инну в фойе. Она решила, что мне стало плохо после пиццы с морепродуктами, но я честно объяснил, что мне не понравился спектакль из-за его пошлости.
«Что такое пошлость?» – спросила Инна, сухими глазами глядя на меня.
«Поддельная красота», – ответил я.
«Да? Может, ты просто не понимаешь юмора? И вообще, ты обещал не насиловать меня своими претензиями. Выходит, врал?»
«Я не насиловал, – сказал я, – просто ты спросила, и я тебе ответил. Я должен был тебе соврать?»
Она промолчала.
Однажды я познакомил Инну с Сидом, который пришел в «Суши-бар», где мы обедали, и съел заказанную ему порцию роллов (деньги матери Сид к тому времени все потратил, угощая друзей).
Уплетая роллы, Сид довольно интересно рассказывал о своей теории реформирования либеральных ценностей западного мира, которым, по его мнению, был необходим новый Лютер. В качестве ненасильственного варианта реформы Сид предложил устраивать время от времени «День без рекламы», «День неравноправия», «День без женщины», «День без мужчины», «День без цветных», «День без белых» и так далее. Делать это, по мнению Сида, нужно для того, чтобы разгрузить забитую излишней толерантностью голову современного человека и дать ему в игровой форме реальную альтернативу, выраженную в схеме: плохо – хорошо. Например, если большинство людей демократически выскажутся, что им лучше жилось в «Дне без рекламы», то технологи должны подумать, как реформировать рекламу как вид деятельности. Та же самая идея заложена в днях «Без белых» или днях «Без цветных». Представьте только, что в один из дней всем людям с белой кожей нельзя показываться в общественных местах. А в другой день – всем цветным людям! Что произойдет в эти дни? Хуже или лучше станет жить, какие производства остановятся, какой будет нанесен ущерб экономике и в каких отраслях? Разумеется, такие эксперименты надо производить лишь в западных странах, а не в азиатских или африканских, где проблемы кризиса либеральной идеологии не существует. Оплачивать эти эксперименты, – говорил Сид, – разумеется, должен сам Запад, денег у него предостаточно. Помню, Инна чрезмерно часто улыбалась, слушая Сида с неослабевающим искусственным вниманием все полтора часа. Один из главных признаков адаптировавшихся представителей среднего класса – двойной стандарт для эмоций.
Придя домой, Инна вдруг резко, словно выпустив воздух из плохо заклеенной шины, заявила, что не выносит бездельников вроде Сида, сидящих на шее у матери, и не понимает, что может быть у меня с ним общего. Я начал было объяснять, что не всем же заниматься бизнесом или службой по найму в офисах, что бездеятельная жизнь Сида совершенно не напрягает его мать и что, в конце концов, мысль о том, что западным либеральным ценностям нужен новый Лютер, верна.
Инна с утончившимися губами ответила:
– Знаешь, меня бесят люди, пытающиеся рассуждать о смысле жизни, но не желающие зарабатывать на нее. Тем более поглощающие суши, которые появились на столе благодаря этим самым либеральным ценностям, которые он ненавидит.
Я засмеялся:
– Не знал, что суши появились благодаря демократии! Демократия должна придавать смысл и значение каждому человеку. Но у нас, кажется, с этим стало еще хуже, чем было при Советском Союзе.
– Надо больше зарабатывать, Саша! Тогда каждому можно будет реализовать свой шанс, – нервно сказала Инна.
– Зарабатывать на жизнь? – еще сильнее засмеялся я. – Так в этом, что ли, выходит, ее смысл?
– Ты… ты слишком все усложняешь.
– Я просто пересказал твои простые слова.
– Ты слишком серьезно относишься к некоторым вещам…
– Серьезно? Разве не видно, как мне сейчас весело?
Инна молча повернулась и ушла в ванную.
«Бытие определяет сознание», – вспомнил я.
All you need is sex
Когда время тусклое, оно летит быстрее, чем когда оно солнечное. Воскресный полдень. Мы лежим с Инной в постели, наши головы выглядывают из-под одеяла. Плечи соприкасаются, нам от этого почти тепло. Наши головы смотрят детективный сериал по телевизору. «Серик», – ласково называет его Инна. Женщины-следовательницы разоблачают мужчин-преступников. Иногда мне кажется, что все телевизионные сериалы похожи на пятку. Обычную человеческую пятку, которая, если приблизить ее к глазам или навести на нее микроскоп, полна загадочных извилин, морщин, трещин. Совсем как поверхность Луны или Марса, где, возможно, есть жизнь. А отведешь взгляд – просто пятка. Во время рекламы я щелкаю пультом в поисках картинок на других каналах. Затем встаю, иду в туалет. На обратном пути захожу зачем-то на кухню и начинаю, сидя за столом, вяло щелкать пультом, разглядывая вспыхивающий экран маленького настенного ТВ. Зачем я это делаю? Инстинкт. Той же природы, что движет нас к открытиям или к женщинам. На экране прыгает и веселится картинка. Кто-то кого-то эротично соблазняет, красивые рубашки, фигуры, юбки, коралловые губы. А, это реклама кофе.
Минут через двадцать на кухню приходит Инна, она закутана по грудь в простыню, как персонаж из американского фильма, повинующийся прокатной цензуре. Внимательно осмотрев меня, она медленно спрашивает:
– Ты чего?
– А? – поднимаю я голову. Замечаю при этом, что листаю лежащий на кухонном столе журнал «Семь дней». «Хочу выпить кофе», – собираюсь я сказать ей, но не говорю. Замечаю стоящую на холодильнике фанерную иконку, которую она, похоже, перенесла сюда из автомобиля. Или бабулька ей подарила новую? Но я опять ничего не говорю.
– Почему ты не идешь… туда? – спрашивает Инна, кивая в сторону гостиной, вместо того чтобы сказать «ко мне».
– Да так, посмотреть хочется… – искренне отвечаю я, беру пульт и снова нажимаю на одну из кнопок.
Придумать бы такую кнопку, на которую нажать – и тебе станет легче. Мне действительно не хочется беспокоить ее своим состоянием, которого я сам не понимаю и страшусь.
Инна несколько секунд выдерживает паузу. Она любит это делать, как бы пристально вглядываясь в сидящего перед ней человека, словно говоря про себя: «Думаешь, я не понимаю, о чем ты сейчас думаешь? Вот сейчас я изучу тебя и все пойму».
Но она смотрела и ничего не понимала. Ее взгляд был не очень пристальным. Она не унывала. Инна давно уже надрессировала себя вот так стараться что-то понять, не раздражаясь и не отвлекаясь. Так ей легче работалось и зарабатывалось. Так ее научили аккуратно сложенные на полке книги по психологии американских и русских авторов. Здесь же стояли оставленные мною еще с поры первого нашего с ней гражданского брака «Братья Карамазовы», Акутагава и Сэлинджер, но Инна говорила, что эти книги про сумасшедших, «а сумасшедших, как ты знаешь, я не люблю».
– Тебе плохо со мной? – спрашивает она.