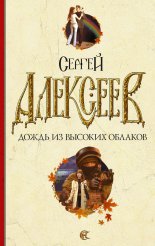Адаптация Былинский Валерий
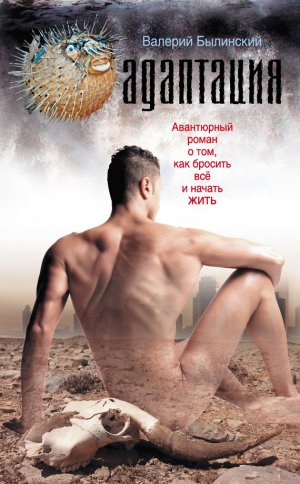
– Когда-то я здесь был. Зайдем?
Купив на входе билеты, мы стали подниматься по ступеням на второй этаж. Был слышен гул музыки – поднявшись, мы увидели, что на сцене играет рок-группа, а зал до отказа забит танцующими. Было странно смотреть на двадцатилетних людей, танцующих под «Дым над водой». Двадцать лет назад мы с точно такими же глазами танцевали под эту же музыку. И наши старшие братья и сестры 30 лет назад тоже танцевали под Deep Purple.
Музыка закончилась, музыканты объявили перерыв. Мы с Лизой прошли во второй зал, где официант нашел нам свободный столик. Мы заказали телячьи отбивные, греческий салат, лимонад и две самбуки. Принеся горячую самбуку в бокалах, официант перелил ее в небольшие стаканы и поджег.
– С днем рождения, – сказала Лиза, поднося мне свой стакан. Мы чокнулись, выпили каждый свою порцию самбуки и вдохнули остатки ее паров через трубочки из перевернутых бокалов.
– А здоровски тут, – сказала Лиза с блаженной улыбкой и сощуренными глазами, – что они пели, не знаешь?
– Это музыка моей молодости. Deep Purple. Мы их вообще-то попсовой командой считали. Забойные работяги с несложными текстами. Но теперь они уже аристократы. Странно, что такую музыку до сих пор слушают.
– Почему странно? Я-то не старуха, а твои взгляды разделяю, – сказала с серьезным видом Лиза. – Все это деление – для молодых, для взрослых, мудистика какая-то! Нет никакого деления, есть хорошее или плохое! Я когда маленькой была, изо всех сил всякими взрослыми делами интересовалась. И папа мне в этом не отказывал…
Лиза погрустнела и опустила голову.
– О, давай-ка я покажу тебе подарок. Забыл? Смотри… – обернувшись, она полезла в висящий на спинке стула свой маленький рюкзак.
Меня что-то глухо стукнуло внутри в груди и сбило дыхание.
Я встал:
– Подожди, мне надо… сейчас я, – глядя на нее, я беспомощно улыбался.
Музыканты уже поднялись на сцену и готовились начать играть. Войдя в туалет, я вытащил из кармана мобильный, затем визитную карточку главного редактора «Органайзера» Татьяны Латвийской. Набрал ее номер. После пяти или семи гудков раздалось ее «алло».
– Привет, это я.
– А? Привет, Саша! – выкрикнул ее далекий веселый голос на фоне музыки. Похоже, она тоже была в каком-то баре.
– Судя по твоему голосу, – услышал я, – ты хочешь сказать, что не принимаешь мое предложение?
– Да… – с замороженным удивлением кивнул я.
– Ну так отлично! – звенел ее голос. – Все, что с нами случается или не случается, Саша, заранее запланировано. Я думаю, где-то там, наверху, на каждого из нас давно составлен свой бизнес-план. А мы с тобой хотели эти планы нарушить. Не вышло. Я рада, что ты отказался, Саша, честное слово!
– Я тоже.
– Отлично! Надеюсь, ты все еще счастлив? Не забудь дописать свой роман. Это существенная часть твоего бизнес-плана. Выполняй его. Ну все, пока!
– Пока, Таня.
Я вошел в зал – Лиза, сидя за столом, смотрела в свою записную книжку. Заметив меня, она закрыла книжку и подняла на меня лицо с большими блестящими глазами и длинной улыбкой.
– Ну что, – сказал я, садясь на свое место, – что у тебя там за подарок?
Еще больше удлинив улыбку, Лиза выложила на стол четыре пластиковые кредитные карты разных платежных систем.
– Что это?
– Наши с тобой деньги. Я продала свой дом в Ярославле за страшно много денег – двести тысяч долларов. И перевела деньги на эти карточки. Наличными у меня тоже есть тысяч десять в рублях. Только не спрашивай, зачем я это сделала – дом нам с тобой не нужен, потому что жить мы в нем не будем. А твоей зарплаты с «Оргазма» нам надолго не хватит.
Я смотрел в ее блестящие глаза. Было что-то в ней такое, что отметало вопросы.
– Ты веришь в Бога? – спросил я Лизу.
– Так же, как и в тебя, – чуть помолчав, ответила она, не отводя от меня блестящего взгляда.
Мы молчали.
Мир вокруг нас затуманился и стал ватным. Вскоре сквозь вату воздуха стали просачиваться тягучие звуки приближающейся песни:
- I’ve been mistreated, I’ve been abused.
- I’ve been struck downhearted, baby, I’ve been confused…
– Когда-то я под эту песню влюбился, – сказал я. – В десятом классе, в одну девчонку. Мы с ней танцевали, и я влюбился… Это было в десятом классе.
– Пойдем влюбляться? – робко улыбнулась Лиза.
Я кивнул и встал. Держась за руки, мы пошли в зал. Там в темноте медленно танцевали десятки мужчин и женщин, а другие вокруг стояли и молчали. Мы были как дети, и в то же время невероятно взрослыми. Вплыв в море людей и звуков, мы стали медленно качаться в волнах поднимающейся в небо и опускающейся к земле музыки.
– Cause I know, yes, I know – пел двадцать лет назад, закрыв глаза и задрав голову, Кавердейл. – I’ve been mistreated…
– Since my baby left me I’ve been losing my mind… – пел парень на сцене «Рок-Вегаса».
– Я хочу тебя, родная, – прошептал я Лизе в ухо.
– Я тоже тебя страшно хочу, мой лучший человек, мой хочуча… – плыл ко мне ее голос.
В такси мы сидели обнявшись и погрузив руки друг в друга.
Приехав домой, мокрые и полоумные, мы упали в одежде на кровать, не раздеваясь, бесконечно входили друг в друга, достигали пика телесной радости и затем облегченно, с внутренним хохотом и космическим ознобом скатывались с этой вершины, словно со снежной горы. А затем вновь и вновь, таинственным образом отыскивая в себе новые силы, взбегали и восходили вверх. Во время очередного восхождения мы, словно заколдованные, вдруг застыли на полпути, склеили веки и блаженно уснули на теплой траве солнечного склона Эвереста любви.
Солнце, начав гаснуть, снова каким-то чудом разгорелось и стало, как и прежде, греть нас обоих.
Солнце не погасло, не погасло!
Это уже было какое-то новое тепло – мы чувствовали, что оно не кончится никогда.
Бедняги физики, они вечно изобретали вечный двигатель и мучились, не находя способа избавиться от законов трения. Мой отец рассказывал, что когда-то, в институте в пятидесятых, он, как и многие его сокурсники, страстно увлекался идеей придумать вечный двигатель. Но никто так ничего и не смог изобрести.
Как придумать движение в безвоздушном пространстве, чтобы части двигающихся механизмов не соприкасались – вот в чем состояла неразрешимая задача вечного движения!
Мы с Лизой ее разрешили. Мы двигались благодаря исходящей от любви силе, и эта сила, – мы точно знали, – никогда не иссякнет, только если мы сами ее не остановим.
Как сделать, чтобы чувства не угасли?
Остывание любви – все равно что трение для шестеренок псевдовечного двигателя…
Как сделать, чтобы колеса любви не начали соприкасаться с поверхностью дороги жизни? Как сделать, чтобы трение не началось?
Дорога, как и жизнь, совсем ни при чем. Никакие физические законы здесь ни при чем. Все дело в людях, позволяющих или не позволяющих угаснуть чувству любви.
Женщина, с которой можно плакать
Ночью, часа в два, за окном ударила молния и начался дождь. Гром громыхал все сильнее, казалось, что водяной ураган вот-вот ворвется к нам в комнату. Лиза спала, а я подошел к окну. Воздух за окном был похож на прозрачный океан, в котором идет дождь. Дождь под водой. Я прикрыл окно, зашторил его, вернулся к кровати и лег рядом с Лизой под одеяло. Смотрел на нее, спящую. Она лежала на спине и, казалось, смотрела из-под сомкнутых век куда-то далеко вперед перед собой, словно зачарованная какой-то изумительной и в то же время трагической мыслью. При этом она чуть-чуть улыбалась. Я обнял ее, и она повернулась ко мне. Мы прижались друг к другу. Чувствую, что она полупроснулась и полувидит меня. А во мне, кажется, впервые в жизни, проснулось что-то, оказавшееся сильнее желания войти в ее тело.
Это новое чувство окутало нас обоих и, когда мы очутились в нем, сразу почувствовали, насколько оно мощнее, человечнее и добрее секса.
Дождь ровно льет за окном. Я прижимаю к себе Лизу и какое-то время мы касаемся носами, ресницами глаз, дышим друг другу в рот. Потом я ложусь на спину и глядя сквозь светящуюся темноту над собой, вспоминаю, как мать за несколько часов до смерти все-таки узнала меня. Я был для нее в другом возрасте, лет восьми-девяти, когда приходил после продленки домой из школы, а она буднично говорила отцу: «Игорь, накорми Сашу». Теперь я, тридцативосьмилетний, стоял перед нею, помрачненной умирающей семидесятилетней женщиной – и она, словно только что заметив своего сына-школьника, буднично бросила заглянувшему в комнату отцу: «Игорь, накорми Сашу».
Копившееся во мне слезное море всколыхнулось, поднялось, хлынуло и начало вытекать из глаз. Нос заложило. Я вспоминал мать и трясясь, плакал, почти не стесняясь лежащей рядом Лизы. Горло и нос душили спазмы; вскоре я громко стал втягивать через нос воздух, потому что уже не мог дышать. Лизины теплые тонкие руки обвили меня, прижали мою голову к своей маленькой, очень теплой груди.
– Все хорошо, мой мальчик, – говорила она светящимся голосом моей мамы, – мой родной, поплачь, это пройдет, сейчас это пройдет…
Ее сердце стучало маленьким стуком, словно птенец пытался выбраться из яйца.
Меня трясло, я вытирал слезы простыней.
– А если сейчас это не пройдет, – говорила она, гладя меня ладонями по волосам, – то и ладно, пусть и не проходит никогда. Плачь, плачь даже вечно. Я хочу, чтобы ты плакал всегда, а я буду тебя жалеть, буду очень тебя жалеть, мой родной…
Слезы. Наводнение на опустевшую, засохшую пустыню. Наступление Красного моря. Поглощение красотой безжизненности. В пустыне снова зацветают цветы и деревья, выбегают на пастбище олени и буйволы, к которым начинают подкрадываться, пригибаясь в траве, тихие львы и гибкие гепарды.
Одно из чудес, вспыхивающих, словно искра, между мужчиной и женщиной, если они любят друг друга – то, что при любимой женщине ты можешь заплакать.
Лиза лежит на мне, подперев подбородок длинными пальцами своих рук. Она смотрит на меня. Ее лицо в прозрачной полутьме воздуха спальни кажется вечным.
– Мне кажется, – фосфоресцируют ее слова, – что твоя мама сейчас видит нас. Знаешь, она смотрит сверху на нас обоих и радуется за тебя…
– Ты думаешь? – с распухшим носом и горлом говорю я.
– Нет, не думаю, – звучит свет ее голоса. – Я верю.
– Я тоже.
Сид и сила свободы
– А ты слышал, – перегнувшись через стол в кафе, где мы завтракали, сказала Лиза, – чтобы вернуться в рай, надо снова пройти испытание яблоком.
– Это как?
– Ну, чтобы обратно в рай войти, нужно пройти через то же испытание – то есть не соблазниться плодом, который опять поднесет тебе змей. Если был охраняемый выход из рая, то должен быть и охраняемый вход, по логике?
– Кто тебе сказал?
– Мне это сказали словами в тексте, который я прочитала. Сегодня в Интернете. Есть такая служба, рассылка философизмов, я на нее подписалась еще учась в универе, тебе присылают на ящик разные прикольные философские изречения разных времен и народов. Бывают, конечно, попсовые и глупые мысли, но сегодня мне понравилось. Я дословно не помню, но смысл такой.
– Где-то я уже это слышал. Ты не помнишь, кто автор?
– Помню. Сид.
– Как… Сид?
– Ну так, Сид и Сид. Умный парень, там у него есть много интересного про наше время и про то, что либеральная идеология нуждается в новом Лютере…
– Слушай, ведь это же мой друг был…
– Друг? Почему был?
– Потому что он умер. Помнишь, я тебе рассказывал, что у меня был очень хороший друг и его одна сволочь убила…
– Так это был Сид?
– Он.
– Я хочу с ним познакомиться.
– Что?
– На свете все остается, и хорошее и плохое, Са. Ты мне расскажешь о нем, вот я с ним и познакомлюсь. А потом мы пойдем на его могилу. Когда я прихожу на могилу бабушки – к родителям на могилу я не могу поехать, они в Грозном, – то чувствую все ее главные мысли и слова. То есть получается, что в жизни мы много говорим неглавного, а после смерти – только самое важное. Ну ладно, путешествия-то это не отменяет! Мы ведь уже родились, так что пора отправляться. Если и встретим какое-то дерево на входе, то уж вдвоем мы как-то с ним справимся. С какой стороны мы в него заедем, Саш?
– В рай?
– Йес.
– Можно хоть с этой улицы, на которой мы сейчас сидим. Встанем и пойдем в рай.
– Это очень близкий вход, – засмеялась Лиза. – Зря я, что ли, дом продавала? Слушай, ты в других землях земли часто бывал?
– Приходилось иногда.
– Где?
– В Европе, Турции… да как все сейчас.
– А я нигде не была. Так, давай начнем с Африки. Или с Австралии. Или, слушай, а что если на Кирибати? Помнишь, ты рассказывал, там все равно, где право а где лево, и можно имена менять каждый месяц.
– Лиза, я боюсь, что так быстро уехать нам не удастся.
– Почему?
– У тебя паспорт заграничный есть?
– Не-а… – Лиза скорчила скептическую гримасу.
– Ладно, если заплатим, быстро сделают. Но все-таки придется подождать.
– И все из-за каких-то дурацких бумажек? – Лиза покачала головой. – Абсурд какой-то! Почему так? Слушай, интересно, нам хватит денег, чтобы проехать вокруг света?
– Хватит, я думаю… Да какая разница, хватит или нет! Поедем и все, хоть куда-нибудь, раз решили.
– Ну вот, наконец-то! – засмеялась Лиза и сжала обеими руками мою ладонь.
Мы заплатили в туристическое агентство тысячу долларов и заграничный паспорт для Лизы был сделан за неделю. О визах в Великобританию, Австралию или в США нас в этом агентстве сразу попросили забыть: вы не женаты, сказали нам, не имеете постоянного места работы, к тому же Лиза ни разу еще не была за границей, так что несмотря даже на наличие денег на банковском счете, визы в эти страны получить будет крайне сложно. Кирибати мы долго искали на карте, потом, когда нашли, выяснилось, что лететь туда надо с пересадками в нескольких странах и подобный маршрут турфирма организовать сможет не раньше чем через месяц. Когда мы заговорили о шенгенской визе, нас вновь попросили принести справки с места работы. Пришлось повторять, что мы нигде не работаем.
– Концлагерь какой-то, а не мир, – возмущалась Лиза, стоя посреди комнаты агентства. – Туда нельзя, потому что работы нет, сюда нельзя, потому что мужа нет… Бред какой-то! Правильно? Как вы думаете? – спросила она у туроператора, молодой девушки с правильным заученным выражением лица, старше Лизы года на три.
Турператор, на секунду забыв о выражении своего лица, с интересом посмотрела сначала на Лизу, а потом на меня. Потом сказала, что если бы у нас на банковском счету была бы весомая сумма, скажем тысяч сто рублей, и мы могли бы это подтвердить выпиской из банковского счета, то она попыталась бы нам оформить шенгенскую визу в максимально короткий срок.
– Ну вот он, рай, вход только за деньги! – засмеялась, посмотрев на меня, Лиза и картинно вскинула руку в пионерском салюте. – Яволь! Мы в состоянии заплатить за вход в рай. Какой банк нужен? – она извлекла из рюкзака кредитные карточки, – или все сразу подойдут?
Девушка-туроператор взглянула на нее уже более умиротворенным взглядом (видимо, сообщение о нашей платежеспособности успокоило ее) и сказала, поворачиваясь на вращающемся кресле к экрану компьютера:
– Что ж, посмотрим, куда мы вас можем отправить… Значит, Европа? Так, здесь все забито, тут… мест нет… Здесь тоже не втиснуться… Ага, вот есть окно! Двое молодоженов отказались от тура в Германию и Чехию. Что ж, давайте-ка нам срочно подтверждение вашей платежеспособности, и я попробую сделать вам шенгенскую визу через Германию. Вылет в Кельн через три дня. Вас этот вариант устраивает?
– Са, ты как? – Лиза посмотрела на меня.
– Вполне, – кивнул я, – тем более что шенгенская виза даст нам право въезда в другие страны Евросоюза.
– Хочу вас предупредить, – отвернувшись к компьютеру и поджав губы, сказала туроператор, – что если немецкое посольство откажет вам в визе, деньги за стоимость тура не возвращаются. Дело в том, что посольство Германии, как, впрочем, и посольство любой другой страны, оставляет за собой право без объяснения причин…
– Са, заплати скорее, – насмешливо перебила ее Лиза, – и пошли куда-нибудь пива попьем. Поговорим о чем-нибудь более интересном, чем всякие права-неправа.
Через два дня нам позвонили и бодрый голос девушки-туроператора сообщил, что виза готова и послезавтра мы можем вылететь в Кельн.
За день до отлета, ближе к вечеру, мы с Лизой поехали на могилу Сида. Был красно-синий солнечный закат, когда тени казались живыми и нестрашными, и нас, идущих по мягкой разрыхленной земле, касались осторожно и нежно. Мы подошли к деревянному и уже потемневшему кресту. Лиза, внимательно глядя сквозь землю, наклонилась и положила на могилу свежий букет светло-зеленых хризантем. Вокруг был лес могил других людей, и они смотрели на нас крестами и надгробиями, словно молчаливые, задумавшиеся о чем-то лица.
– Я вижу его там, – сказала Лиза, глядя нахмуренными глазами куда-то вперед, в лес могил. – Я чувствую, какой он был, и я понимаю, как… – она посмотрела на меня, и я увидел, что ее глаза влажно блестят.
– Мне кажется еще, что я с ним дружила, – продолжала она, глядя вниз. – Да, мы были попутчиками в метро. Несколько раз выходили на одной станции, бродили по улице, разговаривали о чем-то очень интересном. Заходили в церковь. Кажется, на Белорусской. Там есть церковь?
– Есть, – сказал я. Старообрядческая. Белая такая.
– А потом он уходил от меня, и я сама спускалась в метро и ехала. Раза два или три я снова случайно встречала его в метро. Он здоровался со мной, мы снова выходили наружу, на улицу и шли гулять. Мы всегда говорили на умные и страшно главные темы. А потом… Однажды я снова встретила его в вагоне метро. Сид – он сидел один в углу на боковом сиденье – посмотрел на меня, кивнул, улыбнулся и долго смотрел так, что словно все уже кончено, и никуда мы в этот раз вверх, наружу, на улицу не пойдем. Я как-то сразу поняла, что все закончилось. И тоже ему улыбнулась. На какой-то станции я вышла, поднялась по эскалатору вверх, а он поехал дальше, освещенный желтым светом электропоезда. Улыбающийся и погруженный глазами в самого себя.
Она замолчала.
Одновременно мы протянули друг другу наши руки и сплелись пальцами. Лизины пальцы были прохладнее моих, тонкие и стройные, и в этот момент из всего ее тела я любил ее пальцы больше всего.
Так, не глядя друг на друга, близкие как никогда, держась за руки, мы повернулись и пошли от могилы. Мне казалось, я вижу, как Сид смотрит нам вслед своим чуть насмешливым, но в то же время очень чистым, невероятно чистым взглядом.
На следующий день мы улетели в Кельн.
В самолете, во сне, меня окутало странное, похожее на колышущийся шар видение. Я будто бы находился в прозрачном коконе, в котором не существовало времени – но тем не менее картины разных времен моей жизни со всех сторон окружали меня. Одно из времен – там, где я был восьмилетний – смотрело на меня сверху. Другое, то, что происходило перед смертью матери – сбоку. Где-то сзади, за спиной – я чувствовал это – находилось то, что скоро случится со мной в будущем. Третьи, четвертые, пятые, сотые и миллионные мои времена мириадами цветных картинок калейдоскопом вращались со всех сторон, словно бесконечный парад планет. От каждой картинки тянулся ко мне прозрачный, похожий на хрустальную нить луч – и в этих сотнях тысяч, триллионах скрещивающихся лучей я менял каждым движением и каждой мыслью что-то очень важное в своем будущем, настоящем и прошлом.
А может, и в жизни всех нас.
– Дамы и господа! Просьба застегнуть поясные ремни. Наш самолет совершает посадку в аэропорту Кельна…
За окном все сверкало. Солнечные лучи заливали прячущийся внизу город.
Где-то в Интернете
«Восстановление советского государства и плановой экономики явилось бы действенным фактором экономического роста России. Всем памятны успехи в экономическом развитии страны в годы сталинских пятилеток. При сохранении капиталистического строя, считают коммунистически настроенные жители России, солнце погаснет раньше, чем кончится запланированный свыше срок его горения.
Впрочем, независимо от наших идеологических предпочтений, попробуем представить, что произошло бы с Землей и с населяющими ее людьми, если бы мировое светило, не состоящее ни в одной из известных политических партий, действительно погасло?
Солнечное излучение определяет тепловой баланс суши, океана и атмосферы. За пределами земной атмосферы на каждый кв. м площадки, перпендикулярной солнечным лучам, приходится чуть больше 1,3 кВт энергии. Суша и водные просторы Земли получают примерно половину этой энергии, а в атмосфере поглощается около одной пятой ее части. Остальная часть солнечной энергии (около 30 %) отражается обратно в межпланетное пространство, главным образом земной атмосферой.
Трудно себе представить, что случится, если лучи перестанут согревать Землю! Арктический холод быстро окутает нашу планету, тропики занесет снегом. Замерзнут реки, стихнут ветры, а океан промерзнет до дна. Зима наступит внезапно и всюду. Начнется сильный дождь, но не из воды, а из жидкого воздуха (в основном из жидкого азота и кислорода), который моментально замерзнет и семиметровым слоем покроет все вокруг. Никакая жизнь не сможет сохраниться в таких условиях.
К счастью, ничего подобного произойти не может, по крайней мере, внезапно и в обозримом будущем. Зато описанная картина достаточно наглядно иллюстрирует значение Солнца для Земли.
Солнечный свет и тепло были важнейшими факторами возникновения и развития биологических форм жизни на нашей планете. Энергия ветра, водопадов, течения рек и океанов – это запасенная энергия Солнца. То же можно сказать и об ископаемых видах топлива: уголь, нефть, газ. Под влиянием электромагнитного и корпускулярного излучений Солнца молекулы воздуха распадаются на отдельные атомы, которые, в свою очередь, ионизуются. Образуются заряженные верхние слои земной атмосферы: ионосфера и озоносфера. Они отводят или поглощают губительное ионизирующее и проникающее солнечное излучение, пропуская к поверхности Земли только ту часть энергии Солнца, которая полезна живому миру, к которой приспособились растения и живые существа – люди».
Если верить, что все появляется неспроста и для чего-то предназначено, то совершенно ясно, что Интернет есть полное информативное отражение существующего мира. В Интернете, в этой единой огромной библиотеке человеческого рода, есть все, что этот род волнует, радует, печалит, красит, позорит, уничтожает, возрождает. То есть человек, подключающийся к Интернету, в общем-то, действительно познает реальность. Но только, в отличие от реальности реальной, Интернет – это одна информация, и больше ничего. Здесь нет мыслей и чувств, возникающих при соприкосновении с теплым живым человеком, животным, травой, песком, землей, деревом, снегом, водой. «Знаешь, зачем к нам прилетают инопланетяне? – с серьезной улыбкой говорил мне в детстве отец, когда я, начитавшись книжек про НЛО, мечтал, что встречу летающую тарелку и познакомлюсь с теми, кто сидит в ней. – Они прилетают для того, чтобы на дождь посмотреть. Понимаешь? Приземляются, выходят из своей тарелки, становятся над нашим обычным днепропетровским дождем и стоят, стоят, долго стоят под ним, мокнут… И так им хорошо под дождем!»
Поэтому, может быть, и коммунизм потерпел крах, потому что человек коммунистический стал тосковать по ветру и запаху дальних странствий. Ведь коммунизм – это тоже идея, почерпнутая из книг и учений. А капитализм, где каждому дана свобода как бесконечно развиваться, так и бесконечно давить себе подобного, есть порождение реальности реальной. Но закон джунглей, который восхищал меня в юности, когда я читал Джека Лондона и Ницше, теперь вызывал у меня омерзение и тоску. Разве такая реальность, построенная на принципе выживания сильнейшего, справедлива для нас, человеков?
Может быть, существует какая-то другая, главная, первичная реальность, которую нужно просто вспомнить?
Мы мечтаем о романтике закона джунглей тогда, когда у нас его еще нет.
И наоборот, бежим от него, когда он появляется.
Просто вспомнить.
Помните, как нас восхищали редкие американские и европейские боевики, прорывающиеся на советские экраны в восьмидесятые годы прошлого века?
А сейчас с тупым умилением и плачущей душой мы смотрим советские фильмы семидесятых.
Что надо тебе, человек?
Просто вспомнить.
Идея социальной справедливости, которая время от времени вспыхивает и поджигает людей, а потом все-таки гаснет – попытка стать верующими без веры. Поэтому такая идея обречена на провал. А также и на то, чтобы вновь вспыхивать и разгораться – ведь ближе к Богу, чем коммунизм, теории человеческой справедливости, в мире не существует.
Но и Бога в ней тоже нет.
А у тебя – есть?
– Я иногда думаю, почему же мир не оказался великим…
– Таким, каким он нам представлялся в детстве и в юности, да?
– Да.
– Да… знаешь, я тоже иногда думаю об этом. Но может быть, он не оказался великим потому, что на самом деле для него оказалось важно что-то другое.
– Что – другое?
– Может быть, жизнь в мире – просто испытания для человека. И когда мы в юности думаем, что мир прекрасен, это значит, что именно мы рождены свободными и прекрасными, но не мир. И это значит, что не нужно, когда становишься взрослым, надеяться на то, что все вокруг тебя останутся чудесными и добрыми, какими казались в детстве. Просто именно тебе нужно стараться оставаться великим, свободным, прекрасным и добрым. Ведь мир без человека – ничто.
– Что ж. Может и так.
– Конечно, когда большинство против тебя или думает не так, как ты, – это очень непросто. Но ведь все равно все дело в тебе. Ты же есть ты, забыл? Нищий или богатый, средний или ничтожный – ты. И тебе одному за себя отвечать. Если бы ты знал, как тяжело за себя отвечать… Если бы знал. Готовься.
Дом в волшебных очках
Знакомо вам ощущение: если сильно выпил с вечера или не спал всю ночь – то ранним утром, когда выйдешь на улицу и посмотришь на мир, он станет более прозрачным, чем раньше. И те его стороны, что ты давно уже не замечал, высветятся специально для тебя каким-то особенным внутренним светом. У нас было так же, хотя мы не напивались и спали ночью, и бодрствовали днем. Европа, где я бывал раньше несколько раз, высветилась иначе. Весь Кельн поблек и слился с текущим мимо Рейном, зданиями на берегу, возвышая над собой только одно темное и величественное сооружение, которое немцы называют Дом. Кельнский собор. Это было странно – все исчезает и пропадает, и только Дом стоит раздвоенной, остроконечной, устремленной в небо дорогой.
– Это неудивительно, – сказал нам молодой улыбчивый немец по имени Йохим, с которым мы разговорились на вокзальной площади перед собором, – есть такая теория, что на земном шаре все вещи делятся на настоящие и второстепенные. Второстепенные – это сорняки, которые, впрочем, нужны для поддержания жизни, потому что мир не является идеальным. А если бы он был идеальным – сорняки бы завяли. Но так не бывает, без сорняков нельзя. В одной немецкой сказке маг дарит герою волшебные очки, через которые можно видеть только настоящих людей, здания, вещи, а все второстепенные исчезают, как будто бы их и не существовало никогда. Вот Дом – он настоящий. В войну Кельн был разрушен, и только Дом остался, – говорил нам Йохим, когда мы шли по улице, удаляясь от собора. – В любом месте, в любом городе можно найти свой Дом.
Йохим хотел угостить нас истинно кельнским пивом – кельшем. Но куда бы мы ни заходили, везде подавали какое угодно пиво, но только не кельш. Йохим с растерянной улыбкой разводил руками: вот это да, не думал, что в моем родном городе будет трудно найти кельш! Может, бармены перестали носить волшебные очки? – смеялась Лиза, и я переводил ее слова на английский. – Ладно, – сказал в конце концов Йохим, – я знаю, где кельнское пиво есть точно, но только вы не смущайтесь.
Мы пришли в бар для геев, отодвинув пластиковые шторы при входе, и нам действительно принесли в невысоких и узких, похожих на мензурки стаканах, пиво. Оно было особенно вкусно тем, что было кельшем. «Главное – индивидуальность, – кивал Йохим. – Как говорил Ницше, „главное, не спутайте меня с кем-то другим“.
Речь Йохима лилась Рейном, мы слушали его и вставляли свои втекающие в его поток реки, причем, несмотря на полное незнание Лизой английского, на котором Йохим говорил лучше меня, они оба хорошо и радостно понимали друг друга. Ничего в жизни не бывает случайно и все для чего-нибудь нужно, – уютно кивал Йохим с мензуркой пива в руке. Да, недаром он встретил нас в этих самых волшебных очках, вычленяющих из мира главное и отбрасывающих вторичное. «Как ты думаешь, – спрашивал я Йохима, – эти очки общие для всех людей или у каждого они свои?»
«Это все равно что поиск истины, друг, – с задумчивой улыбкой отвечал немец, – как ты думаешь, может быть истина у каждого своя? Если так, то было бы шесть миллиардов Домов, а не один. Или миллиарды солнц, у каждого разные. Но солнце у всех одно, и греет всех одинаково. Конечно, истина может быть раздроблена на осколки, как в одной индийской сказке, где рассказывается о том, что сначала истина была дарована людям в виде необыкновенно красивого драгоценного сосуда. По приказу Вишну вся сила и красота истины была воплощена в хрустальном сосуде, увидев его, каждый понимал, в чем же заключается истина. К сосуду, установленному высоко в горах, началось паломничество. Но когда дьявол понял, что скоро все люди на земле познают истину, он превратился в орла, схватил когтями сосуд, взлетел высоко в небо и бросил его вниз. Истина разбилась, с тех пор ее осколки разбросаны по всему миру. И теперь, чтобы найти истину, нужно как можно больше путешествовать и собирать эти осколки, а не сидеть дома и довольствоваться только одним блестящим кусочком.
– А знаете, что больше всего интересно? – говорил через пару часов Йохим, заказав всем по пятому кельшу. – То, что время иногда меняется. Вот как сейчас. С вами, ребята, я становлюсь моложе – теку, как вода, назад, в то время, когда я только закончил университет и поехал на практику в Ленинград. Я еще не был женат, это сейчас у меня жена и трое детей… Честное слово, мне сейчас кажется, что у вас в России еще только началась та самая перестройка, которая сделала вашу страну похожей на остальные страны. И ваш русский капитализм все еще в зародыше, и социализм еще не кончился… Честное слово, – улыбался Йохим, – посижу тут с вами еще час, два и стану школьником, а потом младенцем, и втеку обратно в свою маму. Я становлюсь моложе не от воспоминаний, нет… А будто возвращаюсь куда-то, во время, когда я не был таким искушенным… Пожалуй, еще один кельш, и пойду к детям и жене!
Мы посмеялись над этими его словами, и заказали еще по «кельшику», как прозвала Лиза маленькие порции пива, и обнялись потом, как старые друзья или родственники, и расцеловались на прощанье. Мы не знали, что дед Йохима был один из тех солдат в черной форме, въезжающих в грузовике на левый берег Днепра, что мой дед, будучи командиром «тридцатьчетверки» на Курской дуге, убил деда Йохима прямым попаданием снаряда, выпущенного по его приказу. Дед Йохима пронзал уверенным солнечным взглядом горизонт за рекой Днепр в 41-м, а мой дед обрел точно такой же огненный и пронизывающий любую жизненную броню взгляд летом 1943-го. Они оба были очень сильны, наши деды. Но сила – категория, лежащая вне нравственности, она может служить как добру, так и злу. Я не знал, как и Йохим, что его дед однажды летом 1942-го, сопровождая колонну пленных красноармейцев, выпустил автоматную очередь поверх головы украинской крестьянки, бросавшей в колонну голодных солдат хлеб и овощи, и снес этой очередью полголовы ее четырехлетнему сыну, наблюдавшему за происходящим с забора. Дед Йохима слышал, как мать завопила и бросилась к убитому ребенку, но не обернулся, сжимая руками MP-40 и зубы, бормоча про себя закаляющую силу воли скороговорку: «Так, спокойно, это не я, это война, это не со мной, это война, это на войне, это война…» Интересно, что было бы с нами, если бы каждый узнал о себе и своих знакомых больше, чем мы знаем сейчас? А если бы о нас, о том, что мы тщательно скрываем даже от самих себя, узнали другие? Все злое и доброе – узнали бы?
Адам и Ева, вкусивши сочного плода, узнали многое из того, что существует на самом деле, – и после этого не смогли жить в раю.
Так может, счастье в неведении?
Мои украинские родственники и дальние знакомые, с которыми я общался, когда был в Днепропетровске, уверяли, что сейчас стали хуже относиться к России и русским, потому что узнали многое, чего раньше не знали. У них появилось чувство гордости за свою маленькую страну, хотя большинство из них были этническими русскими и не говорили на украинском. Они вдруг полюбили украинскую культуру и историю, хотя раньше не интересовались ею. Если я не разделял этой любви, это печалило и даже злило некоторых из них. Новые знания всегда в чем-то трагичны. Может, счастье не в неведении, а в том, насколько истинно знание, которое ты узнал?
Что значит – истинное?
Может быть, истинно оно, только когда говорит человеку о заключенном в нем добре. Только о добре – без капли пусть и существующего на самом деле зла.
А узнавание зла делает нас еще злее…
Прощаясь с Йохимом, я не узнал его номер телефона или электронный адрес – почему-то я чувствовал, что это совсем не важно, что это лишнее.
– Ребята, носите ваши волшебные очки, не снимайте, – обернувшись, громко сказал нам Йохим и помахал рукой. Он и вправду стал какой-то юный, худой, смешной, хотя, когда мы встретились на площади возле Кельнского собора, казался ненамного моложе меня.
Улыбаясь, Йохим опустил руку, повернулся и стал спускаться по лестнице вниз, туда, где странствует маленький кельнский подземно-наземный трамвай.
Ближе к вечеру мы зашли в Дом. Нас окутал светящийся сумрак готической старины с цветными островами витражей. Мы поднялись по витой лестнице на одну из башен. Странно, внизу было так тихо, а здесь завывает ветер. Как в человеке, который внешне, внизу, спокоен, а где-то в вершинах его личности бушует шторм. Говорят, что союзническая авиация, бомбившая Кельн, не разбомбила собор лишь потому, что Дом был отличным ориентиром для пилотов, сверявших его местонахождение с картой и определявших, где находятся предназначенные для уничтожения объекты. Вот, пожалуй, тоже знание, которое не стоит знать.
Неужели Сид был неправ, когда искренне хотел говорить только правду?
А может… может, он как раз хотел говорить только то, что несло бы в его словах любовь?
Или я ошибаюсь?
Вспомни, вспомни… как же было на самом деле?
Человек движется к истине, хочет он того или не хочет.
Вот только к какой – доброй или злой?
Мне и в голову раньше не приходило, что истина может быть двоякой. Вернее, что есть только одна истинная сторона истины – доброта. А то, что озлобляет, несмотря на открывшуюся правду – всегда ложь.
Почему я только сейчас задумался о том, как именно пытался говорить свою правду Сид? Не потому ли, что я был замурован в собственные страдания о самом себе? Уныние, человек в человеке, злоба внутри добра.
Как же бывает все поздно, как!
Вот сейчас бы, сейчас, встретить Сида и спросить. Сид, скажи, Богдан, скажи…
Призрак праздника, который с нами
На следующий день, проходя по одной из улиц, мы увидели вывеску агентства по аренде автомобилей. Как явствовало из вывески, мы могли стать попутчиками любого автопутешественника в любую точку Европы – для этого нужно было оплатить расходы на топливо владельцу машины, с которым нам окажется по пути. Это нас устраивало, так как водительские права я оставил в Москве. Я поинтересовался в агентстве, едет ли кто-нибудь в ближайшее время в Париж. «Да», – сказали мне и указали на женщину в красной куртке, разговаривающую по мобильному телефону неподалеку от нас.
– Привет! Вы откуда? Из России? Никогда не была в вашей стране. Я из Великобритании, меня зовут Энн.
Энн выезжала на арендованной машине в Париж прямо сейчас. Мы с Лизой сели в ее маленький красный «Форд» на заднее сиденье и отправились в путь.
В дороге Энн после первых банальных вопросов о жизни в России, на которые мы отвечали столь же общими фразами, стала рассказывать о своей жизни с мужчинами. Я не очень понимал, что она говорит, из-за быстроты ее речи, но в конце концов – хоть я и не просил – Энн стала говорить медленнее и четче. Она рассказала, что разошлась со своим мужчиной, с которым долго встречалась, но теперь чувствует, что все-таки любила его, что он уехал в Америку, что они созвонились и договорились, что она полетит к нему, но потом, когда она вновь позвонила ему, ей сказали, что он умер. Умер от остановки сердца, говорила Энн, ехал в машине за рулем, здоровый цветущий парень, и у него внезапно остановилось сердце, он врезался в столб и врачи не сразу смогли понять, от чего наступила смерть. Ему было тридцать четыре года, – говорила Энн, – мне сейчас тридцать, и было все это больше года назад.
Я выразил какие-то корявые соболезнования, после этого мы некоторое время ехали молча. Лиза склонила мне голову на плечо и закрыла глаза. Я спросил, что Энн делает в Германии. «В Британии высокие налоги, – с натянутой веселостью ответила она, – поэтому я предпочитаю работать за рубежом. В Кельне у меня бизнес в страховой компании. Страхую жизни, – с улыбкой грусти посмотрела она на меня через зеркало. Лиза спала. „Как ты думаешь, загробная жизнь существует?“ – спросила Энн. „Было бы странно, если бы она не существовала“, – ответил я. Энн кивнула. Но только вот она не уверена, что после смерти встретится со своим Эндрю. „Кто знает, может, на том свете нам не дадут встретиться с теми, с кем бы мы хотели“.
Потом она похвалила спящую Лизу, сказала, что она очень красивая и добрая девушка и пожелала нам счастливой жизни вдвоем.
В Париже Энн высадила нас возле собора Парижской Богоматери. Еще один Дом, французский. А в России?..
Был вечер. Мы с Лизой наугад бродили по набережной, попали в Латинский Квартал, забрели в район Монмартра, на Пляс Пигаль, где нас принялись хватать за руки непохожие на французов арабы – худые черноволосые мужчины.
– Пип шоу! – приглушенно орали они. – Секс, месье, для вас и вашей подружки, самый лучший секс в Париже, столице мира, секс номер один в Европе!
Глядя на их чрезмерно улыбающиеся и одновременно скрывающие недовольство лица, я подумал, что со времени моего последнего посещения Франции шесть лет назад арабов здесь стало намного больше. Смешно было в центре Парижа вновь очутиться в Египте.
Несмотря на приставания со всех сторон, настроение у нас с Лизой было отличное: вдвоем проходить сквозь палочные строи жизни всегда легче. Я предложил Лизе откликнуться на один из призывов посетить самое передовое в мире секс-шоу в городе номер один и посмотреть, что из этого получится. Лиза легко согласилась. Думаю, в ней тоже, как и во мне, поселилось чувство, что ты ничего не боишься. Мы вошли за вертлявым, одетым в белые джинсы арабом под арку дома, спустились по лестнице в подвал и очутились в стрип-клубе. Скорее, это была стрип-комнатушка – так можно было назвать темное тесное помещение столиков на шесть-семь, расставленных вокруг круглого помоста с шестом. Вокруг шеста медленно и лениво, не глядя в зал, вертелась негритянка лет тридцати пяти. Кроме нас, здесь был лишь один сгорбившийся над столом седой мужчина. Негритянка на помосте была похожа на колыхающуюся черную медузу.
К нам подскочил улыбчивый худой чернявый официант и стал перечислять какие-то напитки.
– Он думает, что мы его добыча, – шепнул я Лизе. И заказал два пива. Пиво нам тотчас же принесли, вкус его оказался в стиле этого заведения – кисловато-затхлый, пустой. Мы смотрели на лениво танцующую медузу-негритянку, которая, как мне показалось, косилась на нас с сочувствием. И она думает, что мы попались, – смеялся беззвучно я. Откуда во мне эта смелость? Эту бы смелость лет двадцать назад, может, тогда бы моя жизнь иначе сложилась… Иначе? Ну конечно, я стал бы удачливее, адаптировался давным-давно и не встретил Лизу. Как можно обменять Лизу на удачу, скажите мне, а?
Все во мне колыхалось от внутреннего смеха. Нечто подобное тому состоянию, захватившему меня тогда, по дороге в школу. Только сейчас это состояние было нервным, что ли…
На глазах колыхающейся черной медузы я поцеловал Лизу в губы. Затем мы допили пиво, – все-таки любовь умеет превращать воду в вино. Я подозвал официанта и попросил счет. Тот кивнул и исчез. Черная медуза сползла с шеста и уплыла. На подиум вползла бледная, со светящимися голубями венами белокожая женщина лет сорока. Официант принес счет. Я взглянул на листок бумаги: так я и думал, оказывается, мы должны этому кислому заведению четыреста с чем-то евро.
Есть нечто жизненное в том, когда события, которые ты предвидел, осуществляются, а ты к ним легко и снисходительно готов. Особенно если это дурные события.
Я спросил по-английски официанта, как его зовут.
– Иса, – ответил он, выжидательно улыбаясь.