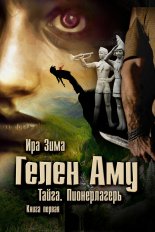Владимир Скляренко Семен

— До чего же ты упряма, жено, — принялась уже строго уговаривать ее стража. — К нашему князю и не всякого боярина допустят…
— Вы меня только в ворота пропустите, а уж там я к нему добьюсь, — твердила женщина.
Они снова ей возразили:
— Ничего ты, жено, не ведаешь. Коли мы пустим тебя, то ведь стража стоит и за воротами, и в сенях… Кто тебя к нему пустит?
Старший, Брич, наконец поднял голос:
— Уйди, жено, от греха… Куда тебе, робе, к василевсу? Не серди меня, жено, не то разгневаюсь и велю гридням гнать тебя.
— А я не пойду! — вскипела женщина. — Не трогайте меня, не пойду…
Воевода Волчий Хвост все еще стоял в воротах, вернувшись, он поглядел на старуху, на стражу.
— Блажная! Гоните-ка ее отсюда, гридни! Гридни подняли палки.
— Беги!
И Малуша, старая, немощная Малуша, стоявшая перед княжьей стражей, поняла, что, идучи сюда, она тщетно надеялась попасть на Гору, увидеть сына-князя, говорить с ним…
Нелегко было простому человеку пробиться на Гору и встарь, а все же люди ходили, добивались, трудно, очень трудно было и ей под щитом брата попасть туда, но во сто крат труднее, просто невозможно пройти на Гору теперь, когда сидит и правит князь-василевс.
Малуша не стала больше спорить. Да и о чем спорить? Стражи замыкали ворота, им не было до нее, матери, никакого дела, теперь Малуша уже ничего не может сделать, убьют Давила, убьют еще многих людей.
Но не одно это тревожило и терзало ей сердце: стража у ворот, стража на стенах, стража у терема, стража в сенях, вот так все словно бы стерегут князя-василевса, только у его сердца нет стражи, никто не охраняет душу ее сына.
Надвигалась ночь. Слегка согнутая, старая, уже немощная женщина медленно спускалась по Боричеву взвозу. Малуша жалела, о, как несказанно жалела она в эту вечернюю пору, что побоялась и так и не призналась, так никогда и не пошла к сыну-князю. Теперь она поняла, что должна была это сделать. Боже, Боже, как много могла бы рассказать тогда мать Владимиру! Может, ведь все может быть, он и жил бы не так, и не прятала бы его сейчас от людей стража. Ныне уже поздно, да и ничего не в силах сделать Малуша. Ей тяжко, несказанно тяжко, но что она — рабыня, убогая монашка, женщина, каких много, тьма…
А он? О, как тяжело, как страшно ему жить, сидя так за высокой стеной, за воротами, куда нет никому доступа, даже ей — матери?!
Старуха спускалась все ниже и ниже по Боричеву взвозу, но сама не видела, куда шла, слезы застилали ей глаза, сердце громко стучало в груди, подгибались ноги.
11
Ночь… Князь Владимир почивал на своем ложе, рядом другое ложе, царицы Анны. В тереме, за раскрытым окном, повсюду на Горе тишина. Спать, только спать.
Но князю Владимиру не спится, он лежит с открытыми глазами, смотрит на темные очертания палаты, образа на стенах, в окно, где сквозь ветви деревьев темнеет усеянное звездами небо.
Все, как было когда-то, та же опочивальня, те же стены, окно и звезды за ним все те же; они плывут и плывут в вечном круговороте, ясные, пожалуй, чуть тусклее, чем раньше, и деревья под окнами те же, только разрослись…
Один лишь князь Владимир почему-то не такой, как прежде. Годы… Да, должно быть, годы дают себя знать — нет прежней силы, убывает здоровье, слабеет рука.
Но не то беспокоит Владимира и не дает уснуть, у него ноет сердце, смутно на душе, без конца плывут в плывут, точно облака или звезды за окном, думы, тревожа совесть.
Казалось, чего бы волноваться, беспокоиться князю? Он достиг, чего хотел, Русь знает ныне весь мир, ей никто не угрожает, да и не посмеет угрожать — спи спокойно, князь-василевс, спи!
Нет, не может он спать. Душа полна тревоги, перед глазами встает утро прошедшего дня. Людская палата, смерд Давило, его открытое, искреннее и спокойное даже перед смертью лицо, в ушах звучат его слова:
«А что было делать, княже? Аще попал в неволю, будут рабами дети мои и внуки… У меня, княже, ничего-ничего на свете не осталось, я, аки птах, без гнезда…»
Князь Владимир поднимается с ложа, подходит к окну и прислушивается… Тишина, полная тишина, но ему кажется, что вот-вот среди ночи раздастся крик — так стонет смертельно раненная чайка, так кричит, прощаясь с миром, человек.
«Нет, его не казнят в первую же ночь, — думает князь. — А завтра властью, Богом и людьми мне данной, я прощу Давила, не послушаю ни бояр, ни епископа, ибо Христос велел карать, но и прощать…»
Владимир всматривается в темноту, прислушивается к ночным шумам, но уже не только потому, что никак не может выбросить из памяти Давила.
Вечером к нему явился воевода Волчий Хвост и, смеясь, рассказал, что, идучи на Гору, видел, как у ворот добивалась к князю какая-то женщина.
— Какая женщина? — спросил удивленно Владимир и почему-то вздрогнул.
— Какая-то смердка, — смеясь, промолвил Волчий Хвост, — уже старая, немощная, в темном платне, просит: «Хочу говорить токмо с князем… Все ему скажу… Пустите меня к князю…» Даже кричала на стражу: «Зачем его окружили?… Чего держите?» Чудная старуха, княже, не в себе, безумная, я велел ее гнать. И ее прогнали, палками…
— Худо ты поступил, воевода! — промолвил князь Владимир. — Такую женщину следовало пустить…
— Княже Владимир, — ответил Волчий Хвост, — да ведь коли пускать таких женщин и прочий люд на Гору, то нам и житья не будет.
— Повелеваю тебе, — сурово перебил его Владимир, — ступай и разыщи эту женщину.
Воевода Волчий Хвост удалился и разослал в предградье, на Подол и Оболонь гридней на поиски женщины, которая приходила вечером на Гору и добивалась к князю… Но все было напрасно. Женщина, которую прогнали палками с Горы, никогда уж не придет к князю, а если кто ее и видел, знает о ней, то побоится сказать…
И кто эта женщина, почему она так упорно к нему добивалась именно вечером, перед тем как будут казнить Давила? Страшная догадка тревожила, мучила, терзала сердце князя: в облике женщины, которой он не видел, в ее темном платне, что покрывало старое тело, в словах — во всем, что говорил Волчий Хвост, князь Владимир угадывал свою мать Малушу. Но где она сейчас, где? О, как трудно отыскать родного, самого родного на свете человека, пусть это будет даже мать, если никогда не знал ее.
Конечно, было бы легче искать и найти свою мать, будь у него родные, близкие люди. Но у князя Владимира нет никого, никого. Ушла с Горы Рогнеда. Сам он разослал в свои земли сыновей…
Правда, у него жена, царица Анна. Она лежит на высоком ложе тут же в полутемной опочивальне, Владимир видит ее такое чарующее лицо, холеное тело.
Как совпадают события, точно нанизываются кольцо за кольцом в долгой цепочке жизни! Только сегодня вечером царица Анна так ласково, нежно, сердечно говорила:
— Ты лучше, чем я думала, муж мой. Ты был варваром, язычником, ныне ты христианин, василевс… И ты положил лишь начало делам, ради которых призвал тебя и благословил Бог, ты станешь великим василевсом, муж мой! — Анна прижалась к нему и поцеловала. — А я, — продолжала она, — за все хочу сделать тебе подарок, хотя подарок этот принесет радость и мне…
— Какой подарок?
— Я непраздна, Владимир, ношу под сердцем ребенка, уверена, что будет сын…
— Спасибо! — промолвил Владимир, обнял и поцеловал василиссу.
Сейчас она спит, что ей — только спать и спать. Анна сделала все, что могла. Она родит сына, их сына, князь Владимир, вероятно, полюбит его, но до чего далека и чужда ему, и чем дальше тем больше, эта честолюбивая, самовлюбленная, порфирородная Анна, она не подозревает, не может себе представить, какие муки и тревоги переживает ее муж.
Владимир внезапно вздрогнул. Все потеряно, князь-василевс ничего уже не может поправить. Во мраке ночи родился, зазвучал на какое-то мгновение и замер, точно выпущенная из лука стрела, крик — это умер смерд, обельный холоп[328] Давило.
12
Спустившись с горы, Малуша села под кустом над Почайной. После всего, что произошло, у нее не было сил возвращаться в монастырь под Берестове, она просто не хотела туда идти.
Так она сидела на остывшем у воды песке, смотрела, как сгущаются сумерки, темнеет Днепр, расплываются вдали его берега и косы.
Вдруг Малуша услышала, как по дороге, что вилась от Боричева взвоза к Берестовому, а потом к Подолу, помчались с Горы всадники. Задрожав, она вся сжалась под кустом, точно смертельно раненная птица, не дай Боже, еще увидят!..
С наступлением ночи Малуше стало легче — темно вокруг, беспросветно и на душе, ничего она уже не ждала, ничего не хотела.
Малуша даже заснула, тихо, сидя, как это делают старые люди, опустив голову на грудь и уронив вялые, иссохшие руки на песок.
И ей приснился сон, словно она ласточкой полетела вдоль Днепра, подлетела к воротам Горы, перепорхнула их, пронеслась над двором, спустилась у терема, вошла в сени, быстро поднялась и остановилась среди палаты.
Владимир стоял в углу, множество свечей озаряло его лицо.
— Кто ты еси? — спросил князь Владимир. Малуша вздрогнула и простерла вперед руки.
— Я — твоя мать, Маяуша! — сдавленным голосом промолвила она и медленно, медленно сделала шаг, другой, а он кинулся ей навстречу, схватил за руки, обнял, припал головой к груди.
Еще мгновение — и он опустился перед ней на колени…
— Не становись передо мной на колени, — сурово промолвила Малуша, — не становись, ибо се осрама.[329] Ты — князь, я простая женщина, храни Господь, кто увидит тебя на коленях, лучше уж я стану перед тобой.
— Нет, нет, нет! — крикнул он, но с колен поднялся и стал возле.
Теперь ее сын, ее детище, Владимир был рядом, она видела так близко его бледное, родное лицо, седые волосы, усы, известную только ей родинку за правым ухом.
— Как долго, долго я искала и ждала встречи с тобой, — вырвалось у Малуши.
— Я тоже искал и долго ждал тебя, мати, — ответил Владимир. — Тебе, верно, нелегко было идти на Гору. Ты утомилась. Сядь вот тут, отдохни.
И она села, но не в кресло, на которое он указывал, а на простую дубовую скамью у двери. «Когда-то, давным-давно, — вспомнила Малуша, — жила в этой светлице княгиня Ольга, а тут; на скамье, лежали ее ключи…»
Сын стоял перед ней, освещенный огнями семисвечника — в темно-сиреневом, шитом золотом платне, с красным корзном на плечах, подпоясанный широким поясом, в зеленых сафьяновых сапогах.
— Боже, Боже, — прошептала Малуша, — какой ты красивый и какой добрый сын, и как суров, холоден мир…
— Суров и холоден, — тотчас подтвердил Владимир, — но не для нас, мати. Я счастлив, что нашел тебя, поведу теперь в Золотую палату, посажу одесную себя, надену на голову корону Ольги, скажу людям, воеводам своим и боярам, гридням и дружине, мужам всех земель: се — моя мать, вот она сидит и повинна сидеть подле меня.
— О, сыне, сыне, — ответила Малуша, — как похож ты на отца своего Святослава. Нет, не пойду я в Золотую палату, не надену Ольгиной короны, не сяду одесную тебя… Когда-то, сын мой, лежал у моего сердца, сейчас ты, князь Руси, в моем сердце. Одного бы я хотела, — промолвила Малуша и тяжко вздохнула, — чтобы ты никогда, никогда не забывал обо мне.
Она гладила и гладила его седой чуб.
— А к тебе я шла, чтобы просить за Давила, не убивай его, сынок, пожалей себя, меня…
И вдруг Малуша проснулась. После ярких огней в палате, которые она так отчетливо видела во сне, после задушевной беседы, что она только что вела с сыном, ее страшно напугал так внезапно окруживший ее среди этой глухомани мрак.
Однако не только это всполошило и заставило затрепетать Малушу — среди тьмы и безмолвия, царивших над Днепром, на Горе, по всей земле, Малуша услышала исступленный крик, крик человека, который умирает и последний раз хотя бы голосом прощается с миром.
— Боже, Боже! — вырвалось у Малуши. — Помоги же ему, помоги!
Крик еще какое-то мгновение звучал в безмолвии и тиши глухой ночи, и как внезапно возник, так и оборвался.
— Мир праху его! — промолвила Малуша и закуталась в платок, чтобы согреть озябшее тело…
Как знать, долго ли она сидела, впав в какое-то забытье и не замечая даже времени… Час, два, три — не все ли равно?
Начинало светать, когда она поднялась, постояла немного, держась за ствол вербы, чтобы не упасть, потом нашла на песке палку, оперлась на нее и поплелась вдоль берега.
По левую руку, далеко за Днепром, яснело небо, там плавали легкие, похожие на заблудившихся овечек облачка; тучка, темноватая, вытянутая кверху, напоминала стоящего с посохом в руках пастуха; над плесом колыхался, точно прозрачная голубая вуаль, туман; направо темнела Гора; леса круто спускались по оврагам к Днепру, а на кручах вздымались черной стеной.
Опираясь на палку, Малуша шла вдоль Днепра по тропинке, среди кустов, с которых падала холодная роса, да по звенящим тишиною лугам.
Так она добралась до землянки, где жил Тур, и опустилась недалеко от двери на камень — немощный он, больной, спит еще, наверно, зачем его будить?!
Однако Тур уж очень долго не просыпался, солнце поднялось из-за Днепра, а в землянке все еще было тихо.
— Тур! — позвала Малуша.
В землянке никто не откликнулся, и это было очень странно, обычно старый гридень просыпался при малейшем шуме.
— Тур! — Малуша поднялась и постучала в дверь. От прикосновения ее руки дверь отворилась, Малуша увидела деревянное ложе вдоль стены и босые ноги Тура.
Гридень был мертв, он лежал на ложе навзничь, вытянув руки, и, казалось, спал; на лице залег отпечаток усталости, горя и вечного покоя. Малуша преклонила колени перед телом того, кто любил ее так безгранично и беззаветно, и коснулась устами его холодной руки.
13
В начале нового года, весной[330] князь Владимир получил печальную весть из Полоцка. От неведомой болезни скончался князь Изяслав, а вскоре его жена и сын Всеслав.
— Требите[331] пути! — велит Владимир. — Еду прощаться с сыном и его семьей.
В распутицу, в стужу, через леса и болота мчится он в далекий Полоцк, долго стоит над могилами Изяслава, его жены и Всеслава у новой деревянной церкви; живет несколько дней в детинце Регволда, ночует в палате, где когда-то говорил с Рогнедой…
Владимир не спит, не может заснуть в этой палате… Забывшись на миг, он слышит откуда-то издалека голос Рогнеды. Владимир встает, подходит к окну. В сером тумане едва-едва можно различить городские стены, взбаламученную Двину под высокой кручей. Там, где когда-то Рогнеда снаряжала в далекий путь лодии убитых отца и братьев, Владимиру чудится какая-то тень. Может, это Рогнедина душа, зная, что Владимир в Полоцке, прилетела сюда, в землю отца своего?
Светает… Нет, никого и ничего нет над неспокойной Двиной, а на краю кручи стоит одинокая березка. — В Киев! Скорее в Киев! — велит дружине князь. Князь Владимир остался на Горе один-одинешенек. Этого никто не знает: у него жена, василисса Анна, которую с полным правом называют красивейшей женщиной мира, князя окружают бояре, воеводы, мужи, ныне они берегут его так, как, верно, никогда еще не берегли ни одного князя, раболепствуют перед ним, молятся на него, славословят ему. Князя-василевса неотступно охраняют с мечами в руках многочисленные гридни, на его стороне церковь: епископы и священники и, стало быть, сам Бог.
И все-таки князь Владимир одинок. Василисса Анна — о, чем дальше, тем труднее ему проводить с ней дни и долгие ночи! Бояре, воеводы, мужи — он не верит им, даже начинает их бояться. Епископ, священники — нет, они не могут успокоить его.
В одну из осенних ночей Владимир зовет к себе лучшего киевского здателя Косьмину, долго советуется с ним в своей палате, велит построить терем под Берестовым.
Здатель Косьмина не понимает князя. Какие у него чудесные терема на Горе, в Вышгороде, Белгороде. Терем в Берестовом, в трех поприщах от Киева… Что ж, он вырубит лес, свезет камень и поставит крепость, которую будет видно с Горы и левого берега Днепра. Князь Владимир думает иначе.
— Ты, Косьмина, не руби там ни одного дерева, роща над Днепром как стояла, так и пусть стоит, не вези туда ни камня, ни леса, не ставь ни крепости, ни высоких палат, построй мне небольшой терем, в котором бы я жил один, где бы мог отдохнуть от всех людей…
Старый здатель Косьмина понял наконец князя — на склоне лет, построив множество теремов, соборов, храмов, он сам бы очень хотел отдохнуть…
Осень. Улетели ласточки, потянулись в темные края журавли, гуси, лебеди, пусто в небе. В городе Киеве, как говорили в то время, женили Семена.[332] В хижинах, в землянках долгими вечерами горели сальные плошки, восковые свечи: рыбаки плели сети, женщины сучили бесконечные нити из куделя, ткали на кроснах[333] толстины, вретища, яриги; унотки и отроки в темных углах, под наметами,[334] в стодолах разговаривали и шептались до рассвета.
Зима в том году выдалась холодная, лютая, снежная; люди, как отмечал летописец, гибли в поле, птицы замерзали на лету.
Но за Киев, к Берестовому, потянулись еще ранней осенью древоделы и здатели. Всю зиму там, над горою, вились дымки, в рощах и обрывах над Днепром горели костры, далеко катилось эхо множества секир — это здатель Косьмина строил по наказу князя Владимира новый терем.
Никто на Горе не мог взять в толк, зачем понадобилось князю Берестовое, где одни горы да овраги, где бродят звери в пуще да каркает над чернолесьем воронье. Ведь недаром именно там, испокон веку, убегал от орд, скрывался, рыл пещеры гонимый люд, недаром и поныне, правда не в лесу, а у берега Днепра, стоит там церковь и монастырь, воздвигнутые христианами подалее от суетного мира.
Еще больше удивлялись бояре и воеводы, когда к весне двор был закончен и когда они собственными глазами увидели, что велел построить в Берестовом великий князь.
Двор совсем не походил на прочие дворы князя Владимира. Маленький — один терем с сенями и верхом на две светлицы, к стенам лепились несколько клетей, двор окружала очень высокая, сложенная из нетесаных дубовых бревен стена без городниц, без веж;[335] вокруг стены — ров; ворота запирались тяжелыми железными засовами. Чего искал, от кого прятался князь Владимир в Берестовом, за городом Киевом? Воеводы и бояре, оглядев двор, только головами покачали, пошептались да и вернулись на Гору…
Князь Владимир приехал в Берестовое, когда плотники и каменщики закончили работу. Здатель Косьмина встретил князя у ворот один, несколько дворян убирали терем.
Обойдя двор, Владимир, задумчивый, хмурый, вошел в сени и поднялся по ступеням в светлицу, которая выходила окнами на Днепр.
И вдруг лицо его озарилось ясной, ласковой улыбкой. Насколько сурово и мрачно выглядел терем снаружи, настолько чудесен и радостен открывался вид из окна светлицы. Князь Владимир увидел днепровский плес и несколько лодий на его голубом лоне, покрытую молодой зеленой травой и цветами долину, купы верб, что, утопая в полноводье, казалось, поднимали к небу руки с длинными пальцами-ветвями, церковь, далекий монастырь.
— Спасибо тебе, Косьмина! — промолвил князь Владимир. — Ты воздвиг за свою долгую жизнь много чудесных строений, но сей терем более всего люб моему сердцу…
Эпилог. В Берестовом
Глава первая
1
Быстро листаются страницы древней «Повести временных лет» о событиях седой старины и о славном князе Василии-Владимире.
Владимир, истый князь и воин, из конца в конец прошел Русь, как бывало при отцах и дедах его, и объединил ее земли. Древний Киев, начинавший приходить в упадок, снова возродился, стал твердыней над Днепром. Перед матерью городов русских снова склонилась Русь.
Князь Владимир видел и знал, что должен не только объединить Русь. Ее земли жили уже не так, как прежде, в их быт ворвались новые, неведомые силы, и это новое враждовало со старым, рушились законы и обычаи, терялась вера…
Боги? Да, человек хотел верить: зажиточный просил Бога освятить его сокровище, его добро, бедняк, гнущий спину за кусок хлеба у богача, поднимал к небу глаза и простирал руки в надежде, что Бог увидит неправду, творящуюся на земле, и даст что-нибудь ему, детям, семье!
Старые боги ничего не давали людям. Суровые, молчаливые каменные или деревянные истуканы стояли в городах, весях, на курганах. Они благопоспешествовали русским людям, когда те шли на брань, и сами походили на витязей, богатырей, простых воинов.
Однако боги ничем не могли помочь людям, жившим по-новому. Им на смену шел Христос, освящавший богатство и бедность, утверждавший власть сильного и покорность смерда. Он был столь милосерд, что обещал неимущему бедняку, трудившемуся на других в этом мире, рай, блаженство, счастье на небе…
Избрать новый путь для Руси, объединить и повести за собой ее людей князю Владимиру было нелегко, ибо старое, каким оно прогнившим, бессильным, никчемным ни становится, никогда не хочет умирать, а новое всегда, хоть зачастую справедливо, но уже слишком жестоко, враждует со старым; князь Владимир, начинавший свой жизненный путь ревностным защитником и поборником обычаев и законов отцов, поначалу победил свою собственную мятежную, суровую душу, чтобы потом силой меча побороть и обновить душу своего народа.
Так воцарилась новая вера, жестокая, суровая, безжалостная: князю-василевсу — княжье, ибо как на небе един Бог, так на Руси он единый государь земли; Бог благословляет и охраняет добро богатого и жизнь убогого, если на этом свете убогий ничего не имеет, то после смерти он обретает рай, блаженство и жизнь вечную.
Это была могучая вера — пробудившаяся, взбудораженная, мятежная Русь приняла ее и затихла. Не в Христа поверили люди, а лишь в то, что давно уже утвердилось в их жизни; Христос не открыл новый закон, а только освятил его, стал на его страже.
И получилось, как ни странно, что новый закон (про обычаи нечего и говорить, они рухнули сами по себе, точно трухлявое, дуплистое дерево), именно этот новый закон и новая вера, ставшая его мечом, укрепили Русь, а утвердившееся в мире христианство дало Руси науку и книги, храмы. Деревянная Русь воздвигала новые строения, каменные, вечные.
Более того, на новую христианскую Русь перестали смотреть как на неведомую землю варваров, оказалось, что богатств у нее не меньше, а больше, чем у прочих государств, что народ ее стоит наравне с другими народами, что худородный, как говорили греки, князь Руси силой и славой потягается с императорами Византии и Германии. Не он, а они теперь дрожали перед ним, перед русскими людьми, перед Русью.
Все это свершил сын Святослава и рабыни Малуши Владимир, князь и первый василевс русский, он уничтожил и схоронил старый закон и обычай, завел и утвердил новый.
Владимир был князем-василевсом, Византия, Германия, Русь — вот те три силы, вокруг которых группировался мир того времени. Правда, где-то над Итиль-рекой и за морем Русским, на костях некогда могучих, но умерших империй уже зарождались и вырастали новые государства из племен, которые шли и шли из глубин Азии. Минует несколько столетий — один миг для вселенной, — и они появятся на арене новой истории. Мир содрогнется под ударами арабов, падет и навеки погибнет перед турецкой силой Византия, Древняя Русь зальется кровью в жестокой брани с ордами татар. Безумный Батый, охваченный жаждой власти над миром, поставит свой шатер на Горе, над Лыбедь-рекой, и повелит разгромить и сжечь Киев…
И Киев будет сожжен. Орда Батыя разрушит его стены, ворвется на Гору, в предградье, на Подол, и погибнет множество людей — чудесных юношей, красивых девушек. Пылая в огне, рухнут терема, пламя охватит и уничтожит все, что строили и воздвигали сотни лет русские люди. Пожар уничтожит даже древние цки, на которых была записана вся история Руси, и многолетние пергаменты с повестями временных лет, что утверждались потом и кровью.
Однако, дав волю печали, не станем предаваться отчаянию, Киев падет, страшный смерч пронесется вдоль Днепра, в безвестность, в неволю, куда-то на восток татарские орды погонят тысячи и тысячи русских людей, но Русь, гордая и непобедимая Русь, снова восстанет на пепелище и пожарище, и уже навек; новые поколения построят новые города и села, Русь выдержит, выстоит, станет еще сильней — такова уж эта земля, таковы ее люди…
В ту же пору, когда княжил Владимир, в мире, ограниченном Европой, Малой Азией и Востоком — до Джурджанского моря, Итиль-реки и гор Урала — существовало три силы: Византия, изведавшая в продолжение столетий величие власти, славы, расцвета, но уже начинавшая хиреть, распадаться, идти к своему неизбежному концу; Германия, которая лишь входила в силу, чтобы позднее в продолжение многих столетий захватом, наскоком, ценой большой крови порабощать народы; и Русь, с ее древнейшей историей, которая лишь теперь становилась вровень с империями и открывала новую страницу своего существования, Князь Владимир знал, в каком мире он живет. Когда-то его бабка княгиня Ольга два месяца сидела в Константинополе, добиваясь приема и беседы с императором Константином, днесь он был зятем императора Василия, после которого почитали за великую честь говорить с киевским князем; когда-то немецкие императоры под звон мечей кричали: «Drang nach Osten!» — а сейчас в Киев являлись их послы с богатыми дарами — сила одолела силу, две самые могущественные империи мира клялись Руси в дружбе, любви, мире.
И все-таки князь Владимир был неспокоен, встревожен и не спускал глаз с запада, где новый германский император Генрих упорно продвигался на восток, усыпляя одни народы уверениями в дружбе и мире — уже Польша и Чехия ездили на поклон в Кведлинбург, — примучивая силой другие славянские земли… Генрих не посягал лишь на Русь, понимая, что она, а вместе с ней Угорщина, Болгария, Византия ответят на удар ударом…
Знал Владимир цену и Византии. В Киев без конца тащились священники-греки, здесь их принимали. Приезжали охотно и здатели, каменотесы, маляры, оставшиеся в обедневшем Константинополе без работы. Князь Владимир находил дело всем: в Киеве и других городах вырастали каменные храмы, строения, менялась, росла, хорошела Русь. Греческие купцы плыли теперь не по Днепру, а ехали по торной дороге — через земли тиверцев и уличей. Голодному Константинополю было что купить в земле Русской.
Но Владимир замечает и другое: подавив восстание в Малой Азии, император Василий начинает наступление на Грузию, Армению, арабские земли, действуя где обещаниями, где дарами, где силой. Так он выходит к реке Тибр, державе Шахарменов, к городам Эдессе и Дамаску в Сирии; захватывает в Средиземном море острова Кипр и Крит, угрожая оттуда каирским халифам, так он расширяет владения Империи далеко на юг, где никогда еще не ступали легионы ромеев.
Император Василий действует не только в Малой Азии, он хочет утвердиться и над Русским морем, покорить Болгарию, стать на берегах Дуная…
2
Для Болгарии наступил решающий час. Император Василий, собрав лучшие легионы Империи, поставил их на границе Болгарии, а сам с отборным войском, окруженный бессмертными, двинулся к Солуни, чтобы возглавить наступление на Охриду, где сидел Самуил, и на столицу кесаря Романа Скопле.
Самуил Шишман понял, какая зловещая туча нависла над Западной Болгарией, и послал своего отважного воеводу Несторицу в Солунь, чтобы задержать на берегах Вардара войско Василия, а сам двинулся через горы на Прилеп и Белее преградить путь Василию на север.
На сей раз счастье изменило Самуилу — полководец Феофилакт Вотаниат, стоявший под Солунью, разбил полки Несторицы. Другой полководец, стратиг Филиппополя Никифор Ксифий, обойдя Самуила, проник по ущелью реки Вардар на север и приблизился к Скопле.
Впрочем, никакой отваги в этом походе не потребовалось, едва лишь войска ромеев подступили к Скопле, ворота города-крепости открылись, оттуда выехал кесарь Роман, недостойный внук славного кагана Симеона, чтобы еще раз, теперь уже окончательно, продать Болгарию.
Войска ромеев и Самуила встретились у горы Беласицы. Началась страшная сеча. Не на жизнь, а на смерть бились болгары, если бы в последнее мгновение Гавриил не отразил меча воина-ромея, Самуил остался бы на поле боя. Более десяти тысяч болгар сложили свои головы у горы Беласицы. Пятнадцать тысяч было захвачено в плен. Сам Самуил, спасая остатки своего войска, едва успел бежать к Прилепу, чтобы потом, соединившись с отрядами Несторицы, отомстить ромеям.
Самуил отомстил. Когда легион ромеев во главе с императором Василием продвигался долиной реки Струмы, а с юга к ним поспешал Феофилакт, чтобы, объединившись, обрушиться на Прилеп, болгары окружили на рассвете в глубоком ущелье легионы Феофилакта, закидали их стрелами и камнями, убили множество воинов и самого солуньского полководца. Узнав о том, император Василий поворачивает свое войско и, спасаясь бегством через далекий Мелник, спускается с гор в Македонскую долину.
Но еще злее, еже ужаснее отомстил император Василий. Прибыв в колеснице к Афинополю, а затем выехав с полками бессмертных к Беласице, где легионы караулили пятнадцать тысяч пленных болгар, он повелевает сложить в долине печи, изготовить железные прутья-жигала, построить пленных по полкам и окружить их, голодных, связанных, несколькими легионами.
Стоял десятый день месяца августа 1014 года — чудесная пора, когда все в Болгарии созревает, в беспредельной глубине синеет безоблачное небо, на небосклоне, точно стража, высятся горы.
Окруженный бессмертными, император Василий стоял в тот день на пригорке, смотрел в долину на жарко растопленные печи, раскаленные докрасна жигала в руках его воинов-ромеев, на пленных болгар, что стояли полками, на темнеющую черную подкову легионов, окружавших всю долину…
Пленных, связанных по десяти, подводили к печам. Раскаленные жигала, как стрелы, прорезали воздух и впивались в глаза, которые смотрели в эти мгновения на долину, горы, небо…
Воины кричали… И как им было не кричать, если победители-ромеи отнимали у них самое дорогое, что есть у человека, — глаза! Но горы молчали, а если бы они и могли кричать, то разве это остановило бы повелевшего ослепить пятнадцать тысяч пленных болгар императора Василия, который получил за это прозвище Василия Болгаробойцы? На каждую сотню он велит оставить по воину с одним глазом, они поведут эти тысячи ослепленных к комиту Самуилу, а прибывшего в его стан кесаря Романа император назначает патрикием и управителем города Абидоса в Малой Азии.
Более месяца шли ослепленные и лишь пятнадцатого вресня[336] добрались до столицы — Прилепа. Самуил выехал им навстречу и смотрел, как вдали на снежных вершинах появились воины, как они спускаются в долину.
И вот слепые проходят мимо — сотня за сотней с поводырями впереди… Страшное зрелище! Слепые болгары шли по родной земле среди гор, которых не видели, мимо комита Самуила Шишмана, под знаменем которого они так упорно боролись и поплатились глазами.
Но если не видно родной земли, гор, они вдыхают ее ароматы, слышат голоса детей, которые когда-нибудь отомстят за них. Поводыри сказали слепым воинам, что на них смотрит комит Самуил Шишман, что их ждет родина.
И слепые воины, проходя мимо Самуила Шишмана, кричали:
— Да здравствует Шишман! Да здравствует Болгария!
Только Самуил не слыхал этих возгласов — внезапно у него нестерпимо заболело сердце, померкло в глазах, подкосились ноги, и он упал на землю.
— Воды! Глоток воды! — прохрипел он. Но вода ему уже не понадобилась. Раздались крики:
— Помер Самуил!
— Нет нашего комита!..
Ослепленные воины опустились на колени. Свирепо расправившись с Болгарией, император Василий возвращается в Константинополь, велит вытесать мраморную плиту, высечь на ней надпись и выставить плиту в Сосфеновом монастыре близ Константинополя.
Надпись гласила:
«Если когда-нибудь болгары восстанут, их нельзя победить в битвах лицом к лицу, а нужно исподволь забирать их города и крепости, упорно опустошать земли, дабы довести до полного отчаяния…»
Император Василий справедливо заслужил прозвище Болгаробойцы.
3
Слухи о событиях в Болгарии, конечно, скоро достигли Киева. Они очень взволновали, просто ошеломили Владимира. Значит, Византия действует так же точно, как и прежде: разъединяет, ссорит между собой народы, а затем на их крови и костях строит свое благополучие.
Послы Руси едут в Константинополь, в Киев являются василики императоров Василия и Константина и клянутся в любви и дружбе, впрочем, что стоят их обещания! У Византии свой путь, а Русь строит свою жизнь.
Византия утвердилась на берегах Дуная. На Русь идут и идут неудержимым потоком болгары. Это уже не только священники, но и разоренная Византией знать и беднота, у которой ничего, кроме воли, и не было — русские люди их радушно принимают, и болгары поселяются в Киеве, в городах и весях Руси.
Двинуться на Византию? Нет, этого сделать уже нельзя, поздно, между двумя императорами заключен вечный мир. Русь взяла у Византии то, чего добивалась, Византия дала Руси, что имела…
И чем далее, тем все яснее обнаруживается бессилие Византии. Херсонес уже перестал существовать как крепость, это лишь рынок Константинополя. Правда, херсонесские и константинопольские купцы еще заполоняют низовье Днепра, поселяются на жительство в Киеве, едут в Смоленск, в Новгород. Но император Василий то и дело посылает своих послов в Киев: некоторые идут прямо к князю Владимиру, некоторые в покои царицы Анны.
Анна — дочь коварной Феофано и сестра Василия Болгаробойцы — живет в Киеве, заводит в княжьем тереме порядки и церемониал византийского двора. Ее окружают придворные женщины, которых возглавляет, подобно опоясанной патрикии[337] Большого дворца, старшая боярыня; в палатах царицы без конца снуют сановники, духовные лица. Ее покой охраняют рыцари, вооруженные длинными мечами…
Много, очень много трудится василисса Анна. У нее, как и следовало ожидать, немало друзей среди жен воевод и бояр. Она — патронесса храмов. Она не жалеет золота, чтобы заполучить сторонников и среди воевод и бояр.
Одного не может достичь василисса Анна — необычайно красивая, всех очаровывающая, истинная дочь своей матери Феофано, она чувствует, что ее не любил, не любит и никогда не полюбит ее муж Владимир. Анна ему чужая, он навсегда ей чужой.
Василисса Анна надеялась, что все изменится после того, как она родит сына, однако, когда родился первенец Борис, поняла, что отец может привязаться к ребенку, но не любить его мать.
Второго сына звали Глебом. Князь Владимир стоял над его колыбелью и ласково смотрел на сына, но не обнял, не поцеловал жену — мать ребенка.
В этой молчаливой борьбе между Анной и Владимиром не было исхода. Тщетно стараться зажечь камень, горит лишь то, что может гореть, в чем есть жизнь, огонь. Идут годы, и ничего словно не меняется. Однако сыновья Владимира Борис и Глеб растут, они скоро получат от отца земли — Ростов и Муром. Василисса Анна, так и не добившись того, чего хотела, хворает. Изменился и князь Владимир, вот-вот и старость, конец…
Но холодная, черствая, неподкупная рука истории, переворачивая еще одну, и теперь уж последнюю, страницу в повести князя-василевса, делает ее несказанно тяжелой, непомерно жестокой, печальной…
Конечно, иной она и не могла быть: никогда ливень или град не падают с ясного неба — туча долгое время собирается из отдельных капелек; никогда море не становится вдруг бурным и ревущим — долго-долго перед тем дуют ветры, раскачивая волны. То, что произошло на склоне лет с князем Владимиром, было уготовано им самим, его жизнью, деяниями.
4
Все началось с города Киева, и даже с Горы…
На первый взгляд, как казалось всем, да и самому князю Владимиру, и на Горе, и в городе Киеве было спокойно. За высокими стенами Горы жили, богатели, мудро руководили землями бояре и воеводы с великим князем Руси во главе.
Правда, князь Владимир знал, что мужи эти думают по-разному. На Горе жили воеводы, которые приняли христианство и цепко за него держались, но кое-кто молился и новым и старым богам, а были среди них и язычники — недовольные, хищные, злые мужи. Утеряв в разные времена свои достатки, они новых пожалований не имели, сидели за высокими заборами в своих теремах и по ночам, словно мары,[338] бродили по Горе.
Преданные князю Владимиру люди, знатные бояре и воеводы, не раз говорили ему о язычниках, намекали на то, что кругом много врагов, что следует оберегать и охранять его особу.
О том же твердили и греки, приехавшие вместе с князем из Херсонеса, ромеи, прибывшие в Киев с василиссой Анной, священники, купцы и, наконец, василики, которые все приезжали и приезжали из Константинополя.
— В столице Византии, — рассказывали они, — божественную особу императора охраняют полки бессмертных. В Большом дворце стоит этерия, целые отряды скопцов оберегают его день и ночь. В фемах, в канцелярии стратигов, в епархии посажены послухи.
Князь Владимир смеялся:
— Кого они охраняют? Ведь особа императора божественна?
— Именно потому, что особа императора божественна, его и следует охранять бдительно, зорко! Гляди, княже! В Киеве и во всей земле Русской немало врагов…
И хотя князь Владимир и смеялся, однако на Горе появились послухи, княжьи глаза и уши, шныряли они по всему городу, в предградье, на Подоле, в Оболони, по всем дворам.
Делалось это не зря. За стенами Горы, где жили покуда еще вольные кузнецы, древоделы, скудельники, и на землях боярских, где трудились смерды, которые имели свои дворы, было спокойно, но там, где все больше и больше становилось обельных холопов, бесправных рабов своих хозяев, ширились пожары, татьба, разбой, тиуны и емцы ходили по Оболони и Подолу только с гридьбой, а по ночам туда и не совались, там чем дальше, тем с большим остервенением всенародно поносили воевод, бояр, тиунов, князя…
Ничего этого князь Владимир не знал: ему докладывали лишь о пожарах и татьбе, не поминая имени князя-василевса; когда же он отправлялся на охоту или в один из своих дворов в богатом наряде, окруженный воеводами и боярами, а порой со знатными гостями и проезжал по предградью и Подолу, там уже стояли заранее созванные смерды, халопы и славословили Владимира-князя, а на всех концах города караулила гридьба.
К головникам, татям, поджигателям и сволочникам Владимир был беспощаден… Да и что было делать — чтобы защитить своих, княжьих мужей и все те богатства, которые он давал за их службу (а иначе они ему не служили бы), князь Владимир заводил все новые и новые законы: убийство княжьих мужей каралось двойной вирой и смертью, за убийство вольного ремесленника или смерда взималась простая вира,[339] если же кто убивал холопа, то не платил ничего за его бесталанную душу, а обязан был лишь возместить убыток за потерянного раба его господину… Суровой жизнью жил теперь город Киев. Подобно Богу на небе — владыке жизни и хозяину всего сущего, окруженному апостолами и святыми, которые действовали его именем, да еще осужденными на геенну огненную грешными душами, — был князь на земле, его мужи и великое множество убогих людей, которые работали на князя и мужей.
Однако земля не была небом, на ней богатый радел и приумножал свое добро, а у бедняка забирали последнее зерно, холоп-раб острил косарь, выходил ночью на дорогу и подкрадывался к клети боярина…
Так новый закон и писался, на крови стоял ныне Киев, великий князь и василевс Владимир твердо сидел на своем столе.
Князь Владимир больше беспокоился о своих землях — в некоторые из них он послал сыновей, в некоторых сидели свои, местные князья.
Местным князьям князь Владимир не дивился — они с большим трудом платили Киеву дань, не посылали своевременно земское войско и враждебно относились к боярам, которые приезжали из Киева на пожалованные им земли. Время от времени князь Владимир снаряжал в ту или иную непокорную землю дружину, и тогда горе было той земле, далекой украине Руси, сила побеждала и держала в повиновении силу.
А сыновья? Как подпирают великокняжеский стол члены его рода, его глаза, руки, родная кровь? Вышеслав в Новгороде, Мстислав в Тмутаракани, Ярослав в Ростове, Изяслав в Полоцке, Святополк в Турове… «Дети мои, — писал им князь Владимир в своих грамотах, — сидя в Киеве, помышляю о вас, крепите землю отцов наших, мудро утверждайте закон, будьте едины со мной и городом Киевом…»
Однако сыновья выплачивали дань еще неисправней, чем местные князья, земских воинов в Киев посылали мало и часто не принимали бояр и воевод киевской Горы. Им самим приходилось держать большие дружины и раздавать земли своим мужам. Потому в далекие и близкие земли ехали послухи: глаза и уши князя заполонили всю Русь.
Так Владимир узнал о том, что делается в недалеком Турове, где князем сидел сын Ярополка — Святополк. Воевода Безрук, правая рука Святополка в Турове и одновременно послух Владимира, часто приезжал в Киев и всегда заходил к князю Владимиру. Приехав однажды, он настаивал на беседе с князем с глазу на глаз.
— Слушаю тебя, воевода! — сказал Владимир, когда они остались вдвоем в одной из светлиц на верху терема.
— Недобрые вести из города Турова, княже, — начал Безрук.
— Что за вести, — встревожился князь, — почему недобрые?! Ведь ты сидишь там, блюдешь княжий стол.
— Не один я хозяин в Турове, князь города и всей земли Святополк… Нас никто не услышит, княже?
— Говори смело! Здесь только я да ты…
И Безрук поведал Владимиру, что князь туровский Святополк при посредстве жены Марины завязал дружбу с тестем, польским князем Болеславом, и германским императором Генрихом, которые обещают ему вооруженную помощь, а через епископа Рейнберна, духовника Марины, договорился с римским папой. Святополк уже готов, опираясь на воинство Болеслава, двинуться на Киев, убить его, князя Владимира, захватить киевский стол и принять католическую веру…
Вслушиваясь в каждое слово, произнесенное воеводой Безруком, князь Владимир неподвижно, опираясь на поручни, сидел в углу палаты в кресле. Он долго молчал и вдруг с такой силой сжал пальцы правой руки, что сломал поручни.
— Воевода Безрук! — встав с кресла, сказал князь Владимир. — Понимаешь ли ты, что сказал? Коли то правда — Святополк мой враг, коли се лжа — ты примешь смерть…
— Княже Владимир, — спокойно ответил Безрук. — Я поведал одну правду, должен ее сказать, ибо служу Руси, ее людям, тебе.
5
Поздно ночью по земляным, скользким после недавнего дождя ступеням князь Владимир спустился в поруб,[340] где сидел Святополк. Впереди с мечами наголо шли два гридня, воевода Волчий Хвост со светильником в руках следовал за князем.
— Выйдите, гридни! — повелел князь Владимир, когда те отперли тяжелый замок и вошли в поруб, а воевода поставил светильник на землю. — И ты, воевода, ступай!