Десять вещей, которые я теперь знаю о любви Батлер Сара
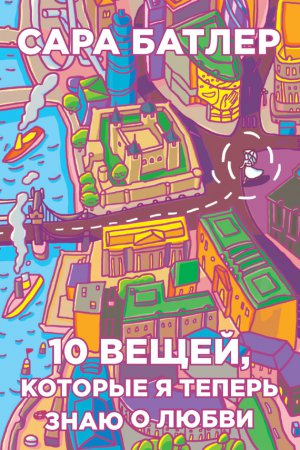
— Смотри, это звезды! Как круто! — Он поднимает картонку к потолку. — Мы проходили космос в школе. Вот это — Орион, охотник. А вон то — Большой Ковш. Вообще-то он как-то по-другому называется.
— Это часть Большой Медведицы. Погоди, ты серьезно? — Я забираю у него картон и рассматриваю узор из дырочек, проделанных шариковой ручкой и испачканных чернилами.
Макс закатывает глаза:
— В старину люди лежали и смотрели на звезды так долго, что изучили все созвездия и выяснили, как движутся звезды. Так нам сказала мисс Джордан.
— А это тебе нравится? — Я указываю на серебристый цветок.
— Он девчачий.
— Но красивый же, правда?
Макс кривится.
— Все это мне подарил один старик.
Племянник чуть наклоняет голову и хмурится, глядя на меня:
— А кто он?
— Я не знаю.
— А он тебя знает?
Я пожимаю плечами.
— Мама говорит, что нельзя разговаривать с незнакомцами.
— И она права.
Макс берет нитку искусственного жемчуга и поднимает ее в воздух; кусочки пластика, картонка, шнурок и розочка раскачиваются под ней. Постукиваю ладонями по коленям. Хочу, чтобы он прекратил.
— Может быть, он волшебник, — улыбаюсь я.
Макс поднимает голову, наматывая бусы на запястье. Я протягиваю руку, но он не отдает мне их.
— Про магию нам тоже в школе рассказывали, — говорит он. — Один раз мы даже наряжались волшебниками. И я тоже. А самая лучшая шляпа была у Брэдли Стивенса. Вот такая огромная. — Он раскидывает руки над головой, и бусы пляшут в воздухе. Потом он вдруг замирает и с неожиданным благоговением опускает жемчуг на кровать.
— Может быть, это его заклинание, — говорю я.
Макс оглядывает подарки, потом хмурит брови и серьезно смотрит на меня:
— Надеюсь, что он добрый волшебник.
— О, я уверена, что так и есть. Мне кажется, тебе не о чем волноваться.
Мы идем в церковь все вместе. Я сижу рядом с Тилли, позади Си, Стива и их сыновей. Смотрю на отмытые шеи моих племянников и думаю о старике, о дырявом куске картона со звездами. Каждый раз, когда мы преклоняем колени, я поглядываю на Тилли. Она зажмуривается, крепко сжимает руки, сосредоточенно бормочет что-то себе под нос. Церковь — вот еще одно место, которое им куда ближе, чем мне.
Мы остаемся на обед. Сегодня Си — сама забота и умиротворение. Ее вечно бросает из огня в холод; Тилли полагает, что это досталось Си от матери.
Сестра что-то говорит мужу; тот понимающе улыбается и предлагает Тилли воду, а нам наливает в бокалы вина. Мы приступаем к низкокалорийному шоколадному муссу, и вдруг Макс заявляет, что я знаю настоящего волшебника.
Чувствую, как Си буравит взглядом мое лицо. Я натянуто смеюсь.
— Он дал ей заклинание, — говорит Макс.
— Это всего лишь шутка, — отвечаю я, не глядя на племянника. — Просто шутка.
Выскребаю миску ложкой, рассматривая бело-коричневые салфетки в серебряных кольцах, подставки для тарелок с нарисованными фруктами. Мне явно пора. Помогаю убрать со стола, загружаю грязные тарелки в посудомоечную машину, вымываю остатки вина со дна бокалов. Си варит кофе.
— Я, наверно, пойду, — говорю я. — Посмотрю, как там дела у Шона.
Вспоминаю отцовские кухонные шкафчики, сорванные со стен, и вдруг замираю, прикрыв рот рукой.
— Ты тоже беременна? — Си стоит рядом, опираясь о посудомоечную машину.
— Нет.
— Может, тебе стоит переехать сюда на время? В том доме, наверно, веселого мало.
Я смотрю на Си. Она это серьезно?
— Мы же поубиваем друг друга, — говорю я.
Но вместо улыбки на ее лице вдруг появляется грусть.
— Мне хочется, чтобы ты считала этот дом своим, Алиса.
На самом деле это значит вот что: папы больше нет, у Тилли квартирка размером со спичечный коробок, а ты — бродяга, так что теперь мой дом — наш семейный оплот.
— Я куплю билет на самолет на этой неделе, — отвечаю я.
— И куда же ты собираешься?
Пожимаю плечами:
— В Дели, наверно. — Далеко. Туда, где я смогу перестать думать. — Не волнуйся, дом уже почти готов.
Си бросает взгляд в сторону столовой, где Тилли тихо беседует со Стивом, а потом поворачивается ко мне и многозначительно вскидывает брови.
— Она как-нибудь справится, — говорю.
Си поджимает губы.
— Думаю, она будет прекрасной мамой, — продолжаю я.
— Конечно будет. Я просто беспокоюсь…
Я сжимаю ее руку:
— Си, ее волнений хватит на всех нас. Так что давай просто поддержим ее.
— Будешь поддерживать ее из своего Тимбукту, да?
Я заглядываю в гостиную, чтобы попрощаться. Говорю, что мне пора бежать, а Тилли может пока не торопиться, если хочет.
Возвращаюсь и вижу, что машины Шона во дворе уже нет. Дом выглядит пустым. Заходить туда одной мне не хочется, и я иду гулять. Вот бы сейчас была зима. Чтобы в лицо дул холодный ветер, а тело согревали джинсы и свитер. Чтобы небо казалось размытым угольным наброском, а не голубым компьютерным экраном.
В Хэмпстед-Хит полно народу. Я иду быстрым шагом; cумка болтается на плече. Ветер раскачивает деревья. Между травинками виднеется темная влажная почва. Пот понемногу пропитывает футболку, а внутри меня постепенно поднимается паника, бьется в горле, точно птица в клетке. Я никак не могу отыскать это место. «Я же знаю, где оно, — говорю я себе. — Я должна это знать». Но оно ускользает от меня, снова и снова.
Не могу отыскать даже Кенвуд-хаус, хотя бывала там сто — нет, даже тысячу — раз. Я всегда гордилась тем, что люблю потеряться, а потом разобраться со всем на ходу. Но сейчас мои нервы уже на пределе. Наконец я взбираюсь на гребень невысокого холма и вижу вдалеке белые стены Кенвуд-хаус, но вместо облегчения на меня накатывает разочарование. Кафе переполнено. Очередь длинной змейкой тянется к витрине с мороженым в дальнем углу.
Дети визжат и прыгают, получив хороший заряд сладостей и солнечного света. Французский, итальянский, испанский, польский — все языки сливаются воедино в застывшем воздухе.
Заказываю кофе, выбираю столик в самом центре внутреннего дворика — и тут же жалею, что уселась у всех на виду. Смотрю по сторонам, но он так и не приходит. Никто не приходит.
Когда мне грустно, я прячусь под одеяло. Детская привычка. Голова — шест для палатки, одеяло — стенки. Что-то вроде вигвама, только лучше. Больше всего мне нравится так делать днем, чтобы солнце просвечивало сквозь одеяло. Мне нравится, что можно рассматривать узор из гусиного пуха внутри ткани и что он никогда не повторяется. Так хочется сделать это прямо сейчас: забраться под одеяло, завеситься «стенками палатки».
Я двигаюсь так, словно иду в темноте. Стараюсь отключить мозг и прислушаться к своему телу. Немного вправо, немного влево по тонкой тропинке, что теряется среди зелени. Отыскав нужное место — во всяком случае, мне так кажется, — я останавливаюсь и оглядываюсь. По соседней, более широкой дорожке идут двое, но меня они не замечают. Я заглядываю между листьями: клочок желтой ткани, кусок синего пластика. Да, это то самое место.
Только здесь все разрушено. Пробираюсь между кустами и смотрю — не наверх, на разноцветные гирлянды, а вниз, на их ошметки, разбросанные по земле. Нитки свисают с ветвей, разорванные и бесполезные. Я опускаюсь на колени. Поднимаю ярко-розовую заколку, отливающую серебром в потертых уголках; почтовую марку со смятыми золотыми краями; кусок фольги, сложенный в гладкий квадрат; обрывок оливково-зеленого шнурка; шариковый стержень — синие чернила в нем похожи на кровь в капилляре; бледно-синее горлышко от бутылки; огрызок бумаги, исписанный выцветшими чернилами. Я перебираю свои находки снова и снова, будто мои прикосновения могут все исправить.
Вспоминаю лицо Даниэля: тонкий шрам на щеке, взгляд потерянного ребенка. Он не мог этого сделать. Наверно, кто-то нашел его тайник и подумал, что забавно будет все тут порушить. Вот почему мне хочется сбежать отсюда, из города, где любой может просто так, безо всякого повода, уничтожить то, что было сделано с такой любовью. «Но ведь это могло случиться где угодно», — говорю я себе. И в любом случае, глупо создавать нечто настолько хрупкое и бессмысленное. Так что он сам спровоцировал ситуацию.
На другом конце полянки я замечаю пустую бутылку из-под виски. Название на этикетке мне незнакомо. Думаю, что, возможно, смогу ощутить запах этого виски на чьей-то коже. Представляю, как злоумышленник пил его, скрючившись среди листвы.
Выкурив две сигареты, я засовываю окурки обратно в пачку. Потом беру заколку, поднимаю ее и привязываю к голубой нитке. Отпускаю ее, и она покачивается, словно на воображаемом ветру. Беру шариковую ручку — ее кончик забит засохшими чернилами — и подвешиваю рядом с заколкой. Я работаю медленно, хаотично и понемногу успокаиваюсь, концентрируясь на том, как лучше привязать предметы к ниткам.
По всей полянке разбросано множество мелких клочков бумаги со следами выцветших чернил. Это единственное, что здесь хоть как-то взаимосвязано. Пытаясь сложить их обратно, я смутно догадываюсь, что на листке было нарисовано женское лицо. Вижу глаз, краешек уха — и тут мне приходит в голову, что рисунок очень похож на тот мамин портрет, который я нашла на чердаке. Глупости, не стоит даже думать об этом. Я складываю обрывки в уголке и продолжаю связывать гирлянды, но чувствую, что выбита из колеи.
Нет, все не так. Ложусь на землю и смотрю наверх. Тут наверняка была какая-то последовательность, все висело в определенном порядке. Смотрю на разноцветные предметы. Много синего и серого, с вкраплениями золотого и ярко-розового. «Что же это?» — выдыхаю я едва слышно, но различимо.
Лежу и жду, но ничего не происходит. Тогда я сажусь и подтягиваю к себе сумку. Один за другим я вынимаю подарки — его подарки — и тоже привязываю к веткам. Цветы я оставляю напоследок: крошечный серебряный, увядший розовый и еще один, сделанный из газеты, запачканный и смятый, — я все-таки вытащила его тогда из мусорного бачка. Кручу его в руке, читая фрагменты слов: там, тец, мья, чит, иск, конкре, утр. Потом выкапываю ямки и сажаю цветы в землю, рядом друг с другом.
Все готово. Мне пора. Пойду в кафе, возьму себе еще кофе. Выпью его, выкурю сигарету и заставлю себя думать. Нет, не так. По дороге в кафе я куплю блокнот и ручку — гелиевую, одну из тех, что позволяют писать почти без усилий. Закажу кофе, сяду за столик и открою блокнот. На первой странице, на верхней строчке, я выведу «Список дел»… нет, «Что дальше?» или, может, «Что теперь?». А ниже я напишу… понятия не имею что именно. Но когда я буду уже там, в кафе, с блокнотом и ручкой, что-то наверняка придет в голову.
Сижу и прислушиваюсь.
Пение птиц: одна заливается где-то рядом, вторая подальше — ее голосок слышится чуть слабее. Помню, однажды по радио говорили о том, что птицы в долине Амазонки научились подражать звуку бензопилы. Тогда мне эта история показалась забавной, но позже, пересказывая ее Кэлу, я вдруг поняла, как на самом деле это печально.
Шелест листьев. Ветра почти нет, и все же они соприкасаются друг с другом, словно люди в толпе.
Шорох шагов по мелкому гравию.
Стук футбольного мяча.
Щебет еще одной птички, настойчивый и прерывистый. Я жду, что кто-то отзовется, но ответа не слышно.
Пора идти. Пора уходить. Но я остаюсь. Смотрю на часы: семь вечера. Си готовит тосты с сыром, режет шоколадный торт на аккуратные треугольники. Мальчики валяются на диване перед телевизором. Тилли читает «Путеводитель по беременности» или пытается решить, что делать с Тоби. А Даниэль… понятия не имею, что делает Даниэль. Представляю его крошечной точкой на карте Лондона. В городе слишком много порогов и углов, чтобы знать, где он сейчас. Слишком много для одного человека.
Я не собиралась думать о Кэле. Наверное, он сейчас с этой… как ее там. В воскресенье вечером мы всегда заказывали еду на дом и смотрели кино. Не слишком изобретательно, но мне нравилось. Я скучаю по нашим посиделкам на мягком кожаном диване — слишком большом для нашей комнаты, — который он купил, когда сдал экзамены. Скучаю по столу, заваленному коробками из-под еды, и по свечению телеэкрана на нашей коже.
Достаю из сумки сигареты и телефон. Пропущенных вызовов нет. Звоню Тилли.
— Привет, Алиса.
— Привет.
— Ты в порядке?
— Сегодня чудесный вечер, правда? — Я ложусь на бок, прижимаю телефон к уху.
— Спасибо за вчерашний день, Алиса.
— Она привыкнет. Ты ведь ее знаешь.
— А ты правда собираешься снова уехать?
— Я же тебе уже говорила.
Запах виски улетучился, или я привыкла к нему. Теперь я вдыхаю аромат земли с нотками металла и свежих листьев с нотками летних каникул.
Отец настаивал, чтобы каждый год мы отдыхали всей семьей — даже когда Тилли училась в университете. Он возил нас смотреть на памятники древней архитектуры: Кносский дворец, Акрополь, Альгамбру, — а мы ходили за ним следом, ругаясь и подшучивая. Закрываю глаза и прижимаю ладонь к земле. Что бы я только не сделала сейчас ради пяти минут таких каникул. Снова ощутить боль в ногах от новых сандалий, эйфорию от прогулок по неизвестным улицам, пропитанным незнакомыми запахами и неизвестными словами. И чтобы папа шел со мной рядом.
— Помнишь наши летние каникулы? — спрашиваю я.
— Где ты? Там птицы поют. Ты в саду?
— Помнишь, как мы отравились? Где же это было-то?
— По-моему, в Брюгге. Наелись устриц с картошкой, а потом всю ночь участвовали в туалетной эстафете.
— Я виделась с Кэлом, — говорю я.
Тилли молчит. Только телевизор бормочет где-то на заднем фоне.
— Ты всегда хорошо отзывалась о нем, — продолжаю. — Я очень ценю это.
— Ты в порядке?
— Мне кажется, ты совершила очень смелый поступок, Тилли.
— А вот Си думает, что это глупость.
— Не бери в голову.
— Мне страшно.
— И это понятно. — Я перекатываюсь на спину и смотрю на мусорные гирлянды у меня над головой. — Тилли, я тут все думаю о том человеке. О Даниэле… помнишь, я тебе о нем рассказывала?
Сестра кашляет.
— Он будто пытался мне что-то сказать, но я не смогла понять его.
— А как, ты говоришь, вы встретились?
Вспоминаю о подарках на пороге.
— Я просто столкнулась с ним на улице. И узнала его.
— Правда?
— Да, он же был на похоронах. Но дело не только в этом. Мне почему-то показалось, что я знала его когда-то, но забыла. — Поднимаю серебряный цветок и кручу его в пальцах. — В общем, я его упустила. Не знаю, где он сейчас. Но я вот все думаю… может, он хотел мне сказать о чем-то важном? Вдруг это как-то связано с мамой.
— Алиса, ты думаешь…
— Что?
Тилли молчит. Представляю, как она лежит дома, на своем мягком диване с уродливыми желтыми цветами на обивке.
— Так что я думаю? — переспрашиваю я.
— Отец всегда говорил, что есть вещи, о которых не стоит упоминать вслух, так ведь?
— Проклятие семейства Таннеров.
— Просто…
— Если Тоби бросит тебя, клянусь, я выцарапаю ему глаза.
— Я не об этом… — Тилли замолкает. — Спасибо.
Выслушав ее рассказ о предстоящем плановом УЗИ, я наконец кладу трубку. Лежу и смотрю, как небо темнеет, а мир становится черно-белым. Бедра ноют, опираясь на твердую землю. Внутренний голос велит мне встать, купить что-нибудь к ужину и пойти домой. Но зов его звучит приглушенно, будто издалека, а я отвечаю, что все равно у меня нет дома, куда можно вернуться. «Это опасно! — не унимается голос, переходя на крик. — Не делай глупостей!» А я почему-то чувствую себя в безопасности. Да, знаю, это странно. Но мне здесь хорошо.
Десять причин, чтобы не прыгать1. Кому-то придется прибираться.
2. У меня есть дочь.
3. Вот ты все узнаешь — а меня уже не будет, и я не смогу тебе все объяснить.
4. Иногда нужно довериться…
5. Я не хочу оказаться таким же, как мой отец.
6. Я считал его трусом.
7. Я видел, как он поступил с моей матерью.
8. Я не из тех, кто сдается.
9. Я люблю тебя.
10. И может быть…
Мост Альберта будто родом из викторианского летнего сада: китайские фонарики; столбики, похожие на кружевные свадебные торты; ряд позолоченных кованых цветов, опоясывающий реку. Я иду к мосту по набережной Челси. Никакой суеты вокруг. Течение реки неспешно, словно животное, крадущееся по городу. Мост отражается в воде, а вместе с ним и множество огней. Если бы я свернул и пошел в другую сторону, то мог бы дойти до самого побережья. Интересно, где проходит черта между рекой и морем? Или есть такое место, где они сливаются в одно, не разделяясь?
Тротуар здесь узкий. Останавливаюсь на северной стороне, в темноте между двумя фонарями, и кладу руки на холодный железный парапет. Вода в реке поднялась высоко. Представляю, какой она будет холодной, как потянет меня за рукава, будто надоедливый ребенок. Она выбьет из меня жизнь, остановит сердце — раз и навсегда. Смотрю вверх по течению: угловатые высотки Уорлдс-энда все еще мерцают россыпью желтых окон, электростанция Лотс-роуд темнеет вдали, а река плавно движется меж берегов.
Представляю, что твоя мама стоит сейчас рядом, — и вдруг осознаю, что это видение больше не вызывает у меня приливов паники и злости. «Посмотри, Жюлианна. Правда это чудесно?» — «Ты уходишь от ответственности, Даниэль». — «Но я ведь нашел ее. Столько лет спустя я наконец нашел нашу дочь». — «И что ты сделал?» — «Оставил ее в покое».
Дует ветер: холодное дыхание на моих щеках. Здесь не пахнет городом, а небо кажется выше и легче, чем в окружении кирпича и камня. Под слоем виски я все еще чувствую привкус торта, которым ты меня угощала.
Я не спрыгиваю. Никогда не был создан для широких жестов — впрочем, думаю, ты об этом уже догадалась. А сердце, похоже, не готово сделать мне такой подарок — не сейчас, по крайней мере.
Вместо этого весь остаток ночи я брожу по тихим улицам и пустым скверам. Прекрасней всего город в предутренние часы, когда слышно, как звук твоих шагов эхом разносится по тротуару, и чувствуется, что весь мир замер в ожидании нового дня. А потом — рассвет. Есть что-то магическое в его повторениях, он всегда одинаковый — и всегда такой разный. Сегодня солнце всходит на подмостки ясной небесной тверди. Оно смягчает все, до чего может дотянуться лучами, и город — наш город — появляется вновь, словно из царства грез, а утренний туман превращается в небесную синь.
Я иду на север: мимо напыщенных кирпичных особняков на Слоун-стрит; мимо украшенных лепниной посольств на Бэлгрейв-стрит; через зловеще притихший Гайд-парк и дальше, по блестящей Нью-Бонд-стрит, до Мерилибон-роуд. Подхожу к Риджентс-парку ровно в тот момент, когда человек в светоотражающей куртке отпирает ворота. Он кивает мне, но ничего не говорит. Стать первым посетителем Риджентс-парка в понедельник утром — в этом есть своя прелесть. Пересекаю его от края до края, наблюдая, как небо сначала розовеет, а затем становится голубым с вкраплениями высоких белых облаков. Выхожу на дорожку позади зоопарка и иду под деревьями, вплотную к ограде. Два попугая с ярко-красным оперением сидят друг напротив друга. Один из них поворачивается и смотрит на меня, когда я прохожу мимо.
Я иду обратно в Хэмпстед-Хит. Не понимаю зачем. Не уверен, что хочу этого. Но меня что-то тянет туда так, как давно уже не тянуло. Может быть, там осталось еще немного виски. Я выпью его, а потом лягу спать.
Но когда я заглядываю в свое убежище, то вижу там тебя. Ты лежишь на земле. Я бросаюсь на колени, но чувствую, что не могу прикоснуться к тебе. Лицо бледное, будто мрамор, волосы разметались, но крови нет и поза вполне естественная.
— Алиса? — едва могу вымолвить твое имя.
Ты не шевелишься.
Снова, чуть громче: «Алиса!» Ничего. Я опираюсь о землю, отодвинув ладони подальше от твоего тела, и наклоняюсь щекой к твоему рту. Есть. Ты дышишь, точно. Поднимаюсь на корточки и пытаюсь перевести дух. Алиса. Доченька моя. Смотрю, как ты спишь, и вдруг в голове четко проявляется идея, которая витала там со дня нашей встречи. Сейчас ты растерянна, и если я скажу тебе, кто я такой, ты растеряешься еще больше. Правда бывает разная. И выразить ее можно по-разному.
Открыв глаза, ты видишь меня — но, похоже, не удивлена, что я здесь. Приподнимаешь голову, а затем откидываешь ее назад, на землю.
— Значит, вы тоже вернулись сюда, — произносишь ты.
— Что ты тут делаешь? — Мой голос срывается, дрожит.
— Как же вы спите здесь? — Ты приподнимаешься на локте, слегка постанывая. Я пожимаю плечами. — Я чувствую себя столетней старухой.
Ты здесь. Ты могла умереть. Ты вернулась.
— У тебя же есть дом, так? С ним что-то случилось?
— Я не могла там больше оставаться. — Ты расправляешь футболку поверх пояса джинсов и потираешь шею.
— Алиса, ночевать в парке опасно.
Ты опускаешь глаза и наклоняешь голову набок:
— Со мной все в порядке.
— Не делай так больше, — говорю я. — Никогда. Ты вся продрогла.
Снимаю с себя пиджак и протягиваю его тебе. Ты в сомнениях.
— Прости, — говорю я. — Надень его всего на минутку, только чтобы согреться.
Ты накидываешь его на плечи, но не просовываешь руки в рукава. Я оглядываю свою рубашку: несвежая, одной пуговицы не хватает. Волна изнеможения плещется в глубине моего сознания.
— Где вы были? — спрашиваешь ты. У тебя в волосах прутики и комочки земли.
— Гулял.
Ты выжидательно приподнимаешь брови. Подбираю с земли листок и принимаюсь рвать его на кусочки.
— Где вы спали? — наконец не выдерживаешь ты.
— Я не спал.
— Выглядите уставшим.
— Жить буду.
— Я пыталась… — Ты указываешь на полог из листьев.
Я поднимаю глаза и только теперь замечаю твою работу. По телу пробегает дрожь. Все цвета перепутаны, будто звуки чужой речи, которую я никогда прежде не слышал.
— Я пришла вернуть ваши вещи, — говоришь ты.
Я высматриваю их среди гирлянд: оранжевая картонка, нитка жемчуга, кепка. Тебе они не нужны. Ты принесла их назад.
— Я попыталась… — Ты пожимаешь плечами и улыбаешься, и мне хочется обнять тебя.
Что-то колет в груди. «Только не сейчас».
— Наверно, я все перепутала, — говоришь ты.
— Все прекрасно, — говорю я. — Спасибо.
Справа я замечаю аккуратную кучку рваной бумаги, и мое сердце снова екает. Не надо было этого делать. Но, возможно, именно это каким-то чудом привело тебя назад ко мне. Я собираю обрывки и запихиваю их в карман брюк. Ты внимательно смотришь на меня, но ни о чем не спрашиваешь. Есть вещи, о которых не стоит говорить вслух. На тебя и без того свалилось столько бед — и Малкольм, и тот парень, что был на похоронах.
Твой желудок урчит, а следом и мой, будто в ответ.
— Умираю от голода. Наверно, мне стоит купить что-нибудь нам на завтрак, — произносишь ты, возвращая мне пиджак.
— Нет.
Ты испуганно смотришь на меня.
— Любишь чернику? — спрашиваю я.
Ты киваешь.
— Пойдем.
Выбираясь из убежища, я что-то чувствую под ногами. Цветок из газеты. Ты посадила его в землю. И его, и тот, что из фольги, и даже розовый, уже увядший. Как же это по-детски.
— Я сто лет такого не вытворяла, — говоришь ты. Наши пальцы все в фиолетовых пятнах, у тебя на щеке — полоска темного сока. — Это вкусней любого пирога.
— Через пару недель они будут еще лучше.
Ты киваешь, и я представляю, как мы возвращаемся сюда и собираем чернику снова.
— А еще тут есть одна яблонька… — говорю я.
Ты удивленно вскидываешь брови и улыбаешься. Но когда мы подходим к дереву, то видим, что яблоки еще незрелые, да и висят так, что их не достать. Смотрю, как ты тянешь руку как можно выше. Перехватив мой взгляд, ты подмигиваешь мне.
— Вы сможете меня подсадить? Поднять на плечи? — спрашиваешь ты, но тут же мотаешь головой. — Простите. Не знаю, о чем я только думала.
— Ничего. Я справлюсь. — Я присаживаюсь на корточки, отвернув голову.
— Вы уверены?
— Смелей.
Чувствую, как твои ноги прижимаются к моим ушам. Начинаю медленно вставать, а ты хватаешь меня за голову.
— Вы уверены?..
Ты не успеваешь договорить, а я уже стою во весь рост. Сто лет я не чувствовал себя таким сильным, высоким и счастливым, как сейчас. Хочется закричать: «Посмотрите на меня и мою дочку! Посмотрите на нас!» Ты чуть наклоняешься, и я придерживаю тебя за голени. Подхожу ближе к дереву и чувствую, как ты тянешься вверх, твои пятки упираются мне в ладони.
— Одно есть, — произносишь ты. — И еще одно.
Каждый раз, когда ты срываешь с ветки очередное яблоко, я чувствую легкий толчок.
— Мне все не удержать, — говоришь ты и роняешь их на землю: одно, два, три, четыре. Есть их пока нельзя.
— Всё, хватит. Спускайся.
Я сгибаю колени, не обращая внимания на боль в спине, а ты смеешься, заваливаясь вперед и вбок.
— Тут хватит яблок на пирог, — говоришь ты, поднимая три штуки и указывая на последнее.
Я представляю, как мы сидим вдвоем, а перед нами на столе стоят тарелки с пирогом и заварным кремом.
Яблоки ярко-зеленые, кислые на вкус. Мы съедаем по одному, морщась и причмокивая губами.
— Этот сорт — для готовки, — говорю я. — И они еще не созрели. Извини.
— Зато они очень бодрят, — отвечаешь ты с улыбкой.






