Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II Долбилов Михаил
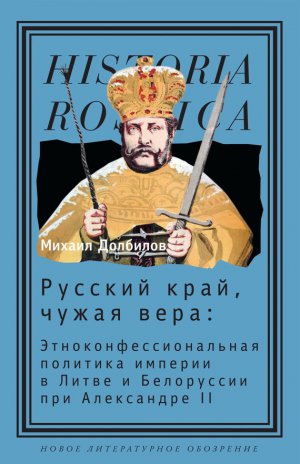
Виленская комиссия ополчилась против популяризации научного знания на древнееврейском не менее страстно, чем против культивирования идиша. Сам по себе древнееврейский не был табу для виленских экспертов: так, они не возражали против издания русского перевода Танаха с параллельным оригинальным текстом. Но использование древнееврейского для секулярного просвещения «народа», в качестве языка массовой литературы, грозило вызвать его конкуренцию с русским и усугубить «замкнутость» евреев. (Эти претензии к ОПЕ во многом повторяли домыслы Бессонова 1865 года о скрытых целях Постельса, который тоже предлагал отказаться от «исправления» религиозных убеждений евреев в пользу светского образования.) Комиссия резко высказалась против «гебраизирования науки». Генерал-губернатор Э.Т. Баранов последовал ее совету и в том же августе 1867 года ходатайствовал перед Министерством внутренних дел о запрете публикаций ОПЕ на древнееврейском[2127].
Инициативу из Вильны не поддержали ни в МВД, ни в МНП[2128]. Оба ведомства не ожидали от такого запрета никакой пользы для обрусения евреев. МНП указывало на несовместимость запрета с сохранением древнееврейского в сакральных текстах: «…даже и самые крайние евреи-реформаторы в Германии до сих пор не решились вполне вытеснить его (древнееврейский язык. – М.Д.) из употребления в своем богослужении…». К тому же, полагало МНП, «десятка два – три научных сочинений» и «несколько газет» на древнем языке не сделают погоды в языковой политике: «…сколько бы он ни был употребляем в литературе, как язык мертвый, он не станет никогда разговорным языком для евреев, которые пользуются им в разговоре и в переписке между собою лишь в редких случаях, приводя на нем отдельные слова и выражения, как нам случается делать с языком латинским»[2129].
В Вильне отзывы министерств, полученные уже в 1868 году, встретили резкий отпор. Комиссии пришлось вернуться к обсуждению этой проблемы после перерыва в своей работе, вызванного очередной сменой генерал-губернатора. Назначенный на эту должность А.Л. Потапов по сравнению с другими имперскими сановниками сколько-то разбирался в еврейском вопросе. Еще в 1865 году, в бытность помощником М.Н. Муравьева, он заинтересованно обсуждал эту тему с П.А. Бессоновым. В июле 1868-го Потапов распорядился возобновить занятия комиссии, новым председателем которой стал чиновник по особым поручениям, камергер П.Н. Спасский, поведший дела энергичнее своего предшественника В.А. Тарасова. Тогда же Потапов задумал пригласить ученых евреев (т. е. евреев, занимавших специальную должность эксперта при администрации) от каждой губернии Северо-Западного края для дискуссии по проектам комиссии[2130]. Спустя год с небольшим, в октябре 1869-го, этот план осуществится в виде совещаний комиссии с депутатами от губерний. Споры депутатов с виленскими экспертами получат отражение в прессе и составят важную страницу в общероссийской истории еврейского вопроса[2131].
Заключение комиссии о литературе на древнееврейском датировано 7 августа 1868-го. Как и годом раньше, в центре внимания был вопрос: насколько доступны публикации на древнем языке современным евреям? Члены комиссии отвергали министерские доводы самоуверенно, а подчас и небрежно, мало считаясь с субординацией. Их главный контраргумент переворачивал суждение МНП о том, что популяризаторская деятельность ОПЕ охватывает не очень-то широкий круг читателей. Комиссия отказалась видеть в этом безобидное меценатство и потребовала взглянуть на дело с позиции практической пользы: «…образование массы народа не заключается в отдельных научно-образованных личностях». Пригодность древнееврейского для изложения научных истин решительно отрицалась: «…приходится или выдумывать слова, или же заимствовать их из других языков, так что даже людям, знающим еврейский язык настолько, чтобы понимать Библию, эти переводы являются не вполне понятными, а массе и совершенно недоступными». Наконец, ставилась под сомнение и ссылка на прецедент евреев Франции и Германии, ибо «была ли от этого (публикаций на древнееврейском. – М.Д.) польза для ассимиляции евреев – неизвестно». Генерал-губернатор Потапов, как и его предшественник Баранов, поддержал комиссию и в том же августе 1868 года представил, на сей раз в МНП, вторичное ходатайство о запрете[2132].
Заключение так и не разъясняло до конца, почему же необходимо запретить публикации на языке, не имеющем шансов вернуться в широкое употребление. Однако сама горячность тона виленских экспертов выдавала их опасения и служила косвенным признанием жизнеспособности древнееврейского. В более конкретных терминах можно говорить о тревоге виленцев по поводу авторитета ОПЕ в еврейской среде. Враждебность виленской комиссии к ОПЕ не была, судя по всему, однородной по своим мотивациям. Отчасти ее обусловили разногласия между старшим и младшим поколениями маскилов[2133]. Виленские эксперты Воль, М. Гурвич, Леванда принадлежали к младшему или даже шли дальше него в своем стремлении к аккультурации в русскую среду, тогда как в столичном комитете ОПЕ, наряду с добровольными русификаторами, немалым авторитетом пользовались и представители «старых маскилов», например Л.М. Розенталь и М.Л. Лилиенблюм. Для этих двух течений в российском еврействе полемика о древнееврейском являлась частью драматического, исполненного конфликтов искания новой самоидентификации в эпоху усиления национализма. Не только в составе официального совещания экспертов, но и лично, в частной корреспонденции и газетных статьях, Леванда и Гурвич подвергали «гебраистов» ОПЕ серьезной критике за тенденцию к сталкиванию русского языка с древнееврейским в деле гражданского воспитания евреев[2134].
Но в инвективах виленской комиссии против ОПЕ также угадывается, упрощенно выражаясь, вполне нееврейский голос, принадлежавший Брафману и выражавший те самые предубеждения, которыми руководствовался Корнилов в своем походе на уваровскую систему отдельных школ. Объектом нападок с этой стороны являлось ОПЕ как таковое, независимо от расхождений между его деятелями и сторонниками. Примечательно, что Корнилов более чем откровенно заявил о своем нерасположении к ОПЕ еще в конце 1866 года, в одном из своих первых докладов только что назначенному в Вильну Баранову об образовании евреев. Корнилов выделял в «еврейском обществе» несколько «партий», различающихся между собой отношением к «слиянию с русскими». Одна из них отождествлялась именно с ОПЕ, которое, по определению Корнилова, соглашалось с необходимостью «очистить талмуд от предрассудков», но желало при этом «удержать национальную и вероисповедную отдельность евреев от прочих народов и с тем вместе достигнуть полного уравнения с русскими в гражданских правах». Не замечая смысловой несуразицы, автор записки именовал эту «партию» то «космополитами», то «националами».
Этот оксюморон, впрочем, объясняется специфической корниловской логикой, запечатленной в следующей характеристике этой опасной «партии»:
…по признаваемым и поддерживаемым ею началам она находится в связи с евреями других государств. Улучшение путей сообщения, развитие торговых сношений, словом, все успехи цивилизации служат ей к достижению цели… Она в состоянии закупить или склонить убеждениями в свою пользу органы прессы и обладает отличными адвокатами своих интересов; на ее стороне Ротшильды, Перейры, Монтефиоре и пр.
Смешивая два стереотипных образа еврейства (местечковый «жидок» и всемогущий «Ротшильд»), Корнилов усматривал инструмент злонамеренной консервации еврейской «отдельности» в космополитической власти денег: «Партия националов держит массы в своих руках… [Она] желала бы захватить в свои руки еврейское образование в правительственных училищах и понудительно влиять на выборы в учителя и раввины… Для этих евреев космополитов пригодно всякое средство, ведущее к цели»[2135]. В контексте подобных представлений публикации ОПЕ на древнееврейском должны были казаться особенно подозрительными вследствие своих секулярных и позитивистских приоритетов: уж не стоит ли за этим всеевропейский заговор против христианских монархий?
Возвращаясь к ходу дискуссии о системе отдельных еврейских школ, видишь, что Корнилов в конце концов, игнорируя расхождения между разными поколениями и группами маскилов, спроецировал свое предвзятое впечатление от ОПЕ на неплохо знакомых ему виленских еврейских интеллигентов. Это отождествление было частью обновленного дискурса о еврейской «замкнутости», который все больше соотносился с имперским страхом националистических сепаратизмов. Разумеется, этнокультурная и вероисповедная обособленность евреев вызывала у властей сильное беспокойство и раньше, но мало кто допускал, что она может стать основой для самостоятельного нациостроительства[2136]. Даже Бессонову, который сильнее, чем кто-либо, опасался онемечивания евреев в смысле их вхождения в модерную нацию, не являлся призрак собственно еврейского национального сообщества. «Кагаломания», давшая столь богатую пищу воображению бюрократов, сделала их более чувствительными не только к фикциям, но и к реальным проблемам, одной из которых и была концептуализация еврейской национальности. Хотя и начинив многие и многие головы вздором о всемогущем кагале, новая фобия, независимо от намерений Брафмана и его единомышленников, одновременно способствовала – конечно, в самой общей форме – модернизации самих когнитивных категорий, которые использовались для определения еврейства (а уж к каким результатам это привело – вопрос другой).
Так, в июне 1867 года все та же виленская комиссия по еврейским делам разбирала, казалось бы, второстепенный, технический вопрос: «следует ли, чтобы евреи в публичных актах… означали принадлежность к еврейскому племени?» В действительности дискуссия велась о более широком предмете – о категориях идентификации еврея: вероисповедной, сословной и этнической. Члены комиссии утверждали, что законодательство трактует евреев прежде всего как «составляющих особую племенную корпорацию»[2137]. Но, продолжали они, в новых условиях, когда «целию Правительства должно быть стремление к обобщению и слитию всех отдельных племен… с первенствующим великим племенем русским», да еще при том, что «сознание это получило зародыш в убеждении и желании народа и лишь от него начало переходить в администрацию», – в этих новых условиях нельзя допускать и мысли, «чтобы евреи… могли составлять отдельную национальность», пусть даже они и сохранят свою веру. Данный тезис, однако, показывал, что именно эта мысль и тревожила экспертов. Предлагалось запретить евреям «в публичных актах, бумагах и разного рода сделках [именовать себя] евреями», разрешив указывать только сословную принадлежность. При этом соответствующие инстанции, удостоверяясь в «самоличности совершителя акта», всегда смогут «предупредить возможность пользоваться евреям не предоставленными им правами»[2138]. Иначе говоря, запрещая евреям называть себя евреями, власти стали бы еще бдительнее отслеживать признаки еврейскости[2139]. Существующее же законодательство виленские эксперты уличали в том, что оно потворствовало развитию в евреях чувства национальной принадлежности.
Сходным образом администраторы ВУО к концу 1867 года стали судить об отдельных еврейских училищах. Показательна в этом отношении записка «О преобразовании еврейских училищ» от 22 декабря 1867-го, которую директор раввинского училища Собчаков составил по заказу Корнилова, возможно, в помощь тому при подготовке программного отчета. Собчаков, еще годом раньше доказывавший преимущества отдельных училищ, теперь признавал весь восходящий к Уварову проект провалившимся: училища не завоевали популярности среди евреев, традиционные еврейские школы ничуть не потеснены, «меламды… по-прежнему портят еврейских детей в своих хедерах, талмуд-торах и ешиботах». Но даже оставаясь полупустыми (как они изображались теперь), училища одним своим существованием создавали серьезную угрозу «русскому делу» в Западном крае: они «способствовали и способствуют еще и теперь к укреплению в России особой и самостоятельной еврейской национальности, которая, хотя и существовала еще прежде, но была не сознаваема самыми представителями евреев в России». Ныне, с распространением «духа сепаратизма», нельзя оставить училища в прежней изоляции, так как «вместе с рассеянием фанатизма религиозного они развивают фанатизм еврейско-национальный»[2140]. Перефразируем Собчакова: государство, познакомив евреев с европейским типом учебного заведения и воспитав реформистски настроенных еврейских учителей, снабдило их инструментом нациостроительства, ускорило процесс национальной самоидентификации.
Записка Собчакова выражала взгляд на казенные специальные училища как опрометчивый подарок государства евреям, который надо поскорее отнять, пока еще лишь меньшинство их догадалось о способах его утилизации: «Поддерживать для евреев еще и теперь особые привилегированные училища значит предоставить инородцам в России гораздо больше средств к самоусовершенствованию, чем господствующему населению». Еще более откровенно, чем Корнилов в ноябрьском представлении Баранову, директор раввинского училища объяснял нежелательность поступления его выпускников в университеты: это значит готовить «русских чиновников из евреев». Чтобы такую практику пресечь, необходимо так специализировать раввинские училища, чтобы они готовили исключительно раввинов, а не «аптекарей, технологов, ветеринаров и студентов русских высших учебных заведений»[2141].
Внутренняя логика записки Собчакова убеждает в том, что для администраторов ВУО в вопросе о еврейском образовании главной и почти самодовлеющей целью являлось упразднение прежней, отдельной, системы, тогда как завлечение евреев в общие учебные заведения не казалось им – вопреки декларациям – назревшей задачей. Призывая «слить» отдельные школы с приходскими и народными, Собчаков утверждал: «Чрез такое соединение еврейских мальчиков с христианскими в одном здании, первые всё более и более будут терять свои племенные особенности, талмудические предания и азиатские свои обычаи…». Помещение еврейского ребенка в гимназию или приходское училище мыслится здесь не столько результатом свободного выбора его просвещенных родителей, не говоря уж о нем самом, сколько некоей мерой исправительного воздействия[2142]. Процитированное суждение, перегруженное специфическими эпитетами, заключало в себе предпосылку к смысловой инверсии – излюбленному приему бюрократии. Нарочитый акцент на устранении негативных свойств еврейских учеников мог легко переродиться в мотив тревоги о нравственном здоровье и твердости в вере учеников православных, находящихся в такой близости к «талмудическим преданиям» и «азиатским обычаям», – и заключение последовало бы тогда, конечно, не в пользу «слияния».
Вывод руководства ВУО об опасности национальной самоорганизации евреев можно назвать прозрением наполовину. С одной стороны, допущение возможности модерного еврейского нациостроительства было новаторским тезисом для имперской бюрократии. С другой же стороны, прорицатели вроде Собчакова не могли и помыслить реальных коллизий еврейского национального движения и сильно преувеличивали, усматривая одну из его сил в раввинском училище. Хотя и не всегда так, как хотелось властям, училище способствовало аккультурации еврейской молодежи к русскому обществу. Его выпускники становились чиновниками, учеными, педагогами, казенными раввинами или, на худой конец, ориентированными на русских народников радикалами[2143], но лабораторией еврейской национальной мысли оно не стало.
В обострившихся к 1867 году недоверии и подозрительности бюрократов-русификаторов к виленским маскилам проявилась характерная не только для описываемого времени амбивалентность имперской концепции аккультурации. Формирование обрусевших элит в нерусских этнических или этноконфессиональных группах было одновременно целью и страхом русификаторов. Так, Корнилов в те же годы сетовал, что русскоязычные школы для литовцев «не в состоянии произвести на свет ни одного вполне надежного и энергичного русского литовца»[2144]. На фоне этой неудачи с литовцами маскилы выглядели почти идеальными союзниками власти – предприимчивой и лояльной элитой, готовой приобщать соплеменников к русскому языку и культуре (впрочем, не к православию). Но именно их образованность и энергия внушали русификаторам сомнение: не обернулось ли обрусение выработкой современного типа самосознания, который с таким же успехом может служить делу построения собственной нации? Корнилов в этой связи замечал в отчете за 1867 год:
Чем более в народе развитых личностей, тем сильнее развивается в нем сознание и гордость национальности… тем менее остается надежды к слиянию с господствующим народом… И теперь уже нельзя не видеть, что ученики раввинского училища, хотя действительно способствуют распространению русского языка и общего образования между евреями, однако же стоят при этом за еврейскую национальность…[2145]
Отсюда становится понятнее, почему в своих попытках переформовать идентичность нерусских групп населения власти нередко колебались между интеграцией и сегрегацией. Последняя виделась средством ограждения подданных от соблазнов современности: секулярных идеологий, массовой прессы на доступном языке, стимулирующих социальную мобильность учебных заведений и проч. В некотором смысле случай виленских маскилов может рассматриваться как парадигматический для такого общеимперского феномена, как отчуждение чиновников от прежде опекаемых ими образованных «инородцев», на которых возлагалась миссия просвещения единоплеменников ради «сближения» и «слияния» с русскими. Р. Джерейси удачно описывает этот процесс утраты доверия на примере русификаторов в Поволжье, чье отношение к татарам претерпевало парадоксальные, казалось бы, метаморфозы: «Многие русские приняли бы полное обрусение татар, если бы это могло совершиться по мановению волшебного жезла… но они чувствовали, что не смогут спокойно смотреть на промежуточные формы обрусения при его более постепенном ходе». Позднейшим аналогом того, как виленские маскилы лишились покровительства местных бюрократов, стал провал казанских джадидов (мусульманских реформаторов среди тюркоязычного населения империи), которые в 1910-х годах старались предотвратить необычный по прежним меркам союз между властью и обскурантистски настроенными муллами – союз, базировавшийся на желании чиновников иметь в мусульманах не «просвещенных и активных, а ограниченных и невежественных граждан»[2146].
И все же, несмотря на решительную легитимацию в 1867 году задачи «оневежествления» евреев, начатая Корниловым подготовка к официальной отмене отдельных еврейских школ застопорилась, еще раз отсрочив упразднение уваровской системы. Разногласия между Вильной и Петербургом насчет целей такой реформы послужили не единственной тому причиной. Радикальной развязке препятствовало и противоречивое отношение самих виленских чиновников к раввинскому училищу. Каким бы раздражением ни проникался Корнилов против заподозренных в тайном умысле маскилов, он не хотел бросать эксперимент по переводу иудейской литературы на русский язык. Желая сохранить училище в какой-либо новой форме, он высказал мысль о придании ему статуса специального духовного заведения, по образцу духовных семинарий для католиков и православных. В таком случае училище выпускало бы только раввинов, но не учителей для начальных еврейских школ. Из этой мысли логически вытекало предложение «сократить курс общих предметов и расширить курс предметов еврейских, что значительно возвысило бы воспитанников раввинского училища в глазах еврейских масс, которые в настоящее время с недоверием относятся к их познаниям в религии». Но это означало бы открыто признать правоту «фанатиков»-миснагедов, обвинявших выпускников училища в незнании галахи. К тому же классифицировать раввинское училище в одном ряду с христианскими семинариями мешало отсутствие религиозно-правовой категории иудейского духовенства. Запутавшись в своих антипатиях к разным группам и течениям в еврействе, Корнилов в отчете за 1867 год отделался обтекаемой фразой о необходимости реформы раввинского училища[2147].
Проблема религиозного обучения евреев в христианских школах
Удаление Корнилова в отставку с приходом нового генерал-губернатора А.Л. Потапова весной 1868 года приостановило в ВУО разработку плана реформы еврейских училищ. В середине 1868-го на авансцену еврейской политики в Вильне вышла учрежденная еще при Кауфмане генерал-губернаторская комиссия, которая к осени следующего года подготовила для обсуждения с депутатами серию амбициозных, а во многом и заведомо утопических проектов (некоторые из них рассматриваются ниже). Сменивший Корнилова на посту попечителя П.Н. Батюшков не пытался перехватить у комиссии инициативу, тем более что он разделял воззрение большинства членов на одну из важнейших проблем, обсуждавшихся на ее заседаниях в 1868 году: перевод на русский язык иудейской религиозной литературы и богослужения[2148].
На практике этот вопрос оказался взаимосвязан с переориентацией – реальной, а не воображаемой – части еврейства на общеобразовательные заведения. В октябре 1868 года попечителю ВУО поступило прошение родителей еврейских учеников Новоалександровского уездного училища (Ковенская губерния) – ввести в училище уроки иудейского закона Божьего и назначить преподавателем раввина. Заведующий Ковенской дирекцией училищ Н.Н. Новиков поддержал прошение. Батюшков дал разрешение с оговоркой: обучение должно происходить во «внеклассное время» (т. е. когда в здании училища нет христианских учеников) – и вслед за резолюцией приписал комментарий, фактически ее отменяющий: «NB. Вообще говоря, я не разделяю мысли допускать преподавание еврейского закона в христианских училищах»[2149].
Nota bene Батюшкова отразила нескоординированность действий по данному вопросу в различных учебных округах. Первый опыт преподавания «закона еврейской веры» в общеобразовательном заведении был предпринят в 1860 году в Одесском УО, когда МНП разрешило такие уроки в Симферопольской гимназии. В 1862-м министерство удовлетворило ходатайство попечителя Киевского УО о допущении таких уроков в гимназиях и уездных училищах – при условии, что в данном заведении должно быть не менее пятнадцати учеников-евреев, а учителем этого предмета будет выпускник раввинского училища. В 1863 году МНП утвердило программу преподавания закона еврейской веры для евреев – учеников гимназий. Она включала катехизис по книге «Das Lehrbuch der israelitischen Religion», изданной МНП в 1859 году, Библию и главные иудейские молитвы с немецким переводом, историю еврейского народа (по которой также рекомендовалось использовать немецкоязычные пособия)[2150]. В отличие от одесских и киевских коллег, администраторы Виленского УО не поощряли этого новшества. Как упоминалось выше, Бессонов в 1865 году отказался поддержать прошение об уроках иудейского закона в Виленской гимназии, несмотря на то что их предлагалось вести на русском, а не на немецком языке. Возможно, он был уверен, что без немецкоязычных пособий учителя не смогут обойтись. Лишь в ноябре 1867 года Корнилов в представлении Баранову о закрытии начальных еврейских училищ, имея в виду трудоустройство учителей, предложил ввести в гимназиях, прогимназиях и уездных училищах преподавание иудейского закона «по русским учебникам» в ограниченном объеме[2151]. Спустя год, однако, училища все еще существовали, и Батюшков не видел причины форсировать нововведение.
У его подчиненного Новикова был иной взгляд на дело[2152]. Спустя всего месяц, в ноябре 1868-го, он переслал Батюшкову прошение, подписанное почти тридцатью евреями, о назначении, «во имя веротерпимости и справедливости», законоучителя еврейского закона веры в более крупное учебное заведение – Ковенскую гимназию, занимавшую среди гимназий ВУО первое место по числу учеников-евреев. Среди подписавших были весьма уважаемые лица: почетный блюститель еврейских училищ, главный доктор городской больницы и др. Их кандидатурой на должность законоучителя стал местный раввин.
Новиков поддержал прошение и в письме попечителю развил аргументацию этих «просвещенных членов еврейского общества». Он указал, что отсутствие таких уроков не только подрывает гимназическую дисциплину, но и грозит поставить тянущихся к образованию евреев в то же обособленное положение внутри гимназии, в каком находятся их непросвещенные соплеменники в обществе:
…интересы [гимназии] требуют, чтобы ученики еврейского происхождения не оставались праздными во время уроков закона Божия христианских исповеданий; будучи свободными на это время, ученики еврейского происхождения действительно составляют «жалкое», жизнию гимназии не обусловливаемое «исключение» (цитаты из прошения. – М.Д.) из общего… порядка; они невольно нарушают его; помимо собственных своих целей гимназия доселе была вынуждена мириться с этим непорядком, ибо в ней он допускался и даже как бы узаконялся чуждою и внешнею для нее исключительностию невежественного большинства местных евреев-талмудистов…
При условии преподавания на русском языке (условии, «недосказанном в прошении» – случайно ли?) оснований для такой дискриминации уже нет. В подкрепление своего заключения Новиков ссылался на «частные слухи» о том, что «раввины допущены в состав учителей при гимназиях Одесского учебного округа и, по всему вероятию, преподают на русском языке» и что в Варшавском УО (об этом ему сообщил почетный блюститель училища Шапиро) «для обрусения и ассимиляции евреев» учреждена должность сверхштатного законоучителя еврейской веры в гимназиях. Об официальной программе этого курса, утвержденной МНП в 1863 году и предписывавшей использование немецкоязычных пособий, Новиков не упоминал вовсе[2153]. Любопытно, что этот полуофициальный обмен опытом между учебными округами – территориальными подразделениями МНП – совершался словно бы в обход руководства министерства.
На этот раз Батюшков не имел возражений против уроков иудейского закона веры в гимназии, но наотрез отказал в содержании еврейского законоучителя «из сумм сбора за ученье». Жалованье ему следовало выплачивать из сумм еврейского свечного сбора. Мотив попечителя ясен: даже малая доля денег, собранных с христиан за учебу их детей в гимназии, не должна оказаться растраченной на нужды евреев.
Этот вопрос и явился камнем преткновения. В коротком ответном отношении от января 1869 года министр Толстой сообщил о невозможности новых ассигнований из сумм свечного сбора ввиду «предстоящего преобразования по еврейским училищам». Выходило так, что предстоящая, но никак не наступавшая отмена отдельных еврейских училищ теперь не ускоряла, а замедляла введение столь нужного евреям предмета в гимназиях. Батюшкова, как кажется, не огорчил отрицательный ответ. И новоалександровское, и ковенское прошения были отклонены. В 1870 году, уже при преемнике Батюшкова Н.А. Сергиевском, та же участь постигла аналогичное прошение от семнадцати родителей еврейских учеников Брестской прогимназии (Гродненская губерния)[2154]. Лишь спустя десять лет, в 1880-м, проблема оказалась решена благодаря пожертвованию еврейского банкира и мецената С.С. Полякова.
В описанном эпизоде не вполне ясна позиция Толстого. Почему искренний сторонник привлечения евреев к общему образованию и борец с атеизмом не позаботился об устранении препятствий к религиозному обучению еврейских детей в стенах гимназий? (Иной вопрос, что к атеизму или индифферентности могло повести именно казенное натаскивание в основах веры, но едва ли Толстой был готов допустить эту вероятность.) На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Возможно, Толстой не считал поддержку религиозного образования еврейских гимназистов задачей первой важности[2155], полагая, что для их превращения в обрусевших верноподданных важнее самый процесс обучения вместе с русскими одним и тем же предметам[2156]. Имеется и свидетельство о том, что товарищу министра И.Д. Делянову не была чужда надежда на обращение евреев-гимназистов в православие. А.М. Гезен в письме Каткову в июне 1868 года передавал свой разговор с Деляновым об одном частном еврейском пансионе. В ответ на слова Гезена об успехах учеников в русском языке товарищ министра заметил: «Если они будут поступать прямо в общие училища, хотя бы ничего не понимая по-русски, то они более будут обращаться в православие»[2157]. Безусловно, массовое обращение евреев в православие не являлось приоритетом властей, что и показала неудача упоминавшегося выше прожекта Брафмана, но даже фантазии вроде деляновской, если их лелеял высокопоставленный бюрократ, могли сказываться на мероприятиях соответствующего ведомства. Проволочки с введением уроков иудейского закона Божьего в гимназиях, возможно, и отразили такое влияние.
При всей привлекательности такой вроде бы простой развязки, как переход еврея в православие, бюрократы и в центре и на местах к концу 1860-х годов стали понимать, что даже на начальном этапе интеграции еврейской молодежи в структуры русского общества власть получает возможность непрямого, более тонкого и «вкрадчивого» влияния на религиозную идентичность этих людей. Европейский опыт показал, что либерализация политики в отношении евреев закономерно расширяет сферу этого, по выражению одного историка, «бессознательного вмешательства». Соприкосновение евреев со все большим числом институций и пользование все большим числом прав, внешне нейтральных в религиозном смысле, но встроенных в ткань религиозной жизни христиан, овеянных христианской символикой, запечатлевших в себе христианский обычай и проч., ставило зачастую их перед дилеммой: отказаться или от соблюдения собственных религиозных практик, или от новых гражданских прав[2158].
Еврейские гимназисты представляли собой группу, открытую и для прямого, и для косвенного воздействия властей на религиозную совесть. Например, привод еврейских учеников на торжественные молебны в православном храме трудно квалифицировать иначе как насилие над религиозным чувством и сознанием[2159]. Менее топорным методом было поощрение еврейских учеников к занятиям в субботу – сюжет, о котором следует сказать чуть больше. В июне 1869 года покровитель ОПЕ Е. Гинцбург, петербургский главный раввин А. Нейман и другие видные лица в столичном еврействе обратились к Д.А. Толстому с просьбой об освобождении еврейских учеников от письма, черчения и рисования по субботам и в дни еврейских праздников. По их сведениям, в некоторых заведениях педагоги заставляли еврейских детей писать, чертить и рисовать «на том основании, что другие еврейские же ученики себе это позволяют». Без просимого освобождения многие еврейские родители боятся отдавать детей в общие заведения. «Этою мерою Ваше Сиятельство устраните важное препятствие на пути просвещения евреев в нашем отечестве», – заключали просители[2160].
Прошение повлекло за собой переписку министра с попечителями учебных округов. Но прежде была запрошена экспертная справка о решении этой проблемы в Пруссии. Оказалось, что в прусских общих училищах еврейские ученики по желанию родителей освобождались от посещения школы в субботние и праздничные дни. Эксперт прямо заявлял, что «училищные начальства в Пруссии не имеют права требовать, чтобы ученики-евреи занимались в эти дни какими то ни было учебными занятиями»[2161].
Ответ из Виленского округа пришел первым. Батюшков уведомлял министра о том, что за время его пребывания в должности никаких жалоб на принуждение к учебе в субботу не поступало. Еврейские ученики «добровольно посещают классы в субботние дни, и на спрос учителя отвечают приготовленные уроки, но не пишут; это продолжается лишь первые годы нахождения ученика в заведении, при переходе же в третий или четвертый класс бльшая часть учеников-евреев добровольно, без всякого со стороны преподавателей принуждения, пишут в классе вместе с учениками-христианами, чтоб не отставать от последних в преподаваемых уроках; приостанавливать же подобные стремления учеников, к ущербу учебного дела, я считаю себя не вправе». Попечитель, как видим, хорошо понимал, что прямого принуждения и не требуется: взрослея, ученик сам обнаруживает себя в ситуации выбора: блюсти традицию, дорогую (предположим это) его родителям, или повышать успеваемость, от которой напрямую зависит его будущность в этом новом для евреев мире.
Ссылка Батюшкова на угрозу «ущерба учебного дела» перекликалась с назидательной ремаркой в постановлении совета при попечителе Киевского округа, присланном в МНП чуть позднее. Совет недоумевал по поводу освобождения евреев от занятий по субботам в Пруссии: это «свидетельствует только о равнодушном отношении прусских учебных заведений к успехам детей еврейского происхождения; ибо невозможно допустить, чтобы они могли оказывать в общих заведениях удовлетворительные успехи по всем предметам обучения, пропуская огромное число уроков…». Одесский попечитель также говорил о добровольной учебе еврейских детей в субботу, отмечая, что раввины не находят в занятиях в субботу «ничего противного духу и догматам еврейской религии». Лишь попечитель Дерптского округа (где, заметим, насчитывалось немало евреев-германофилов, а доля традиционалистов как раз была ниже, чем в соседнем Виленском) признавал, что в некоторых городах Курляндской губернии одни евреи не ходят в школу по субботам и праздникам, а другие если и ходят, то освобождаются от занятий письмом, рисованием и счетом.
Обсудив отзывы, совет при министре народного просвещения пришел к заключению, что прусский опыт все-таки нельзя полностью игнорировать. На усмотрение начальства учебных заведений предоставлялось освобождать еврейских учеников от занятий в эти дни по просьбам родителей. При этом, однако, родителей следовало предупредить, что «в случае малоуспешности их детей не будет принимаемо во внимание при переводе их из класса в класс помянутое освобождение…»[2162]. Как и во многих других случаях, власть могла выражать свои русификаторские притязания через посредство этнически и религиозно нейтральных профессиональных требований[2163]. Секулярный институт аттестации учащихся сам по себе был мощным стимулом к отказу от того, что бюрократы если и не называли прямо, то считали обветшавшим религиозным предрассудком. По-своему Батюшков и его коллеги были правы, когда уверяли, что еврейских гимназистов не надо понукать к занятиям в субботу. Но они умалчивали, а возможно, и не догадывались о том, что для части учеников это тягостный, мучительный выбор.
Последние проекты виленских маскилов
Свой вклад в реформу еврейского образования попытались внести маскилы – члены виленской комиссии. Подготовленные ими к осени 1869 года предложения по данному вопросу взаимосвязаны с проектом другой реформы – отправления иудейского культа. Стоит коснуться основных пунктов этого проекта, в котором проблема государственного воздействия на религиозную идентичность евреев получала довольно оригинальную трактовку, учитывавшую особенности имперской политики религиозной веротерпимости[2164]. В то же время проект может быть рассмотрен как реакция маскилов, все еще настроенных в пользу скорейшей аккультурации евреев, на распространявшееся тогда в бюрократии опасение, что образованные евреи вдохновляются мечтой об отдельной еврейской нации.
Авторы проекта формулировали свое понимание общего принципа и пределов веротерпимости по отношению к иноверным конфессиям в империи: правительтво не касается догматов той или иной веры (это значило бы «насиловать совесть своих подданных»), но «оно имеет право вмешиваться каждый раз, когда… эти догматы ищут для себя выражения во внешних формах; последние, получив осязательность, принимают характер общественных учреждений, подлежащих по всем правам юридической компетентности правительственной власти»[2165]. Почти нет сомнений в том, что процитированная формулировка является парафразом ключевого тезиса из итоговой записки Ревизионной комиссии по делам римско-католического духовенства от 1868 года[2166]: иудаизм и католицизм не были изолированными друг от друга объектами конфессиональной политики властей.
Предлагая не что иное, как дальнейшее огосударствление еврейской религиозной жизни и значительное расширение полномочий казенных раввинов, виленские маскилы полемизировали с распространенным, как они считали, мнением (которое в комиссии отстаивал Брафман), будто бы «правительственное вмешательство делает слишком много чести еврейству (здесь – в значении иудаизма. – М.Д.)… что это вмешательство придает ему ту прочность, без которой оно не могло бы существовать и, раньше или позже, исчезло бы». Соглашаясь с тем, что вмешательство государства в дела конфессии есть и в самом деле «честь», они оспаривали воззрение на иудаизм как «непрочную», чахнущую религию. Воззрение это, как уже отмечалось выше, не было специфически российским, и громко высказывавший его Брафман имел куда более знатных предшественников. Оно направляло политику ряда германских государств в отношении иудаизма в 1820–1840-х годах – избегая регламентации и препятствуя реформе иудейского культа, власти рассчитывали на дискредитацию иудаизма в глазах самих евреев. Авторы виленского проекта высмеивали подобные расчеты, указывая на то, что «умышленное игнорирование не уничтожит» одну из мировых религий, «основанную на откровении». Примером служил и новейший опыт Северо-Американских Соединенных Штатов, где «игнорирование», в отличие от Пруссии 1820-х годов, не обуславливалось сознательной стратегией подрыва иудаизма: «…иудаизм в этой стране не только не исчезает, но даже процветает»[2167].
Авторы проекта тем самым желали подчеркнуть, что их выступление за дальнейшую регламентацию иудаизма продиктовано вовсе не сожалением о его слабости. Напротив, они беспокоились о чрезмерном, по их оценке, развитии иудаизма: «Развиваясь вне правительственного надзора, иудаизм из религии, исповедания превращается в какую-то своеобразную национальность». Вина за это возлагалась на «старое поколение», т. е. традиционалистов, оппозиционных «молодежи, воспитанной в русском духе… [которая] знать не хочет о еврействе как национальности, довольствуясь иудаизмом как религией…»[2168]. Ближайшая цель этих рассуждений состояла в том, чтобы отвести от образованных, секуляризовавшихся евреев подозрения властей (тогда уже ощутимые) в национальном сепаратизме. Очень сомнительно, чтобы Леванда, Воль, Герштейн действительно полагали, будто презираемые ими «фанатики»-миснагеды способны мобилизовать единоверцев под знаменем именно национальных интересов – национальных в современном смысле слова.
Предложенная маскилами реформа была нацелена не на противодействие некоему национальному движению в еврейском простонародье, а на подчинение последнего авторитету духовных лиц по новой для российских евреев модели. Она напоминала отдельные германские опыты переустройства иудаизма, при котором реформистские раввины внедряли элементы обрядовой, богослужебной и пастырской практики христианства. Впрочем, существенное различие заключалось в том, что виленский проект не предусматривал создания центральной духовной администрации наподобие иудейских консисторий во Франции и германских государствах[2169].
Проект возводил раввина и т. н. помощников раввина в некий полусвященнический сан, подчиняя им традиционные должности и звания иудейского закона (магид, дайон, шохет и др.), а синагогу наделял исключительными атрибутами приходского храма, запрещая «общественные молитвы и богомоления» в других традиционных молельных домах (таких, как бесмедреш). В административном отношении раввин уподоблялся православному благочинному – ему подчинялись все «приходские» синагоги уезда, состоявшие в заведовании помощников раввина. Раввину и помощнику раввина вменялось в обязанность наблюдать за совершением богослужения, регулярно произносить проповеди и поучения на русском языке, ограничивать обычай толкования иудейского закона установленным кругом должностных лиц[2170].
Как же отразилась эта концепция религиозного устройства на дискуссии об учебных заведениях? Придание новому раввинату статуса и полномочий, сопоставимых с христианским духовенством, и видоизменение в том же духе ряда религиозных практик давали проектировщикам-маскилам основание переосмыслить место религии в образовании евреев. Имея в виду, что лишь меньшая часть христианских учебных заведений специально предназначена для образования духовенства (будь то православного, католического или протестантского), они предлагали разграничить раввинские и еврейские начальные училища по критерию различия между специально духовным и общим гражданским образованием.
В отличие от руководства ВУО (после отставки Корнилова его программные предложения, пусть и «зависшие», не подвергались пересмотру), маскилы считали нужным сохранить казенные начальные училища для евреев. Главной причиной они по-прежнему выставляли «предрассудки, накопившиеся в густых массах еврейского населения России, отсутствие в их общежитии правильного живого языка» – всё это препятствовало слиянию отдельных училищ с приходскими и народными школами. Другая серьезная помеха – «православное направление» сельских школ: «…нельзя предвидеть времени, когда народные школы будут в состоянии относиться безразлично к делам религии». Еврейские родители неохотно отдают детей в сельские школы хотя бы уже «по несовпадению христианских праздничных дней с еврейскими», не говоря уже об их недоверии (пусть предрассудочном, но что же делать) к православным учителям[2171].
Вместо слияния маскилы предлагали функционально уподобить еврейские начальные училища христианским. Иными словами, религиозное обучение в первых должно было составлять существенную часть программы, но ему следовало придать характер морального наставления, просвещения в основах веры, а не специального, по еврейской традиции, штудирования текстов. По мнению маскилов, в казенных училищах 1-го разряда (где к тому времени уже пять лет как было отменено преподавание Хае-Адам и Маймонида) «еврейские предметы проходятся в слишком большом объеме. Кроме закона Божия, в состав программы входит еврейский язык, предмет вовсе ненужный ни для гражданского, ни для нравственного развития евреев» (!). А вот в «муравьевских» школах русской грамоты, наоборот, еврейских предметов вовсе нет, так что религиозное образование их учеников отдано «на произвол невежественных меламдов». Авторы проекта рекомендовали включить в программу школ грамоты Библию и молитвы, непременно на русском языке, а в программе училищ 1-го разряда оставить закон еврейской веры – на русском языке и по одобренным МНП учебникам[2172]. В результате, по мысли маскилов, казенные еврейские училища и христианские сельские школы стали бы двумя версиями начального гражданского образования, с примерно равным объемом религиозных предметов. Как и в проекте конфессиональной реформы, иудаизм представал подобным христианству – не в сути верований, но в связанных с религией гражданских институтах. Здесь виленские маскилы следовали по стопам более преуспевших германских собратьев.
Что же касается раввинского училища, то ему надлежало выполнять функцию специального заведения, готовящего духовных лиц иудейской веры, а также учителей для начальных училищ (кстати сказать, выпускники православных семинарий тоже рекрутировались в учителя сельских школ в западных губерниях). Авторы проекта предлагали оставить неизменным состав и объем еврейских предметов (мол, в иудейском богословии не произошло изменений за последние десятилетия), но курс общих наук поднять до уровня классической гимназии. За этим предложением стоял идеальный образ раввина нового поколения – эрудита, не только искушенного в тонкостях иудейского закона, но и светски образованного. Настаивая на введении в программу латинского и древнегреческого языков, необходимых для «раввинской специальности», маскилы подчеркивали: «Эллинское и римское просвещение имело значительное влияние на еврейскую письменность». Более того, необходимым признавался и арабский язык, на котором писали свои сочинения многие еврейские богословы[2173].
Наконец, в этом проекте маскилы дали волю своей неприязни к традиционным школам – ешивам, хедерам, Талмуд-торам. Они призывали власти не отступать от реализации изданного в 1859 году распоряжения, согласно которому до 1875 года меламеды должны быть заменены сертифицированными учителями. Они осуждали послабления, которые делались меламедам при выдаче патента на учительское звание. Упразднение института традиционного еврейского образования предлагалось сделать законодательной нормой: «Специальных частных заведений для изучения только законов еврейской веры (хедеров, ешиботов, талмуд-тор и др.) не допускается»[2174]. Столь радикальное решение не прельщало даже юдофобски настроенных администраторов ВУО.
Оба рассмотренных выше взаимосвязанных и дополняющих друг друга проекта 1869 года – «О духовных делах евреев вообще» и «Об образовании евреев» – обозначили собою предел, до которого группа виленских маскилов, вдохновленных императивом воинствующего просветительства (прежде всего Леванда и Воль), дошла в своем стремлении сохранить союз с властью. Представление проектов на рассмотрение депутатов, приглашенных в комиссию в октябре 1869 года, наглядно выявило степень изоляции этих маскилов внутри еврейства. Реакция традиционалистов на предложения синагогального переустройства была предвидимой, но, думается, она превзошла ожидания Леванды и его коллег. «Когда эти проекты сделались известными в городе, то евреев обуял страх и мрачное отчаяние. В эти два дня в городе был настоящий Тиша бе-Ав», – писал очевидец событий Э. Левин[2175].
С более организованной и активной оппозицией авторам проектов пришлось столкнуться при встречах с депутатами. В качестве таковых в Вильну приехали и миснагеды (виленский раввин Я. Барит), и маскилы (Г. Шапиро, М. Кнорозовский). И те и другие проявили полную солидарность в решительном отказе обсуждать проект реформы культа и вообще любые вопросы, касавшиеся иудейского вероисповедания[2176]. По свидетельству Левина, даже депутат З. Минор, минский казенный раввин и, подобно Леванде, Герштейну и Волю, выпускник раввинского училища, – один из тех, кому проект сулил блага и избавление от «интриг» противников казенного раввината, – «говорил… против членов Комиссии, бывших своих товарищей, и даже против своих собственных интересов»[2177]. Генерал-губернатор Потапов поддержал депутатов и распорядился о снятии с повестки дня всех проектов, имеющих какое-либо отношение к «вероучению евреев». Новость мгновенно разнеслась по городу, и депутатам даже пришлось отговаривать своих ликующих единоверцев от иллюминации синагог в честь Потапова.
Вместе с планом переустройства «духовных дел» депутаты отказались обсуждать и маскильский проект еврейского образования. Но, потерпев неудачу в еврейской среде, маскилы, привыкшие к подобному непониманию, могли еще надеяться на одобрение тех или иных пунктов местными властями. Был ли у них шанс переломить тенденцию к свертыванию отдельной системы еврейского образования?
Отчасти ответ на этот вопрос можно найти в любопытном документе – проекте «Общих замечаний» к отчету попечителя ВУО о еврейских училищах за 1869 год. Проект составлен в феврале 1870 года русификатором со стажем, в недавнем прошлом устроителем начальных школ в литовских селениях, а ныне инспектором ВУО Н.Н. Новиковым для вновь назначенного попечителя Н.А. Сергиевского (который будет занимать этот пост около тридцати лет)[2178]. Новиков постарался дать аналитический обзор состояния училищ, но в ряде случаев уклонялся от четких рекомендаций.
Наибольшую важность Новиков придавал вопросу о раввинском училище. Он признавал необходимость реформы учебной программы, но далеко не во всем соглашался на этот счет с маскилами. Религиозные предметы спора не вызывали, они преподавались качественно – Новиков даже назвал раввинское училище «классической гимназией иудаизма». Общие же предметы требовалось расширить: училище должно быть «хорошим училищем русских раввинов. Для этого нужно, чтобы оно было не только хорошим специальным, но и хорошим русским училищем, – и притом русским не только по языку преподавания, но и по составу общеобразовательного курса». Настойчивое повторение слова «русский» в этой и других фразах не случайно. Оно предвосхищало вывод Новикова о совершенной ненужности тех предметов гимназического курса, о введении которых просили маскилы, – классических языков, а равно и современных иностранных: раввин виделся не ученым эрудитом, а прежде всего просветителем-практиком. Если в классических гимназиях латинский и древнегреческий языки были введены Д.А. Толстым как средство ограждения русских – прежде всего – учеников от революционных доктрин, то в раввинском училище они, по Новикову, только заняли бы напрасно место других предметов, от которых действительно можно ожидать благотворного воздействия на еврейскую молодежь. Юным евреям следовало усиленно изучать русскую историю, словесность, устройство центрального и местного управления в империи, «преобразования нынешнего царствования», «русскую флору и фауну» и вообще «всё относящееся к отечествоведению»[2179].
Новиков делал упор на предметы, которые, выражаясь современным языком, успешнее всего формируют образ отечества на «ментальной карте». Этот-то образ, насыщенный конкретными реалиями, играющий яркими красками (Новиков знал, о чем говорил, – окружающие флора и фауна, в отличие от библейских, были бедно представлены даже в лексике древнееврейского и идиша), должен был свести к абстракции понятие о Земле Обетованной и стать частью самосознания будущего раввина. Задача училища состояла в выработке симбиоза идентичностей, с безусловным преобладанием чувства принадлежности к русской цивилизации: необходимо изучать «не одни племенные палестинские, но и русские государственные и общественные отношения», чтобы учащийся сумел «примирить в своем сознании еврейского раввина с русским гражданином, а потом… осуществлять это примирение в своей личной жизни и в практике своей специальной профессии, как истинный еврейский вероучитель и столь же истинный просветитель еврейских темных масс в гражданских их отношениях к христианским подданным Российского государства»[2180].
Чтобы лучше понять смысл этих предложений, надо учесть вероятность их взаимосвязи с более широкой проблемой. Дело в том, что в корниловском «педагогическом кружке», где Новиков являлся заметной фигурой, нередко критиковали систему классического образования, видя в ней препятствие формированию русского национализма и реализации ассимиляторского потенциала России[2181]. По мнению виленских деятелей (и не только их), приоритет, отданный в гимназиях древним языкам, потворствовал развитию космополитических настроений, мешал выработке органически целостных представлений о России – исторических, географических и проч.[2182] Не исключено, что рассуждения Новикова о реформе раввинского училища были способом заявить, пусть и косвенно, несогласие с толстовской концепцией классической гимназии: «классическую гимназию иудаизма» надлежало обратить в «хорошее училище русских раввинов».
Относительно еврейских начальных училищ Новиков не имел плана немедленных действий. Для анализа соответствующего раздела записки интерес представляет служебный эпизод, имевший место незадолго до ее составления. В декабре 1869 года попечитель Сергиевский получил донесение главы училищной дирекции Могилевской губернии Н. Арнольда. Тот сообщал, что после того, как Могилевская губерния в начале того же года была выведена из-под управления виленского генерал-губернатора (при этом она осталась в составе Виленского учебного округа), ряд прежних генерал-губернаторских распоряжений утратил силу. В их числе было и отданное еще Муравьевым распоряжение об обязательном обучении еврейских мальчиков русской грамоте. Как отмечалось выше, прежние попытки в Вильне и Витебске привести его в буквальное исполнение посредством полиции оканчивались нелепо: битком набитыми классами и последующим роспуском едва ли не большинства согнанных мальчиков «за теснотой помещений». Арнольд, зная об этом, просил, как ему казалось, о немногом: «Хотя в действительности его (штраф за неотправку детей в школу. – М.Д.) почти никогда и никто не взыскивал, но, тем не менее, виновные поддерживались в некотором страхе, а теперь и того нет». Директор высказывался за веское подтверждение «системы обязательного обучения для еврейских мальчиков». И как же иначе – «кагальная масса настолько еще пропитана фанатизмом и погрязла в свои предрассудки, что собственного стремления к сближению с русскими от них ожидать невозможно»[2183].
Сергиевский, педантичный бюрократ, не терпевший отступления от буквы закона, отнесся к этому ходатайству сочувственно. В январе 1870 года он поручил Новикову подготовить проект представления в МНП, в котором излагалась бы просьба возобновить в той или иной форме уже из Петербурга распоряжение, помогающее навести на евреев благотворный страх. Новиков старался тогда, на правах «старожила» учебного округа, упрочить за собой позицию доверенного советника при новом попечителе (спустя год чрезмерная настойчивость доведет его до отставки). Он исполнил поручение, но вослед проекту отослал Сергиевскому полуофициальное возражение против идеи Арнольда. Приведя статистические данные по Могилевской губернии – 440 учеников в девяти казенных училищах (первое место в ВУО по числу еврейских училищ), 170 учеников и учениц в пяти частных начальных школах, 50 учениц в еврейском женском пансионе, – Новиков заключал, что Арнольд зря поднимает тревогу: «…евреи Могилевской губернии не очень уклоняются от обучения своих детей». Главное же, просимое распоряжение неизбежно поставит нынешнее руководство ВУО перед необходимостью ясно сформулировать свою позицию по так еще и не распутанному вопросу о сохранении или отмене отдельных еврейских училищ. Новиков напоминал, что совсем недавно тот же могилевский директор отклонил прошение «четырех лиц еврейского происхождения об открытии новых училищ». Согласно Новикову, в этом случае директор поступил разумно, но такой отказ обязывал следовать известной линии. Он обрисовывал дилемму: «Допустим, что нам будут даны все возможные… меры для введения обязательного обучения. Что же мы ответим, если евреи подадут на нас жалобу, что-де мы не разрешали им училищ? Вводить обязательное обучение одною рукою, а другою не пускать евреев к открытию дозволенных им училищ – это слишком непоследовательно. А умножать отдельные еврейские училища – воля Ваша – несвоевременно»[2184]. Сергиевский внял этим доводам и отложил представление в МНП.
Составляя всего через месяц проект годичного отчета, Новиков испытывал серьезные затруднения. С одной стороны, за предшествующие три года между высшими лицами в МНП и руководящими администраторами ВУО сложился (несмотря на различие мотивов, особенно заметное в случае Толстого и Корнилова) консенсус об отмене отдельных училищ или их низведении к элементарному уровню. Этот консенсус сопровождался риторикой, приветствовавшей поступление евреев в общеобразовательные заведения, по крайней мере начальные и средние. В устах Корнилова и его виленских единомышленников, оставшихся в руководстве ВУО после его ухода, эта риторика не была искренней, сомнения, судя по всему, имелись и у петербургских бюрократов, но общая интеграционистская парадигма еврейской политики пока еще не позволяла публично и членораздельно выразить страх перед наплывом образованных, русскоговорящих евреев в русское общество. С другой стороны, нижестоящие чиновники ВУО продолжали эксплуатировать стереотипное представление об однородной, невежественной и суеверной массе «талмудистов» – представление, которое логически не стыковалось с оптимизмом, хотя бы и наигранным, их начальства насчет притока евреев в гимназии, уездные и приходские училища. Могилевский казус подчеркнул зависимость чиновников от стереотипа: директор отклонил прошение об открытии новых еврейских училищ, а затем привычно жаловался на косность «кагальной массы», ничуть не смущаясь самопротиворечием. Новиков, судя по всему, желал осуществить на практике корниловский проект закрытия отдельных училищ, но старался при этом не форсировать слишком обязывающей, рискованной риторики поощрения евреев к совместному с христианами обучению. Поэтому представление о невежественной и фанатичной толще еврейского населения было ему на руку – вот только требовалось объяснить, почему же училища, способствующие, как-никак, просвещению этих «талмудистов», сохранять нежелательно.
Проект отчета содержит набросок такой объяснительной схемы. Ссылаясь на поступившие в Вильну отчеты всех глав училищных дирекций, инспектор подчеркивал, что ни в одном из них «нельзя найти и тени уверения, что училищное дело в сознании евреев доросло до признания существенной пользы, приносимой ими (училищами. – М.Д.)». Он указывал на плохую организацию учебного процесса в этих заведениях, высокий процент учеников, не оканчивающих полного, двухклассного, курса обучения, низкую посещаемость, скудость учебных пособий, жалкое материальное положение учителей, вопиющую бедность многих учеников, «достигающую иногда до того, что они существуют без обуви и даже без одежды во всей буквальной силе этого выражения». Новикову хватило объективности признать скромные достижения училищ: «Почти во всех училищах ученики первых классов едва к концу года привыкают читать без складов, тягуче, нараспев, крикливо, со множеством гортанных звуков… [Прошедшие полный курс умеют] бойко говорить по-русски, довольно правильно, хотя и неточно выражаться, менее правильно писать и очень бойко считать, – впрочем, к умственному счислению дети евреев привыкают в домашней жизни»[2185]. (О религиозных предметах он не упоминал вовсе, как если бы их не было в программе не только в Витебской и Могилевской, но и в остальных четырех губерниях.)
Примечательно, что Новиков заговорил с сочувствием о еврейской нищете. Он был одним из немногих администраторов ВУО, кто обсуждал перспективы еврейского образования в контексте социально-экономических проблем. В 1868–1869 годах еврейство северо-западных губерний переживало острейший экономический и демографический кризис; массовый голод вызвал рост пауперизации и вынудил часть населения эмигрировать. Новиков не скрывал, что новая ситуация может изменить прежние расчеты и прогнозы властей и повести к неожиданному развитию событий: «В ближайшем будущем неумолимая нужда сделается еще нестерпимее и укажет на училища как на убежища от голодной и холодной смерти». Чиновник учебного ведомства, таким образом, предупреждал о том, что пассивность других отраслей администрации грозит отнять у учебных заведений их главную функцию и превратить в заведомо неадекватный инструмент борьбы с социальным бедствием. Предлагая почти буквальное прочтение метафоры мрака невежества, Новиков подразумевал под разгоняющим мрак светом не одно только образование, но и бльшую свободу расселения, т. е. полную или частичную отмену черты оседлости: «Следует признать, что пока евреи будут скучены в известных пределах, фанатический мрак их будет рассеиваться слишком медленно». Но это – «общий вопрос об евреях в России», а не исключительная забота МНП[2186]. Трудно сказать, насколько отчетливо Новиков представлял себе процесс и возможные результаты отмены черты оседлости[2187], но несомненно, что он стремился расширить повестку дня дискуссии о еврейском образовании.
Маскильские же проекты последнего времени Новиков интерпретировал как безответственные и анахроничные, продиктованные тем самым узким пониманием проблемы, которое чревато превращением училищ в «убежища от голодной и холодной смерти». В предложении членов виленской комиссии законодательным порядком упразднить хедеры и другие традиционные школы он увидел попытку руками властей ущемить своих противников-единоверцев: «Более всех кричат против этого зла (меламедов. – М.Д.) и втягивают в борьбу с ним сами евреи-новаторы или противники талмудизма. …Необходимо, чтобы училища учебного ведомства действовали только просветительными мерами, ибо все принудительные меры, произносящие разрешение или запрет, чему учить или не учить, всегда останутся бесплодными полумерами». Новиков недоговаривал, но намекал, что реализация подобных идей «евреев-новаторов» поведет только к крайне нежелательной напряженности в отношениях властей с традиционалистами.
Своим действительно опрометчивым предложением касательно хедеров маскильская группа в Виленской комиссии напросилась на роль козла отпущения. Задаваясь вопросом, почему, несмотря на несочувствие еврейской массы к просвещению, от некоторых еврейских обществ поступают ходатайства об открытии новых школ (как в Могилевской губернии), Новиков называл одной из главных причин «слухи о предстоящем упразднении отдельных еврейских училищ». А распространяет их и подстрекает евреев к подаче таких прошений (дабы убедить власти в жизнеспособности училищ) «известная партия», которая так «дорожит» этими заведениями, что «готова вынести всякий материальный урон, лишь бы выработать до полноты систему отдельных еврейских училищ»[2188]. Факты здесь перемешаны с преувеличением и домыслом. У виленских маскилов действительно имелись состоятельные сторонники, например, в местном еврейском купечестве, готовые жертвовать деньги на поддержку раввинского училища, открытие частных отдельных училищ и другие нужды образования. Верно и то, что маскилы старались влиять на принятие решений в местной администрации. Однако, характеризуя маскилов не просто защитниками, но фанатиками системы отдельного образования, Новиков, по сути дела, обвинял их в растрате еврейских денег на сомнительное предприятие – да еще в годину народного бедствия.
Реакция Новикова показывала, что маскильские усилия по реформированию начальных училищ лишь усугубляют недоверие к ним со стороны местной администрации[2189]. После 1869 года сколько-нибудь значимая дискуссия об этой категории училищ не возобновлялась, так что низведение их в 1873 году до уровня подготовительных смен мало кого удивило.
Несколько иначе обстояло дело с раввинским училищем. Новиковское предложение его преобразования в «училище русских раввинов», при котором за ним все-таки сохранился бы статус среднеобразовательного заведения, осталось на бумаге. Сам Новиков спустя год оказался вынужден сменить место службы. Попечитель Сергиевский, хотя и не отступал от избранной его предшественниками стратегии русскоязычного образования, не был националистом корниловского склада, косо смотрел на любые проявления внеслужебной, гражданской активности чиновников и сам не предпринимал крупных инициатив. При нем руководство ВУО утратило прежнюю роль более или менее самостоятельного актора в образовательной политике. Судьба Виленского раввинского училища, как и самой этой категории учебного заведения, зависела теперь от позиции МНП. Толстой же, по свидетельству И. Шерешевского, относился к училищу «с пренебрежением»[2190].
В этих сложных условиях виленские маскилы предприняли последнюю попытку спасти раввинское училище, апеллируя к приоритетам имперской конфессиональной политики. Просителями в декабре 1871 года выступила группа виленских купцов и горожан (И. Гаркави и др.), по всей видимости, близких кружку ведущих педагогов училища. Адресатом прошения избрали не местную администрацию и не МНП, а ДДДИИ. Просители ссылались на слухи о том, что грядет замена раввинских училищ 5-классными училищами, с урезанной программой общих и еврейских предметов, которые будут выпускать народных учителей и «нового рода чиновников» – т. н. синдиков, для замены раввинов[2191]. В МНП действительно тогда разрабатывался проект учреждения, вместо раввинских училищ, учительских институтов. Но в них предполагалось обучать только будущих учителей подготовительных еврейских школ. Идея же о введении специальной «духовно-административной» должности синдика, или старшины, высказывалась купцами-миснагедами значительно раньше, в начале 1860-х годов, в Раввинской комиссии при МВД, где и была отвергнута. Должность синдика сочли тогда угрозой авторитету раввина[2192]. Возможно, просители 1871 года, ссылаясь на некие слухи, желали вызвать у бюрократов МВД ассоциации, неблагоприятные для еврейских противников раввинского училища.
Среди последних выделялась группа примерно из двадцати купцов, которые годом раньше, в 1870-м, подали в МНП прошение о закрытии раввинских училищ. В нем учреждение этих заведений было представлено как средство создания «духовной иерархии» в иудаизме. Ошибка, доказывали купцы, крылась в самом замысле: в иудаизме нет ни таинств, от совершения которых зависело бы спасение души, ни догматов «в христианском смысле слова», каждый иудей причастен священству, а потому среди евреев, строго говоря, нет мирян. Следовательно, немыслима и какая-то особая, отделенная от прочих категория духовенства[2193].
Похоже, что виленские маскилы не только знали о прошении 1870 года, но и были осведомлены о довольно изощренной аргументации оппонентов. В своем контрпрошении они соглашались с той идеей, что правительство желает создать духовенство у евреев, но перетолковывали ее в терминах конфессионального дисциплинирования:
Если правительство допускает существование духовно-учебных заведений с гимназическим курсом для других исповеданий, то отчего отказать в этом евреям. Представителям синагоги и религиозного преподавания евреев столь же необходимы светские познания, как духовным лицам других исповеданий. В других государствах Европы раввинские институты, по объему преподающихся там наук, стоят на степени высших учебных заведений, сравнительно низшая степень развитости русских евреев делает пока достаточным для наших раввинских училищ программу средних учебных заведений. Но низведение этой программы до степени уездных училищ или предоставление народу избирать себе раввинов без всякого светского образования, было бы уже крайне недостаточно[2194].
Стремление доказать во что бы то ни стало незаменимость раввинских училищ далеко заводило просителей. Указав на трудность соблюдения требований иудейской веры в общеобразовательных заведениях (учеба в субботу, препятствующая посещению синагоги, а то и выполнение запрещенных иудейским законом работ), они заявляли, что евреи отдают детей в гимназии «лишь по необходимости, за недостатком места в раввинских училищах». Конечно, основательной эта генерализация не была.
Довод, который просители выставяли как ultima ratio, ретроспективно выдает самое слабое место их апологии раввинских училищ. Напоминая властям об их собственном опасении онемечивания евреев (к тому времени уже потесненном другими страхами, и особенно кагаломанией), они предупреждали, что с закрытием училищ многие евреи уедут учиться в раввинские семинарии в Германии: «Германизация в среде евреев произойдет на счет отечественного элемента, как это было в эпоху, предшествовавшую открытию раввинских училищ»[2195]. Такой прогноз льстил раввинским училищам в России, подразумевая, что если и можно где-то найти замену обеспечиваемого ими религиозного образования, то только в заведениях уровня прославленной семинарии в Бреслау. Однако на самом деле после их отмены не возникло никакой пустоты в системе подготовки раввинов, ибо нуждавшиеся в них евреи были вполне удовлетворены выпускниками ешив. А те только повысили свой престиж среди традиционалистов – именно потому, что устояли, не поступившись почти ничем, перед напором государства и маскилов. Та же часть еврейской молодежи, для которой, не будь закрыты раввинские училища, обучение в одном из них стало бы суррогатом светского образования, поступала без колебаний прямо в гимназии и университеты. Прилив российских евреев и евреек в высшие учебные заведения (вот только не в раввинские семинарии) в Европе и вправду произойдет – позже, в конце 1880-х годов, и будет вызван резким ограничением их доступа в отечественные вузы[2196]. Словом, выдавая желаемое за действительное, защитники раввинских училищ в 1871 году сильно переоценили их успехи в примирении антиномий еврейского традиционализма и реформизма, в гармоничном совмещении религиозного и светского образования.
Впрочем, переоценка эта была, скорее всего, преднамеренной. Просители решались почти на эпатаж, прямо называя казенных раввинов духовенством, да еще таким, которое сочетает религиозность и благочестие с «общечеловеческой» ученостью. В такой форме ведомству иностранных исповеданий адресовался настойчивый вопрос: неужели иудаизм более не является объектом последовательной, регулирующей конфессиональной политики государства? Лишь когда стало ясно, что прошение не нашло в ДДДИИ положительного отклика (оно было равнодушно переслано в МНП и, вероятно, лишь усилило решимость Толстого упразднить и раввинские, и начальные еврейские училища[2197]), виленские защитники раввинских училищ переступили через свои разногласия со столичной еврейской элитой и воззвали к Обществу распространения просвещения. И интеллектуальные лидеры ОПЕ, и покровительствовавший им круг Гинцбургов выступали противниками религиозного обучения евреев в казенных заведениях. В поданной в октябре 1871 года записке в МНП Е. Гинцбург заявлял: в учебном процессе существующих раввинских училищ преобладают общие предметы и ученики не постигают «раввинской науки» уже потому, что «общие знания обещают им лучшее и более верное обеспечение их будущности». Он уверял министра, что «правительству нет никакого интереса вмешиваться» в «духовное образование и выбор раввинов», и предлагал учредить раввинскую семинарию, «под исключительным управлением лиц еврейского исповедания», выпускники которой подвергались бы экзамену по общим предметам в «назначенном правительством месте»[2198].
Такая позиция Гинцбурга была хорошо известна в Вильне, но после фактической утраты маскилами контакта с местной и центральной администрацией ОПЕ оставалось для них и особенно педагогов раввинского училища последней надеждой. В письме на древнееврейском языке, направленном в ОПЕ в январе 1873 года, Х. Каценеленбоген, С. Фин, О. Штейнберг, И. Шерешевский, М. Плунгянский, А. Воль и другие еврейские интеллигенты Вильны убеждали столичных единоверцев взять под защиту раввинское училище. В письме вовсе не шло речи о превращении раввинов в духовное сословие. Скорее, оно предлагало формулу компромисса между государственным контролем над отправлением иудейского культа и невмешательством в верования и дела совести:
Следует отказаться от ложной надежды, которой придерживались основатели, что училища эти должны и могут выпускать духовных пастырей еврейства. Еврейские общества не менее нуждаются в просвещенных раввинах, которые заботились бы о благотворительных, учебных и отчасти конфессиональных нуждах общины, являлись бы представителями общины вовне перед администрацией, произносили бы проповеди и т. п.
«…Евреи нуждаются в раввине для нееврейского мира», – несколько раньше высказывал сходную мысль Шерешевский в частном письме секретарю ОПЕ Л. Гордону. Однако маскилы запоздали с переосмыслением задачи раввинских училищ и функций казенного раввина: в ОПЕ письмо было получено почти день в день с подписанием указа о реформе отдельной системы еврейских училищ[2199].
Итак, в 1869–1873 годах виленские маскилы несколько раз пытались предотвратить упразднение отдельной системы еврейского образования, в первую очередь раввинского училища. Их обращения к местной администрации, а затем и прошения в центральные ведомства – любопытный случай изобретательного, но при этом анахроничного мышления. Надеясь вновь завоевать благосклонность чиновников, маскилы упорно апеллировали к модели государственного надзора за иудаизмом, которая, при содействии раввинов-реформаторов, была опробована в первой половине XIX века в некоторых европейских странах. Приложимость указанной модели к России полвека спустя представлялась им неоспоримой в силу «отсталости» массы российского еврейства, нуждающейся, как им виделось, в благодетельном вмешательстве государства в разные сферы своей жизни. К этим проектировщикам «усовершенствованного» раввината в полной мере можно отнести наблюдение Б. Натанса о «пределах диахронного анализа», который проводит кажущиеся убедительными «аналогии между евреями в России позднеимперского периода и евреями где-либо в Европе за пятьдесят или сто лет перед тем»[2200]. В новой культурной атмосфере второй половины XIX века ссылка, скажем, на то, что большинство российских евреев выглядят так «средневеково», как их германские собратья не выглядели уже в XVII веке, теряла убеждающую силу. Ею стало уже очень трудно оправдать усиление государственной регламентации иудаизма: то, что ранее имело шанс быть воспринятым как полезная опека властей над признанной государством конфессией, теперь переосмыслялось сквозь современную призму, с точки зрения насилия над свободой совести верующих[2201]. Профессиональная пристрастность и максильские стереотипы мешали педагогам – защитникам раввинского училища осознать, что своими предложениями они невольно играют на руку юдофобски настроенным бюрократам. Последние, отклоняя эти предложения, получали возможность придать сегрегационистским тенденциям в политике еврейского образования видимость либерального отказа от конфессионального надзора.
Вызов, который представлял собою «еврейский вопрос» для виленской администрации, можно лучше понять, если принять в расчет характерное раздвоение русификаторской программы местной власти. Речь шла о русификации (в разных значениях) этнически и конфессионально разнородного населения и в то же время – об обрусении территории, географического пространства края.
В первой из названных перспектив евреи фигурировали как инородцы, по выражению П.А. Бессонова (см. гл. 9 наст. изд.), отличные от русских вплоть до «последних мелочей пищи и одежды», инородцы бльшие, чем мусульмане. Культурная чуждость традиционных евреев привычно описывалась бюрократами как проявление талмудических «фанатизма» и «суеверия», и такая аттестация не обязательно сопрягалась с рьяной юдофобией. Показательно, что за всю историю империи не было сделано ни одной серьезной попытки ввести или хотя бы спроектировать некий гибрид светского учебного заведения и еврейской традиционнй школы, ешивы или хедера, наподобие так называемых русско-туземных школ для мусульман в Туркестане[2202]. Посредством освященной авторитетом С.С. Уварова отдельной системы образования для евреев власти начиная с 1840-х годов стремились добиться аккультурации известной части еврейства, но никак не полной ассимиляции или обращения иудеев в православие.
Однако задача обрусения территории западных губерний, сделавшаяся столь настоятельной после Январского восстания, сказалась на восприятии бюрократами этноконфессионального многообразия и неоднородности края. Эта задача требовала особого внимания к символическому «перезавоеванию» края как неотъемлемой части «исконно русской земли». Символам и зрелищным знакам русского господства нередко отдавалось предпочтение перед поэтапной реализацией тех или иных проектов переформовки идентичности населения. Отсюда и одолевавшее многих чиновников искушение миновать стадию постепенной аккультурации нерусских групп, включая евреев, и в ускоренном темпе навязать им русскоязычное образование, изгоняя при этом родные языки из публичной сферы (что чаще всего делалось без трезвой оценки имеющегося у властей потенциала для такого воздействия). Так, в 1869 году один высокопоставленный анонимный бюрократ, неформально консультировавший попечителя Виленского учебного округа П.Н. Батюшкова, оптимистически провозглашал неизменность цивилизаторской миссии империи:
Жмудины, литовцы, латыши и даже евреи желают обрусеть, все понимают и почти все говорят по-русски. Но если бы и были такие, которые не говорят по-русски, то они обязаны изучать язык Правительства, а не наоборот. Ведь все эти народцы не какие-нибудь дикари-язычники, а мы не миссионеры дикарей. Мы не имеем нужды понижаться к их наречиям и понятиям; мы должны их заставить подняться к нам. …Неужели Россия завоевывала окраины с тем, чтобы сама им покорялась и жертвовала им не только всеми материальными благами, но даже народным достоинством и языком?[2203]
Ярлык «инородец» (даже в его неформальном употреблении) казался неуместным в «исконно русской земле», а сепаратные учебные заведения, и прежде всего уваровские еврейские училища, как и самый принцип просвещения нерусских их же обрусевшими единоплеменниками и единоверцами, стали ассоциироваться с сепаратизмом. То, что еще могло приветствоваться на восточной периферии империи, оказывалось неприемлемо в Западном крае. К примеру, Министерство народного просвещения начало учреждать в Казанском учебном округе сеть русско-татарских школ, отчасти напоминавших уваровские для евреев, только в 1870 году[2204], когда дни этих последних очевидным образом были сочтены.
Привлечение евреев в общие гимназии, как и попытка исполнить распоряжения об обязательности начального русскоязычного образования для еврейских мальчиков, довольно скоро вызвало очередную актуализацию юдофобских стереотипов. Как уже не раз отмечалось в историографии, в самих усилиях властей по интеграции евреев в российское общество крылись ростки будущей сегрегирующей политики. Энтузиазм, с которым горстка маскилов или сходно с ними мысливших евреев отнеслась к своей роли просветителей единоверцев, быстро возбудил сомнения и посеял тревогу в среде русификаторов. Последовавший за русофильско-маскильскими начинаниями успех уже большего числа евреев на поприще образования превратил умеющего говорить по-русски и разделяющего «европейские» ценности еврея в подозрительную фигуру в глазах бюрократов. В нем уже не предполагались такие похвальные качества, как лояльность и благонадежность. Напротив, его языковые навыки рассматривались теперь как еще один повод для недоверия. Такой еврей виделся вредоносным чужаком в русской семье[2205] или, что отличало воззрения части виленских экспертов по еврейскому вопросу, агентом влияния германских реформированных евреев, преследующим цель вывести евреев российских из их благотворной изоляции. Снедаемые такого рода опасениями, чиновники Виленского учебного округа драпировали прежней интеграционистской риторикой свое вызревшее к концу 1867 года намерение упразднить уваровскую систему отдельных училищ, охлаждая при этом тягу еврейской молодежи в общие гимназии и училища.
Это колебание между интеграцией и сегрегацией в еврейской политике накладывалось на важную перемену в конфессиональной инженерии. Как уже отмечалось в главе 9, смежный с традицией конфессионального регулирования проект «очищения» иудаизма оказался недолговечным. Начиная с 1866 года идея невмешательства в иудейскую религиозность приобретает смысл, существенно отличный от того, которым наделял ее еще в 1850-х годах Н.И. Пирогов, желавший устранить препятствия на пути светского образования евреев. Деятели, подобные Я.А. Брафману, были заинтересованы в первую очередь в деструктивном эффекте такого отстранения властей от иудаизма. Для них это являлось способом разложить иудаизм «через внутреннее загнивание» (термин М. Мейера) – подход к «чужой вере», который вскоре будет положен в основу политики «игнорирования» ислама в Туркестане, а до этого, еще в конце 1850-х, обсуждался с прицелом на мусульман Северного Кавказа.
Этот демонстративный отказ властей от участия в реформировании духовных дел евреев, который в атмосфере 1860-х годов мог сойти за свидетельство либеральных убеждений (конфессиональный аналог laissez-faire), на практике способствовал упразднению в 1873 году системы отдельного образования для евреев, изначально базировавшейся на признании неразделимости веры и обучения. Он имел отношение и к усилению в мышлении виленских бюрократов тенденции к сегрегации евреев. Таким образом, уклонение властей от традиционной для имперского государства функции конфессионального надзора и регулирования негативно отозвалось на усилиях по аккультурации евреев посредством русскоязычной школы.
Заключение
В основе того, как имперская власть использовала религию для проверки и укрепления лояльности подданных, лежал своеобразный институциональный и культурный механизм – сочетание принципов дисциплинирования (конфессионализации) и дискредитации. В конфессиональной политике Российской империи эти два принципа находились не столько в положении чередующихся альтернатив, сколько в отношениях взаимозависимости и даже взаимообратимости. Со времени Петра I определенный, поддающийся регулированию модус религиозности (сначала для православных, а затем и для верующих иных конфессий) выступал важнейшим критерием преданности самодержавному монарху. Власть исключительно ценила свою способность манипулировать дихотомией между «внутренней» и «внешней» верой, каждый раз наново и произвольно разграничивая или, напротив, смешивая область духа и сферу обряда, спиритуальное и земное, признаки индивидуального религиозного переживания и параметры коллективного опыта принадлежности к конфессии. Соответственно, религиозность подданных изображалась либо результатом иерархического подчинения и тихой покорности клиру или его суррогату, а через него и светскому начальству, либо источником спонтанных, горячих – обратных «ханжеству» – чувств к высшему духовному авторитету, на место которого легко подставлялся секулярный правитель. В последнем случае требуемая спиритуальность подразумевала принижение посреднической, институциональной функции реального духовенства. Эта своеобразная неразделимость начал конфессионализации и дискредитации должна приниматься в расчет и при компаративном анализе российской религиозной политики.
В недавней статье А. Каппелер предложил для сопоставления взаимоотношений власти и духовных элит в Габсбургской, Российской и Османской империях принять за исходную модель османскую систему миллетов. Миллет служил способом сохранить за членами крупнейших немусульманских религиозных общин – православной, армяно-григорианской, еврейской – не только их веру, но и привилегии и права автономии (личной, но не территориальной) в сфере гражданского права и начального образования на родных языках, при условии административного сотрудничества духовной элиты с государством. Каппелер расширяет понятие миллета, прилагая его к другим империям и определяя «миллетизацию» как политику «кооперации с представителями недоминантных религиозных сообществ, благодаря которой правительство могло лучше контролировать их самих, а также их связи с религиозными центрами и “державными покровителями” за границей»[2206]. Российская империя, по мнению Каппелера, продвинулась дальше всего по пути «миллетизации» в короткий период 1817–1824 годов, когда Александр I поощряет протоэкуменическую евангелизацию разнородного населения, а Министерство духовных дел и народного просвещения сосредотачивает в своих руках управление всеми признанными в государстве исповеданиями; антиподом «миллетизации» является, согласно данной схеме, курс на дискриминацию той или иной из недоминантных конфессий, принуждение подданных к обращению в господствующую религию империи и т. д. На мой взгляд, призма «миллетизации» несколько искажает собственную логику российской конфессиональной политики. Система миллетов, при всех чертах сходства ее с теми режимами конфессионального управления, которые позднее в европейских государствах диктовала идея Polizeistaat, не предполагала активной интервенции государства в собственно религиозные, духовные дела. Принимая ее за «классическую форму взаимодействия имперского центра с религиозными элитами»[2207], т. е. за имперскую норму, мы заведомо отождествляем с аномалией любые действия государства по присвоению себе части правомочий духовной элиты над верующими, а также попытки властей влиять на формирование или корректировку «ортодоксии» внутри данной конфессии. Между тем в Российской империи интервенционизм такого рода был оборотной стороной веротерпимости – одно просто не существовало без другого, и «господствующая вера» не имела в этом отношении безусловных преимуществ перед «иностранными».
Складывающаяся в XVIII веке диалектика государственного дисциплинирования и дискредитации религиозных элит генетически близка иозефинистскому регулированию конфессий. Конфессиональная дисциплина определялась здесь через просвещенческие ценности: рациональное управление, социальную «полезность» клира, вероисповедную грамотность мирян, сознательный характер молитвы. Дискредитация же увязывалась с противостоянием «регулярного» государства клерикализму и теократическим настроениям в духовенстве («папежскому духу», по выражению Феофана Прокоповича), а также с борьбой против растяжимо понимаемых «суеверий». Устойчивость институциональной механики этой религиозной политики в Российской империи объясняется отчасти тем, что процесс территориальной экспансии и, главное, включения в сферу внимания власти новых (этно)конфессиональных групп растянулся весьма надолго. На уровне же дискурса иозефинизм уже в первой половине XIX века с трудом поддавался последовательному оправданию – во многом потому, что Романовы и их бюрократия все меньше оглядывались на габсбургский опыт управления империей и, соответственно, желали затушевать ранее состоявшиеся сближения или прямые заимствования. Романовская веротерпимость прославлялась в России как дар великодушных монархов, а иозефинизм и позднейшие габсбургские реформы, поощрявшие развитие этнокультурного самосознания, осуждались как расчетливая игра на религиозных и национальных чувствах подданных («разделяй и властвуй»).
С усилением национализма начиная со второй четверти XIX века практика дискредитации в конфессиональной политике получает новый смысл и новый эмоциональный заряд. Православие предстает главным, а порой исчерпывающим свойством русской нации, религиозное определение русскости берет верх над другими (например, над культурно-языковым), а потому иноверие легко наделяется атрибутикой национального врага. Соответственно, «чужая» вера начинает символизировать не только нелояльность духовной элиты данного сообщества монарху, но и культурную отсталость, социальные пороки, гражданскую ущербность, признаваемые теперь характеристиками самого вероисповедания (а иногда и значительной массы верующих). Подобный подход был применен в России в 1830-х годах к унии: власть исключила униатство из числа конфессий, для которых тогда готовились статутные законы («уставы»), и дала понять униатскому клиру, что ему не сохранить за собой привилегий иначе, как перейдя in corpore в православие. Но и спустя четверть века после «воссоединения» унии с синодальным православием в 1839 году инерция прежней конфессиональной политики давала о себе знать. Недоверие властей к экс-униатам – по преимуществу крестьянскому населению, говорившему на белорусских диалектах и официально считавшемуся русским, – в немалой степени обуславливалось теми чертами конфессиональной обособленности, которые оставались на самом деле (или мнились слишком впечатлительным чиновникам) в церковном обиходе, местной организации церковного управления, публичном поведении высших клириков.
Для конфессиональной политики в эпоху Великих реформ особое значение имела предпринятая с новой силой и по отношению к разным конфессиям попытка отграничить внутренние, «чисто духовные» дела данного вероисповедания от предметов «духовно-административных», т. е. институтов и отправлений культа, которые опосредовали отношения между государством и подданными и фиксировали гражданские состояния индивида. Сама по себе идея демаркации «духа» и «буквы» веры соответствовала символической репрезентации Александра II как молодого, реформистски настроенного монарха, которому надлежало подчиняться не за страх, а за совесть, – упрощенно выражаясь, как олицетворения благодати, а не закона.
Попытка такого разграничения отразила, как отмечает на примере политики «игнорирования» ислама в Туркестане Д. Брауэр[2208], и популярный тогда в Европе дифференцирующий тренд в научном объяснении религии. Современная позитивистская социология (Эрнест Ренан, Генри Мэйн) относила публичные традиции и организационные структуры религии к совокупности социальных обычаев или политических интересов, отрицая за ними значение актов веры, которые, в свою очередь, характеризовались как преимущественно индивидуальные и аполитичные практики. В этом самом ключе выдержан проанализированный выше проект реформы «духовных дел евреев», выдвинутый в 1869 году группой виленских маскилов – русофильски настроенных и европейски образованных евреев: «Правительство, даже не нарушая принципа веротерпимости, не только может, но даже должно следить за проявлениями и внешней обстановкой религиозной жизни своих иноверных подданных, дабы эти проявления не переходили за черту, за которой религиозная жизнь прекращается и начинается жизнь общественная»[2209]. (Прямым аналогом из сегодняшней непростой конфессиональной ситуации в Европе мог бы послужить широко обсуждаемый в момент дописывания настоящей книги референдум 2009 года в Швейцарии о запрете строительства минаретов, если бы его инициаторы пошли до конца и с достойным XIX века педантизмом сформулировали, что мечеть есть атрибут частной религиозной жизни мусульман, а вот минарет – уже публичной.)
В еще одном ракурсе проведение черты между «чисто духовным» и «духовно-административным» (актуальное и для синодального православия) может быть рассмотрено как своего рода технический прием реформирующей бюрократии 1850–1860-х годов, который выдает присущее и ей позитивистское мышление. Одним из аналогов этого конфессионального эксперимента была земская реформа 1864 года, которая зиждилась, помимо прочего, на бюрократическом представлении о земском самоуправлении как сфере сугубо местной активности, четко отграниченной от политики. Воображаемый в религиозной политике домен «чисто духовных» дел мог бы быть назван земством при российском ведомстве культов. И подобно тому как реализация земского самоуправления выявила условность разграничения местного и общегосударственного, хозяйственного и политического, так и конфессиональная инженерия властей во второй половине XIX века предъявляла всё новые доказательства того, что даже самый, казалось бы, приземленный и рутинный обряд может быть не лишен важного для верующих духовного смысла.
Избранная государством поза невмешательства во внутренние дела вероисповеданий оказалась по-своему весьма лукавой, чреватой неожиданно различными исходами для практических мероприятий по отношению к конкретным конфессиям. В разных обстоятельствах невмешательство могло означать действительное намерение властей не препятствовать проявлениям неказенной религиозности, а могло сигнализировать об их пренебрежительном отстранении от номинально терпимой конфессии с целью подорвать репутацию и влияние духовных лидеров. Вообще, изначальная манипулятивность конфессиональной политики, игра на антиномиях внутренней веры и публичного обряда всегда оставляли имперской бюрократии возможность сузить условно очерченную сферу «чисто духовных» дел.
Полномочия по управлению неправославными конфессиями в интересующий нас период делили между собой ряд столичных ведомств, прежде всего Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД и местная власть на окраинах империи в лице генерал-губернаторов и подчиненных им чиновников. Случай Виленского генерал-губернаторства после восстания 1863 года особенно примечателен беспрецедентной свободой действий, которой местная бюрократия, включая чиновников среднего ранга, располагала для экспериментов над идентичностью неправославных подданных и для проектирования перемен в государственном статусе соответствующих конфессий. Сравнивая политику виленской администрации по отношению к двум главным «чужим верам» края – католицизму и иудаизму, нельзя не заметить, что тот и другой комплексы мер эволюционировали в расходящихся направлениях. В течение примерно пяти лет после начала Январского восстания, до середины 1868 года, Римско-католическая церковь в Северо-Западном крае претерпевала репрессии и ограничения, которые грозили маргинализировать ее внутри системы терпимых исповеданий империи, а то и, как казалось немалому числу лиц, вовсе вытеснить католицизм «за Неман» (об аналогичном противоборстве с «латинством» в Царстве Польском не мечтали даже самые горячие головы среди виленских католикофобов). Специальная комиссия при генерал-губернаторе, притязая почти на законотворческие прерогативы, пыталась – за несколько лет до начала бисмарковского Kulturkampf – существенно урезать автономию церкви в рекрутировании клира, религиозном образовании, пастырской деятельности. Напротив, иудаизм в те же самые годы не только не подвергался со стороны властей нападкам и унижениям, сопоставимым с антикатолическими[2210], но и, во многом благодаря усилиям маскилов, возвысился в глазах части бюрократов как религия, восприимчивая к духу времени, и как площадка обучения евреев русскому языку.
В 1868–1869 годах соотношение между католицизмом и иудаизмом как объектами бюрократического надзора меняется. Институциональная встроенность католицизма в структуры «конфессионального государства» поставила предел вдохновленной национализмом стратегии дискредитации «латинства». Чиновникам оказалось выгоднее видеть в католицизме не подрывное учение, мобилизующее фанатичных последователей (хотя это воззрение оставалось влиятельным и позднее), а одну из христианских церквей, с клиром которой имперское государство давно наладило какое-никакое сотрудничество. Развернувшаяся с 1870 года кампания по введению русского языка в дополнительное католическое богослужение, сколь бы скромными ни оказались ее конечные результаты, закрепила за католицизмом новую респектабельность, особенно важную после бури и натиска 1860-х годов. Как не раз происходило раньше, чиновники прибегли к легитимирующей аргументации в стиле «мы католичнее папы»: введение русского языка в дополнительное богослужение провозглашалось канонически безупречной мерой, способствующей, кроме того, углублению сознательной религиозности католиков-белорусов, которые до этого слушали и читали молитвы на непонятном им (как считалось) польском языке. Обратного свойства перемена происходит во взаимоотношениях властей с иудаизмом. Одновременно с разочарованием чиновников в маскилах и складыванием конспирологического мифа о кагале проект «очищения» еврейской веры уступает место попыткам ее дискредитации через отказ в поддержке реформистским начинаниям и через осторожное потворство религиозному традиционализму, ранее безусловно клеймившемуся как «фанатизм».
В контексте конфессиональной инженерии властей и с учетом ее longue dure различие в подходах виленской бюрократии к католицизму и иудаизму выглядит так, как если бы усилия по дисциплинирующему, регулирующему вмешательству в дела одного исповедания требовали на том же отрезке времени дискредитирующего и разлагающего воздействия на другое, соседствующее с первым в географическом пространстве. Иными словами, распределение веротерпимости между конфессиями в известном регионе, особенно таком стратегически значимом, как Северо-Западный край, было лимитированным, а сам механизм конфессиональной политики на этой территории не мог работать только в одном режиме – дисциплинирования/опеки или дискредитации/репрессирования. Чтобы сохранить внутренний баланс сложных, неровных взаимоотношений государства с религией, чиновники должны были одновременно практиковаться в использовании как той, так и другой модели.
Описанные повороты, превратности и смены фазы противофазой не обуславливались исключительно логикой конфессиональной политики, внутри которой государственная протекция институционализированным религиям не могла существовать без своей антитезы – создания и циркуляции представлений о культурно отталкивающей и опасной для государства «чужой вере». Динамика восприятия в чиновничьей Вильне «латинской» и еврейской вер и последовательность принимавшихся по их адресу решений также связаны с фактором этничности и с тем, как чиновники оценивали перспективу аккультурации или ассимиляции этнических групп, охватываемых полностью или частично данными конфессиональными сообществами. Впечатление неизбывной культурной чуждости католицизма, которое давало бюрократам повод для издания нелепых, трагикомических и попросту возмутительных запретов, отчасти потому и было таким жгучим, что с этнолингвистической точки зрения многие католики Западного края представлялись потенциальными или, так сказать, не вполне оформившимися русскими. Даже в случае польской элиты, на обрусение которой в 1860-х годах мало кто всерьез рассчитывал, идеологема славянского родства придавала католическому вероисповеданию видимость извращения истории. Наиболее радикальным актом конфессиональной инженерии в Северо-Западном крае в 1860-х годах стала конверсия более 70 тысяч католиков, в подавляющем большинстве – крестьян-белорусов, в православие. В этом переходе, к которому духовенство имело только косвенную причастность, усматривалось выражение невиданной дотоле спиритуальной лояльности народа монарху-благодетелю (православие как «царская вера»). Иудаизм же, будь то по части вероучения или обрядности, не пробуждал сам по себе столь бурных эмоций в администраторах культов, а то и мог оставлять их равнодушными (между тем русификатора, безразличного к «латинству», трудно вообразить). Евреев надеялись при наиболее удачном исходе аккультурировать посредством распространения знания русского языка, а не втянуть в «русскую семью», поэтому специфика иудаизма скорее принималась как данность, нежели наделялась свойствами демонического препятствия благим усилиям русификаторов.
Показательно в этом отношении различие в подходе властей к переводу католических и еврейских молитв как к политическому проекту. Католическую молитву «Pro Rege», нужным образом, но вразрез с каноном скорректированную, русификаторы пытались использовать для того, чтобы закрепить чувства преданности и лояльности к Александру II у католического простонародья, как белорусского, так и литовского. В меньшей степени они намеревались приспосаливать квазирелигиозный культ «Царя-Освободителя» к иудейскому благочестию, хотя предпосылки для того вроде бы имелись: в 1860-х годах послабления начала царствования были памятны многим евреям, Александр пользовался некоторой популярностью в еврейской среде, а русофильски настроенные раввины без принуждения сверху произносили в проповедях панегирики императору. Традиционные иудейские молитвы о приходе Мессии не тревожили ни российских бюрократов, ни их союзников-маскилов в той мере, в какой реформаторы иудаизма и их христианские покровители в Европе находили эту часть синагогальной службы противоречащей гражданскому самосознанию евреев. Куда менее совместимой с лояльностью светским властям русификаторы считали католическую молитву о Папе Римском.
Еще одним фактором, повлиявшим на реабилитацию католицизма и одновременно на возобновление вмешательства, регламентирующего эту конфессию в духе Polizeistaat, стало то, что можно назвать несостоявшимся трансфером бисмарковского опыта. В 1870-х годах новообразованный Германский рейх продемонстрировал, какие возможности для дискредитации неприятной имперскому государству конфессии открывают игнорирование ее духовной элиты как корпорации и перевод отношений с этой элитой на основу гражданского права. Что же касается российских католикофобов, то они не были свободны от соблазна двинуться похожим путем, но в конце концов этот позыв не пересилил проверенную временем традицию, как выражался в 1878 году министр внутренних дел А.Е. Тимашев, признания «римско-католическ[ой] иерархи[и] одною из составных частей государственных органов…»[2211]. Kulturkampf послужил предостережением от недооценки духовной независимости и морального авторитета клира и от переоценки управленческого потенциала государства в сугубо внутренних делах веры. Отказ российских бюрократов от деморализующих репрессий против католицизма показал, что тысячу раз обруганное «латинство» все-таки занимало весьма высокое место в негласной ранжировке «иностранных исповеданий».
В целом, однако, нет оснований рассматривать католицизм и иудаизм как прямо противоположные казусы конфессиональной инженерии в Северо-Западном крае. И после ревизии конца 1860-х годов в подходе властей к обеим конфессиям дисциплинирование уживалось с дискредитацией. Заменив принудительные обращения в православие кампанией по введению русского языка в католическое богослужение, власти не избавились от сильных националистических предубеждений и потому отказывались признать, что польский язык молитв и вообще наследие Речи Посполитой являются компонентом традиционной религиозной идентичности, не обязательно связанным с модерным польским национализмом. Отсюда вытекало просветительски прямолинейное и чреватое репрессиями требование «очистить» католическую веру от всего «наносного». В свою очередь, обозначившееся к началу 1870-х годов пренебрежительное игнорирование реформистских трендов в иудаизме не означало отмены бюрократического, в духе Polizeistaat, надзора за иудейским законом, в частности за совершением браков и разводов (хотя чиновники не считали это «чисто духовными» делами).
Выходя за хронологические и географические рамки настоящего case study, можно предположить, что ценой, которую властям приходилось платить за стабилизирующую роль иозефинистских приемов дисциплинирования, была постоянная угроза архаизации конфессиональной политики. Методы воздействия на народную религиозность посредством просвещения и бюрократической выучки духовных элит, как и регламентации отправления культа, работали все хуже во второй половине XIX века. Вероятно, именно поэтому вслед за либерализацией на революционной волне законодательства о конфессиях (указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года) и за сокращением возможностей бюрократического контроля над религиозной жизнью неправославных возникла тенденция к сближению властей с религиозными традиционалистами в разных конфессиях[2212]. Прежнее отчуждение от тех, кого ранее клеймили как «фанатиков», сменилось на закате империи осторожным взаимным интересом. Отказ от прежних приемов регулирования и недоступность более гибких способов присутствия в религиозной жизни подданных, вместе со страхом перед постановкой религии на службу национализму, приводили к тому, что «подмораживание» традиционных институтов и практик той или иной конфессии начинало казаться бюрократии наименьшим из возможных зол в новую эпоху.
Список сокращений
ВУО – Виленский учебный округ
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГУ ДДИИ – Главное управление духовных дел иностранных исповеданий
ДДДИИ – Департамент духовных дел иностранных исповеданий (в 1817–1824 в Министерстве духовных дел и народного просвещения, в 1832–1880 и 1881–1917 в Министерстве внутренних дел)
МВД – Министерство внутренних дел
МГИ – Министерство государственных имуществ
МНП – Министерство народного просвещения
ОПЕ – Общество для распространения просвещения между евреями
ОПИ ГИМ – Отдел письменных источников Государственного исторического музея
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГИА – Российский государственный исторический архив
РГО – Русское географическое общество
РО ИРЛИ – Рукописный отдел Института русской литературы РАН
РО РНБ – Рукописный отдел Российской национальной библиотеки
LVIA – Lietuvos valstybs istorijos archyvas (Литовский государственный исторический архив)
Ap. – опись
ар. – оборот листа
В. – дело
BS – Общее отделение (фонд 378, канцелярия генерал-губернатора)
F. – фонд
L. – лист
PS – Политическое отделение (фонд 378, канцелярия генерал-губернатора)
YIVO – YIVO Institute for Jewish Research in New York City
Список карт
1. Северо-Западный край Российской империи в 1860–1870-х гг. 11
2. Римско-католические приходы Виленского, Вилейского, Ошмянского и Свенцянского уездов Виленской губернии в 1860–1870-х гг. 12
3. Католицизм в Гродненской губернии в 1860-х гг. 13
4. Католицизм в Минской губернии в 1860–1870-х гг. 14
Все карты составлены В.Н. Темушевым по материалам, предоставленным автором.
Данные о численности прихожан взяты из изданий: Атлас народонаселения Западнорусского края по исповеданиям [Сост. П.Н. Батюшков, А.Ф. Риттих]. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1864; Merkys V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1795–1918. Vilnius: Versus aureus, 2006.
В качестве абсолютных величин эти показатели, являвшиеся предметом спора между имперской властью и православным клиром, с одной стороны, и католическим клиром, с другой, весьма условны. Тем не менее, они дают представление о соотношении размеров приходов, включая те, что были преобразованы в православные.
Список архивных фондов
Литва
Lietuvos valstybs istorijos archyvas (Литовский государственный исторический архив)
378 – Виленский генерал-губернатор, канцелярия
439 – Музей графа М.Н. Муравьева
567 – Виленский учебный округ
577 – Виленское раввинское училище
604 – Виленская римско-католическая духовная консистория
694 – Управление Виленской римско-католической епархии
Россия
Российский государственный исторический архив
384 – Министерство государственных имуществ, Второй департамент
733 – Министерство народного просвещения, Департамент народного просвещения
776 – Главное управление по делам печати
796 – Святейший Синод, канцелярия
797 – Обер-прокурор Святейшего Синода, канцелярия
821 – Министерство внутренних дел, Департамент духовных дел иностранных исповеданий
869 – Н.А. Милютин
908 – П.А. Валуев
954 – К.П. Кауфман
970 – И.П. Корнилов
974 – Н.А. Крыжановский
1282 – Министерство внтренних дел, канцелярия министра
1284 – Министерство внутренних дел, Департамент общих дел
1661 – К.С. Сербинович
1670 – П.А. Черевин
Рукописный отдел Российской национальной библиотеки
52 – П.Н. Батюшков
284 – А.В. Жиркевич
377 – И.П. Корнилов
391 – А.А. Краевский
523 – Н.Н. Новиков
573 – Санкт-Петербургская православная духовная академия
629 – В.Ф. Ратч
856 – И.А. Шестаков
Рукописный отдел Института русской литературы
(Пушкинского дома) РАН
3 – Аксаковы
76 – И.М. Гедеонов
265 – Архив журнала «Русская старина»
569 – М.Ф. Де Пуле
Санкт-Петербургский филиал архива РАН
35 – В.И. Ламанский
Государственный архив Российской Федерации
109 – III Отделение СЕИВК
677 – Александр III
678 – Александр II
811 – М.Н. Муравьев
1155 – Ростовцевы
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
120 – М.Н. Катков
169 – Д.А. Милютин
231 – М.П. Погодин
265 – Самарины
327 – В.А. Черкасский
514 – А.Н. Мосолов
Отдел письменных источников Государственного исторического музея
56 – П.А. Бессонов
254 – Н.Н. Муравьев-Карский
Российский государственный архив литературы и искусства
46 – П.И. Бартенев
1077 – Кояловичи
США
YIVO Institute for Jewish Research in New York City
Record Group 24 – Архив Виленского раввинского училища (Vilna Rabbinical School Archive)
Record Groups 80–89 – Архив Ильи Чериковера, бумаги Горация Гинцбурга (Elias Tcherikower Archives, Horace Guenzburg papers)






