Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II Долбилов Михаил
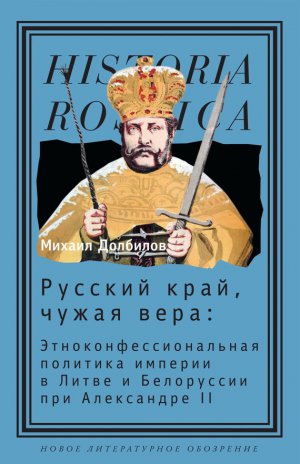
Насколько тесно в сознании и воображении современников кампания по русификации костела ассоциировалась с насилием, показывает их реакция на убийство весной 1871 года одного из трех «муравьевских» прелатов – Эдварда Тупальского, ректора Виленской духовной семинарии. Это мрачное происшествие стало одной из причин, почему в Вильне (в отличие от Минской губернии, отделенной от генерал-губернаторства в декабре 1870-го) властям не улыбалось настаивать на русском языке для католиков. История не получила широкой огласки в российской прессе, а в Вильне ее отзвуки не утихали и много лет спустя, и пересуды об истинной подоплеке преступления долго занимали местное общество.
Тупальского убил его собственный фактотум и слуга (а по некоторым слухам – и незаконнорожденный сын) Ю. Лозовский. Он расчленил тело жертвы, поместив туловище и конечности в сундук, сброшенный им затем в реку Вилию, а голову спрятав в лесу. Через несколько дней Лозовского, который захватил с собой, помимо денег, принадлежавшие убитому ордена и револьверы, арестовала полиция – уже на территории Царства Польского. Он почти сразу сознался в совершенном преступлении и был доставлен назад в Вильну. На допросах Лозовский божился, что к убийству его подтолкнула ссора с Тупальским, которая грозила ему увольнением без копейки денег, и что он, тем не менее, сохранил к покойному благодарные чувства (в частности, потому отчленил голову от тела, что хотел впоследствии совершить над нею отпевание и похоронить каноническим порядком рядом с новым местом жительства). С самого начала следователи не сомневались в наличии у Лозовского сообщников. К нему был допущен брат, который, как казалось, почти уговорил преступника выдать их имена. Вскоре после этого свидания Лозовский пожелал исповедаться и причаститься. Просьбу удовлетворили. Едва католический священник покинул камеру, Лозовский распорол тюфяк, поджег высыпавшуюся оттуда солому и бросился в огонь. От ожогов его быстро вылечили, но никаких новых признаний он больше не делал и вообще отказался отвечать на вопросы следствия[1896].
Признаюсь, что я не ставил перед собой задачу проштудировать следственное дело и реконструировать по нему мотивы преступления. С точки зрения проблемы, обсуждаемой в данной главе, главный интерес представляет заведомое убеждение многих современников в том, что между убийством и проектом русификации костела имеется прямая связь. Сенчиковский, водивший знакомство с несчастным прелатом, видел главную причину убийства в проповедях Тупальского на русском языке, посвященных прежде всего долгу верноподданнической любви к царю. В позднейшем рассказе об этом деле минский русификатор заходил так далеко, что набрасывал подозрение в причастности к преступлению на самого генерал-губернатора: «Меня уверяли, что в этом убийстве прелата Тупальского был причастен и Потапов, который после произнесения Тупальским проповеди на языке русском сделал ему выговор и ужасно был недоволен. Это мне лично говорил прелат Тупальский»[1897].
Какими только домыслами о заговорах и злодеяниях своих могущественных недругов не тешил себя Сенчиковский на склоне лет. Тем не менее тут он был вовсе не одинок, разве что утрировал разделявшееся и другими истолкование действий Потапова: версия о политических мотивах убийства Тупальского начала циркулировать в бюрократической среде гораздо раньше. Примечателен в этом отношении секретный меморандум, составленный, судя по тексту, неким высокопоставленным чиновником вскоре после завершения следствия. Единственная известная мне копия этой записки сохранилась не где-нибудь, а в личном архивном фонде Александра II. Анонимный автор, постаравшийся собрать информацию из разных источников, дал уничтожающую характеристику личности покойного прелата: тот, мол, был двуличен, к концу 1860-х годов лишь притворялся лояльным, а на деле «втайне агитировал ксендзов, отговаривая принимать для употребления в костелах требник, переведенный на русский язык, и сочинял анонимные ругательные письма» Жилинскому. Но, подчеркивалось в меморандуме, в польской среде Тупальскому так и не простили сотрудничества с Муравьевым: «Он по-прежнему носил звание схизматика, и большинство населения относилось к нему весьма враждебно». Главное же, у него издавна был ярый ненавистник – ксендз Цехановский, эмигрировавший в Рим и будто бы, в свою очередь, славший оттуда Тупальскому анонимные письма с угрозами[1898]. Не обременяя себя юридическими доказательствами при определении круга виновных, автор меморандума спекулировал на расхожих предубеждениях против католической исповеди: зловещая фигура исповедника, после визита которого в камеру Лозовский попытался покончить с собой, представала главной уликой, подтверждающей политический характер преступления и дьявольскую предусмотрительность его организаторов:
Это служит доказательством, как убедительно подействовали на преступника увещания исповедовавшего его ксендза, который приказал ему молчать… Всё это (! – М.Д.) служит доказательством, что убийство произведено не из чувства мести и желания ограбить, а принадлежит к числу тех убийств, которых немало совершилось в 1861–1863 годах. …В этом деле действовал езуитский фанатизм, испугавшийся возможности введения русского языка в дополнительное богослужение… Прелат Тупальский, считавшийся в Риме особым поборником этого ненавистного для езуитов дела (хотя и ошибочно), был избран жертвою для устрашения других ксендзов. …Наказать прелата Тупальского смертию святым отцам казалось недостаточным, они решили лишить его погребения с тем почетом, которым прелаты пользуются после смерти[1899].
Если процитированное суждение, бесспорно, навеяно антииезуитским воображением, а не подсказано опытом криминальной дедукции, то сообщаемые автором конкретные сведения о позиции Потапова доверия все-таки заслуживают: «Следствие, может быть, и открыло бы сообщников Лозовского, но категорическое приказание генерала Потапова, выраженное в виде мнения, что в деле убийства Тупальского не следует иметь ничего политического, ибо это может раздражать местное население, приостановило прокурорский надзор и следственную власть от всех дальнейших разысканий»[1900]. Даже не вникая в вопрос о том, двигало ли Потаповым действительное убеждение в отсутствии состава политического преступления, нетрудно догадаться, почему сама вероятность обнаружения польского «следа» могла его пугать вдвойне. Русские националисты нашли бы в этом новый довод в пользу ужесточения деполонизаторской политики, которую Потапов, напротив, желал смягчить. С другой стороны, открыто признав, что Тупальский пал жертвой политического террора, власти рисковали бы невольно подтвердить верительные грамоты тех своих польских противников, которые еще оставались привержены романтической идее вооруженного сопротивления России. Впрочем, и без такого объявления толки о настигшем Тупальского «справедливом» возмездии получили широкое распространение. Так, польский публицист конца XIX века в полемическом трактате против «ритуалистов» – католических клириков, соглашавшихся служить по-русски, – писал, что Лозовский не просто умертвил, но казнил Тупальского «четвертованием», заявив будто бы затем на суде, что послужил «рукой Божьей», покаравшей отступника от святой веры[1901]. В описании мотивов убийства эта версия совпадает с изложенной в цитированном выше российском меморандуме (вот только расчленение тела предлагается считать скорее способом казни, нежели посмертным надругательством), но дает этому деянию едва ли не противоположную – героизирующую – оценку.
В наиболее затруднительном положении вследствие убийства Тупальского оказался управляющий Виленской епархией Жилинский. Трагедия произвела на него деморализующее впечатление, а после того как незнакомая доброжелательница известила его о надзоре, вроде бы установленном за ним заговорщиками (как подразумевалось, всё теми же), Жилинский стал есть и пить с особыми предосторожностями и не выходил из дома без револьвера в кармане[1902]. Никакой инициативы в деле введения русского языка на канонической территории Виленской епархии – в Виленской и Гродненской губерниях – ждать от него после этого не приходилось. Не исключено, что самовольные поступки энтузиаста русификации Сенчиковского в Минской губернии не так уж сильно его огорчали: поскольку борисовско-игуменский декан номинально подчинялся администрации Виленской епархии, его «успехами» можно было отчитаться перед имперскими властями и иметь при этом в его лице козла отпущения для высшего католического клира, возмущенного внедрением не санкционированного папой новшества.
Реакция католической паствы – протест национальный или религиозный?
Как уже отмечалось выше, в 1870 году властям – и минскому губернатору, и в МВД – стали поступать прошения католиков Минской губернии о сохранении в их костелах польскоязычной службы. Они сопровождались жалобами на насильственную замену польского русским. По доступным мне источникам трудно судить, как именно писалось то или иное из этих прошений, в какой степени его содержание определялось тем или теми, кто непосредственно готовил текст, и насколько точно этот последний передавал позицию остальных подписавшихся (или поставивших по неграмотности крестик). Разумеется, чиновники били не совсем уж мимо цели, когда утверждали, что за каждой такой жалобой стоят поляки-«подстрекатели». Нельзя отрицать, что протесты против русского языка в костелах могли инспирироваться людьми с развитой польской идентичностью и служить инструментом мобилизации польского патриотизма. Однако это не дает основания игнорировать религиозную составляющую выступлений против русскоязычного богослужения, которая просматривается и в обстоятельствах подачи прошений, и в смысловой и аргументационной структуре самих текстов.
В январе 1871 года в МВД было получено прошение от крестьян Першайского прихода (Минский уезд), поданное тремя уполномоченными, за которых расписался местный житель дворянского звания. Просители сообщали, что мировой посредник состряпал от имени волостного схода приговор о введении русского языка, вписав имена выборных из соседнего православного селения. После подачи крестьянами жалобы начальнику губернии мировой посредник арестовал подписавшихся, а когда крестьяне явились «всей общиной» заступиться за пострадавших, он «бросился к нам с кулаками, как лютый зверь, рвал некоторых за волосы…». Обращаясь в МВД, просители характерным образом избегали утверждения, что всему причиной – запрет именно польского языка. Вместо этого они упирали на свою привязанность к традиции, старине, привычному порядку богослужения вообще: «[Дозвольте нам,] не переменяя Богослужения, молиться, как отцы наши молились, а мы, в случае нужды, докажем, что можно быть добрыми католиками и истинно русскими, докажем на деле, что, молясь по старому обряду, готовы пролить последнюю каплю крови за Освободителя Нашего Отца Монарха!»[1903] Использованная риторика уподобляла просителей старообрядцам. Действительно, как фактическое тождество догматов не могло смягчить неприятие старообрядцами официальной православной церкви, точно так же и рационалистический довод, будто смена языка не затрагивает сути веры, не мог утешить дорожащих обрядностью католиков.
Власти по-своему истолковали слова о «старом обряде». В сентябре 1871 года минский губернатор в ответ на запрос МВД объяснял случившееся недоразумением: мол, крестьяне поддались опасению, что их собираются обратить в православие, а после соответствующего вразумления готовы принять русское богослужение. Почти одновременно в МВД получили второе прошение першайских прихожан, резко расходившееся с версией губернатора. Оказалось, что после ссылки в монастырь настоятеля и викарного, не желавших служить по-русски, костел остается закрытым: «…как эретики, вот уже 5 месяцев без исповеди умираем, без священника хороним мертвых, сами крестим и венчаем наших детей». Прихожане вовсе не считали, что ошибаются, приравнивая перемену в обрядах к обращению в другую веру. Они возмущенно описывали действия декана Минского уезда М. Олехновича, одного из ксендзов, давших Сенчиковскому «подписку»: он прибыл «для обращения нас в новую веру и введения в костеле нашем новых обрядов». Поведение Олехновича описано в прошении как кощунственное: сначала он прислал в сакристию (ризницу) своего кучера, который голыми руками достал из шкафа чашу для Св. Даров, а потом, рассерженный замечаниями прихожанок, «в сердцах бросил ее на землю, что почти весь народ, находящийся частью в закрыстии (sic. – М.Д.), частью же в костеле, видел». После этого сам Олехнович на пару с тысяцким избил двух женщин, мешавших ему войти в костел для ревизии метрических книг. Женскому населению прихода – в прошении этот гендерный аспект подчеркивается – все-таки удалось отнять у Олехновича метрики и выгнать его из костела.
В ноябре 1871 года министр внутренних дел распорядился о проведении повторного строгого расследования дела. При этом, однако, губернатору прозрачно давалось понять, к какому результату оно должно привести. Тот факт, что оба прошения подписаны одними и теми же лицами, расценивался как признак подстрекательства. На основании этого с нажимом предписывалось принять меры к тому, чтобы «местное римско-католическое население было вполне уверено в том, что введение русского языка не имеет отношения к догматической стороне исповедуемой ими веры, и чтобы оно не испытывало на себе влияния неблагонамеренных лиц, искажающих значение этой меры…»[1904]. Эксперты МВД по католицизму остались безразличны к тому, что отождествление новшества в обрядности с порчей веры было не крючкотворским искажением буквы закона, а культурной категорией, формировавщей восприятие католическим простонародьем реформы богослужения (на что указывает, в частности, тема самоотверженного участия женщин в сопротивлении «нехристю» Олехновичу).
Сходная мотивация защиты польского языка отразилась и в прошении, поступившем в декабре 1871 года директору ДДДИИ Э.К. Сиверсу от прихожан Свято-Троицкой церкви в Минске, где настоятелем в то время был сам Сенчиковский (перемещенный ранее в том же году на престижную должность декана города Минска). Прошение подписано более чем пятьюдесятью лицами – преимущественно дворянами, а также однодворцами и мещанами. Главная их претензия к Сенчиковскому состояла в том, что после перехода на русский язык состав богослужения значительно обеднел: с польского было переведено слишком мало молитв и гимнов. Учитывая, что в ДДДИИ именно тогда озаботились переводом пространного сборника кантычек[1905], просители могли рассчитывать на какое-то понимание. Среди других обид на нового настоятеля они указывали и такую: «[Сенчиковский отвергает слова,] употребляемые от начала эры христианской “Да будет восхвален Исус Христос” (Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus), и, отрицая притворно и иронически, будто бы этих слов не понимает, требу[ет] замены оных словом “здравствуйте”»[1906]. Иначе говоря, Сенчиковский требовал замены польской формулы приветствия русской. Вероятно, отвергаемая Сенчиковским формула приветствия с упоминанием имени Сына Божия воспринималась жалобщиками, особенно в устах священника, как сакральное возглашение, а в случае треб – и как часть священнодействия. Навязываемая Сенчиковским русская замена была для них неприемлема не только как русская, но и как просторечно-профанная.
Сенчиковский представил в Виленскую католическую консисторию ответ на эту жалобу. Он отклонил указание на неполноту русскоязычных молитв и гимнов при помощи софизма: раз просители требуют, чтобы «проповеди, добавочное Богослужение и чтение Евангелия, которые я в настоящее время совершаю на русском языке, были совершаемы на польском», то значит, «всё, что совершалось давным-давно, совершается и теперь, без малешего опущения, но только не на польском языке, а на русском и латинском»[1907]. В действительности «опущений» в дополнительном богослужении на русском было множество. И вскоре вопросы, ранее казавшиеся русификаторам «техническими», – о доступности и понятности нового языка богослужения католикам-мирянам, о переводимости католических богослужебных текстов как таковой – станут-таки предметом обсуждения в переписке организаторов кампании.
В феврале – марте 1873 года управляющий Виленской католической епархией прелат Петр Жилинский, уступив давлению ДДДИИ (в свою очередь, направляемого подсказками Сенчиковского) и преодолев страх, вызванный убийством Тупальского, лично провел ревизию 16 католических церквей в Минской губернии. Цель ревизии состояла в том, чтобы закрепить или ввести дополнительное богослужение на русском языке[1908]. К тому моменту издержки «удара по духовенству», нанесенного Сенчиковским в 1870 году, стали видны невооруженным глазом: некоторые из давших тогда «подписку» ксендзов вернулись к богослужению на польском, были за это удалены из своих приходов, а на их место кандидатов не находилось, так что прихожане 7 приходских и 13 филиальных костелов, официально считавшихся перешедшими на русский язык, оставались без пастырей[1909].
В регулярных донесениях директору ДДДИИ Э.К. Сиверсу, а также минскому губернатору В.Н. Токареву Жилинский сочетал заверения в том, что паства в большинстве своем готова принять русское богослужение, с сообщением как бы невзначай тех фактов, которые должны были насторожить петербургских чиновников. Так, в каждом из посещенных им костелов, перед началом мессы Жилинский обращался к прихожанам с краткой речью о том, что переход на русский язык в богослужении есть воля царя. Еще категоричнее о повелении императора говорилось в отношениях, которые он присылал главам соответствующих деканатов накануне своего приезда и копии которых исправно прилагал к донесениям Сиверсу[1910]. По всей видимости, Жилинский тяготился тем, что под нажимом сверху он должен был передергивать смысл указа 25 декабря 1869 года и приписывать номинально факультативной мере обязательный характер, однако выразить свое несогласие с таким способом увещания паствы он мог только косвенно. В донесении о ревизии Несвижского костела Жилинский ровным тоном сообщал: «…по-видимому, здесь еще существует предубеждение противу введения русского языка в дополнительное богослужение, и мое влияние по сему предмету не могло подействовать решительным образом». Он предоставлял прихожанам высказаться самим, переслав в ДДДИИ прошение, полученное им из Несвижа уже после своего отъезда оттуда. Несвижские католики грамотно апеллировали к декларированному самим правительством принципу добровольности и, оспаривая слова прелата о повелении насчет замены языка, упирали на связь богослужения на понятном языке с благочестием и лояльностью:
Как… о таковой Высочайшей воле… подлежащими гражданскими властями в установленном порядке нам не объявлено, то мы, сохраняя за собою в точности прежде объявленное нам под расписки Высочайшее повеление [от 25 декабря 1869 года]… чистосердечно [признаем] неспособность нашу изливать чувства свои в молитвах на русском языке, на котором слог становится для нас очень трудным и даже невнятным, от чего неминуемо последует ослабление религиозных чувств…[1911]
В докладе по итогам ревизии Жилинский фактически признал резонность возражения несвижчан, заметив, что многие прихожане, противящиеся замене польского русским, находят оправдание в «поряд[ке] служения, не изменяем[ом] до сих пор в соседних и других епархиях, а даже [и] в тех местах, где исключительно русский язык есть преобладающий» (т. е., например, в Петербурге)[1912].
Поднял Жилинский и вопрос о влиянии смены языка на содержание богослужения и молитвословия, равно как на их восприятие верующими. Сам он, употребляя русский язык под костельными сводами, старался смягчить впечатление разрыва с традицией. По-русски он произносил только вступительную речь перед мессой и – в конце службы – молитву за здравие императора и династии. Если верить донесению Жилинского, по крайней мере в одном случае, в селении Кайданово, он в подходящей ситуации воспользовался своим умением говорить по-белорусски:
…на желание народа, собравшегося в костельной ограде (до 500 человек), видеть меня я, выйдя в церковном облачении и поздравив словами Спасителя, в среде собрания с открытыми головами истолковал ему на местном простом русском наречии… о значении той меры, которая заключается в… устранени[и] из костела польского языка с заменою его отечественным русским… Народ, оставаясь в почтительном смирении, принял это назидание со вниманием и благосклонно со мной распрощался[1913].
Иной была трактовка Сенчиковского, присутствовавшего на нескольких службах Жилинского в Минской губернии. Русская речь управляющего епархией казалась ему не заслуживающей такого названия: «[Жилинский] читал молебен [за здравие императора] на русском языке, но строго соблюдал польское ударение и произношение слов, так что многие спрашивали, на каком языке было совершаемо молебствие». (Возможно, этот-то говор Жилинский и квалифицировал как «местное простое русское наречие».) Хуже того, во время богослужения органисты с одобрения прелата пели польские гимны, что, с точки зрения Сенчиковского, являлось прямым саботажем правительственных предписаний. А наставляя местных священников переходить с польского на русский, Жилинский делал оговорку, уничтожающую, по мнению Сенчиковского, смысл сказанного: «Дабы волк был сыт и козы целы»[1914].
Минский русификатор словно бы не замечал тех препятствий к полноценному богослужению на русском, которые не имели прямого отношения к национальным симпатиям и о которых Жилинский достаточно откровенно писал в донесениях: «[Мне] во многих местах лично жаловались прихожане, что за недопущением польского языка прекратились противу увековеченного обычая все употребляемые в костелах набожные песни, чтения с Евангелия и поучения из оного, которые с душевною отрадою были народом усвоены, а с лишением всего этого прихожане остаются в печальном унынии, заставить же себя учиться этому по-русски считают затруднительным»[1915]. Помимо того что на русский язык к тому времени успели перевести лишь несколько молитв и гимнов, существовала и проблема массового издания и распространения русскоязычных молитвенников. Изданный в 1871 году под наблюдением ДДДИИ сборник «Римско-католические церковные песнопения и молитвы»[1916] вышел тиражом всего в 4000 экземпляров и предназначался исключительно для клира, но не мирян, которые, таким образом, после запрета польского богослужения в своем костеле оказывались отлучены от давно усвоенного обычая чтения молитв по молитвеннику во время службы (или должны были по-прежнему пользоваться польскими молитвенниками, рискуя подвергнуться штрафу)[1917].
Лишь несколько лет спустя, уже незадолго до спада кампании, Сенчиковский извлек какой-то урок из столкновений с прихожанами и признал необходимость облегчить рецепцию русскоязычного богослужения посредством уступок молитвенным практикам, распространенным среди католиков. В декабре 1876 года он предложил властям заняться подготовкой богослужебной литературы, специально предназначенной для местного католического простонародья:
…при переводе с польского языка на русский употребляемых в римско-католических церквах гимнов и молитв, стихами или прозою, [необходимо использовать] слог самый простой и легкий и выражения самые обыкновенные и подходящие к понятию белорусского населения, ибо как польский язык, так равно и высокий слог с высокопарными выражениями равно недоступны понятию нашего рабочего люда. Напротив, он с полным вниманием, так сказать, хватает и усваивает всякое слово ксендза, произнесенное в костеле домашним слогом и самыми обыкновенными выражениями[1918].
Сенчиковский имел в виду частичную белорусизацию католической гимнографии и молитвословия – разумеется, в смысле «опрощения», приближения к говору простонародья, а не культивирования самостоятельного языка (самого термина «белорусское наречие» он избегал как легко ассоциируемого с сепаратизмом)[1919]. По ряду свидетельств, католические священники в северо-западных губерниях и после 1863 года, когда укрепилась официальная тенденция к запрету украинского и белорусского языков («наречий», по тогдашней терминологии) в публичной сфере, нередко употребляли белорусский в общении с паствой и даже в службе. В 1870-х годах некоторые чиновники уже не видели в этом крамолы – если, конечно, такая практика не бросала вызов представлению о белорусах как составной части русского народа[1920].
Препятствием к реализации предложения Сенчиковского стала, как кажется, взаимная неприязнь между ним и католическим клиром в Вильне. Его руководство, хотя и сервильное к правительству, не упускало случая отмежеваться от самоуправного ксендза, чьи действия фактически вывели Минскую губернию из сферы ведения Виленского епархиального управления. В 1877 году Сенчиковский представил на рассмотрение начальству свой перевод с польского «Выдержек из Апостолов» (для праздничных проповедей и поучений), заявив, что «перевод этот может значительно пополнить пробел в дополнительном богослужении на русском языке, существующий вследствие неимения переводов Апостолов на народный язык»[1921]. ДДДИИ отправил рукопись на отзыв члену Виленского капитула Антонию Немекше. Если чиновники рассчитывали на то, что Немекша, имевший среди многих католиков репутацию ренегата и прислужника гонителей веры, из одной только групповой солидарности поддержит начинание минского радетеля русского языка, они должны были испытать глубокое разочарование. Рецензент язвительно раскритиковал перевод. Текст, по его словам, начинен грамматическими ошибками, грешит «чрезмерным подстрочным переводом», чуть ли не на каждой странице попадаются «совершенно нерусские отдельные слова», галлицизмы – так что «является весьма часто непонятным не только смысл отдельных фраз, но и целых апостольских посланий, вследствие чего чтение Святого Слова вызывает взамен должного благоговения невольный смех»[1922]. Эксперты ДДДИИ согласились с этим заключением. Сенчиковский, видимо, узнавший по своим каналам об источнике отзыва, не остался в долгу. Продолжая настаивать на «опрощении» богослужебного языка, он прошелся по изданным в 1870 году «алтарику» (сборнику молитв) и евангеличке (воскресным и праздничным чтениям из Нового Завета) в переводах с польского на русский соответственно Немекши[1923] и его виленского сотоварища прелата М. Гербурта. Сборники эти, писал он, «до того неполны и неудовлетворительно переведены, с употреблением выражений чисто славянского наречия, а не русского», что их распространение в народе «даже вредно»[1924]. Но и решившись на такое противопоставление церковнославянского (как непонятного и вдобавок тождественного православной вере) разговорному русскому, Сенчиковский не ставил под сомнение мысль о том, что понятность и простота богослужебного языка непременно располагают к нему верующих.
Автопортрет Сенчиковского: праведный католик, православный в душе
В Сенчиковском, несомненно, присутствовало много от циничного авантюриста. Его самоутверждение в русской национальной идентичности принимало подчас характер навязчивой демонстрации, ради которой он был готов поломать судьбу тем, в ком опознавал или находил удобным видеть врагов «русского дела». Однако это не значит, что среди ближайших мотивов его действий отсутствовали определенные экклезиологические и ценностные представления, более или менее устойчивые идеи о католической религиозности, административной организации католической церкви, ее взаимоотношениях с православием. Анализ таких представлений затруднен тем, что Сенчиковский не оставил сколько-нибудь развернутых писаний или теологической полемики по этим проблемам, тогда как его официальная и частная корреспонденция перенасыщена конвенциональной риторикой. Не претендуя на реконструкцию внутреннего мира этого малосимпатичного индивида, я попытаюсь очертить тот исторический и культурный контекст, в котором формировалась его идентичность как католического клирика. Под этим углом зрения яснее становится дальнейшая эволюция мероприятий по введению русского языка в католическое богослужение в 1870-х годах.
Начнем со взглядов Сенчиковского на православие. Уже в самом начале кампании по деполонизации костела его деятельность вызывала у некоторых чиновников ассоциации с обращением в православие. Так, минский начальник губернского жандармского управления в апреле 1870 года с явным удовлетворением отмечал, что Сенчиковский «постоянным употреблением русского языка, как при богослужении, так и в частном быту, до того приучил к нему крестьян (Блонского прихода. – М.Д.), что многие из них стали посещать православную церковь». Сам Сенчиковский, в унисон МВД, тогда же многократно декларировал, что истолковывать введение русского языка в костел как шаг к православию есть злостное искажение замысла правительства и что подобные слухи выгодны только «польско-иезуитским пропагандистам». Однако другие его же высказывания словно специально делались для того, чтобы дать пищу таким слухам. Так, в подкрепление тезиса о духовенстве как главном агенте реформы он не раз ссылался на прецедент «воссоединения» униатов 1839 года. В программной записке минскому губернатору 1870 года он писал: «[Иосиф Семашко] ударил сильно на духовенство и перепечатание книг, чем в скором времени и покончил столь значительно трудное дело присоединения унии». Годом позже, сетуя в докладе Э.К. Сиверсу на сопротивление русскоязычному богослужению со стороны многих ксендзов, он открыто проводил параллель между собой и устроителями «воссоединения»: «Ведь присоединением унии занимались не благочинные (т. е. деканы. – М.Д.), подобно мне, а епископы Семашко, Голубович и Зубко!»[1925]
Вполне предсказуемо аналогия наводила на мысль, что Сенчиковский не ограничивается заимствованием методов конфессиональной инженерии Семашко, но направляет ход всего дела к той же цели. Интересное свидетельство на этот счет содержится в донесении Сиверса Л.С. Макову об инспекционной поездке в Минск весной 1876 года. При встрече с Сенчиковским и бобруйским деканом С. Макаревичем Сиверс сообщил им о том, что незадолго перед тем в соседней Могилевской губернии по высочайшему повелению был передан православному духовенству известный в крае Белыничский костел с чтимой и католиками, и православными чудотворной иконой[1926].
Оба ксендза изъявили по этому случаю «особенную радость». Сиверс делился с Маковым важными соображениями: «[Это] доказывает, что оба ксендза действительно враги ополячения народа и, преследуя политическую цель, увлекаются до того, что пренебрегают даже интересами своей Церкви. Сказав им, что я весьма рад их сочувствию… я советовал им, однако, не выказывать этой радости перед своими единоверцами, ограничиваясь только упреком, что вот чего достигают они, противясь введению русского языка в костел и отождествляя веру католическую с полонизмом»[1927].
В сущности, Сиверс и сам подспудно «отождествлял веру католическую с полонизмом»: католический священник, лицемерно скрывающий от прихожан свое расположение к православию (чтобы лучше ими манипулировать), казался ему более предпочтительным союзником власти, чем лояльный властям, но ортодоксальный католик. Проще говоря, Сиверсу не верилось, что русской речи в костеле можно искренне желать без намерения обратить, раньше или позже, этот костел в православный храм. Но не была ли выказанная Сенчиковским радость аффектированной? Тридцать с лишним лет спустя в письме своему биографу он вспоминал о беседе той же весной 1876 года с персоной еще более важной – министром А.Е. Тимашевым, которому он представлялся в Петербурге. Согласно воспоминанию, Тимашев испытующе спросил его: «А что, если бы вы приняли православие?» Сенчиковский не замедлил с правильным ответом: «Тогда я буду потерян и бесполезен для русских подданных русского народа (sic. – М.Д.), исповедующих католическую религию. И неужели только православие сделает меня более русским по чувству, чем я в настоящее время?!» Тимашев пожал собеседнику руку и заверил его: «Скажу вам искренно, что после ваших слов я вас более ценю, чем тех, которые приняли православие. Вы нам нужны, и о Вас я доложу Государю. Ничего не бойтесь: вас Правительство поддержит и защитит!»[1928] Можно, конечно, сомневаться, не слишком ли стилизованно передает Сенчиковский этот диалог и особенно свой ответ, не произошла ли в его памяти подмена Тимашевым Сиверса[1929] (беседа с которым на ту же тему в мемуарном отрывке не упоминается, а между тем зафиксирована в более достоверном источнике – подготовленном по горячим следам отчете самого Сиверса). Как бы то ни было, в совокупности эти свидетельства отразили специфическую амбивалентность фигуры Сенчиковского в восприятии его патронов. На него смотрели одновременно как на парадоксального ксендза, православного «в душе», и как на живое воплощение идеологемы о совместимости католической веры и русской народности. В сознании бюрократов эти ипостаси не исключали друг друга. Соответственно, в собственных словах и поступках Сенчиковский представал то строгим блюстителем чистоты католицизма (понятой в смысле «располячения»), то душевно размягченным приверженцем православия. Поэтому он был даже заинтересован в том, чтобы конечная цель его усилий оставалась недоформулированной, размытой.
В конце 1890-х годов Сенчиковский, откликаясь на вопрос биографа, утверждал, что не один доброжелатель в 1870-х предлагал ему принять православие, а приятельствовавший с ним православный епископ Минский Александр (Добрынин) даже обещал должность кафедрального протоиерея[1930], но что на все такие предложения он отвечал благодарностью и отказом: «…это будет на руку полякам и иезуитам с Папою… Я, без того, в душе – православный. Но… я желаю оттянуть католический народ от польщизны и талмудов папских, а тогда (после принятия православия. – М.Д.) я этого… не могу сделать, ибо тогда уже открыто будут удостоверять, что русский язык прямо ведет народ к православию…». Итак, по этой версии, в католицизме ему надо было оставаться исключительно для того, чтобы иметь средство воздействия на «темный народ наш, до мозга костей ополяченный». Желал ли Сенчиковский, чтобы этот народ обратился, пусть и в неблизком будущем, в православие? В том же письме он так раскрывал поставленную перед собой в 1870-х годах цель:
Я стремился… сделать такую унию с православием, какая была с Римом, т. е. возвратиться к тому, как было до разделения Церквей, и только на тех основаниях, какие определены семью вселенскими соборами, выбросив всё, что введено папами после разделения Церквей, и, оставляя западную обрядность, к которой народ привык и которая не имеет ни малейшего значения в догматическом отношении, составить единство догматов[1931].
Замечу, что в официальных, современных событиям, документах Сенчиковского не только нет подобных признаний, но не встречается и самый термин «уния». (И отсутствуют даже намеки на какую бы то ни было связь его кампании с виленско-минским проектом православно-католической унии 1865–1866 годов[1932].) Наиболее откровенное из известных мне тогдашних признаний Сенчиковского содержится в черновике его письма от января 1873 года (вероятно, так и не отправленного) чаемому покровителю генералу А.А. Кирееву, панслависту из круга вел. кн. Константина Николаевича: «Постараюсь (все-таки крайне осторожно), по мере возможности, подготовить почву к святому и великому делу объединения с религиозной и политической точки». Доверительно сообщая о своем несогласии с принятым на Ватиканском соборе 1870 года догматом о папской безошибочности, Сенчиковский выражал от себя лично и от имени единомышленников «твердое намерение» «веровать и признавать только Христово-Апостольские догматы – догматы без иезуитско-фанатических примесей», но при этом «ни на волос не отступать от обрядов и обычаев Западной (Римской) церкви»[1933]. Это заявление, однако, сделано в частном порядке и совершенно не касается институциональной стороны процесса «объединения». Более того, в те же 1870-е годы Сенчиковский, обвиняемый противниками именно в нарушении обрядности, в пику им подчеркивал неприкосновенность догматической стороны католицизма – и публичных протестов против нового догмата отнюдь не заявлял[1934].
Если принять на веру признание в черновике письма 1873 года и сообщение Жиркевичу 1900-го, то можно предположить, что введение русского языка в богослужение без санкции Святого престола Сенчиковский рассматривал как своего рода катализатор разрыва с духовной юрисдикцией папы римского, после чего католикам в России был бы присвоен некий автономный статус при подчинении православной церкви, но без полного с нею слияния. Ведь даже прибегая к рационалистическому тезису о примате догматики над обрядом в конфессиональной идентичности, Сенчиковский отмечал важность сохранения традиционной «западной обрядности» для религиозного самосознания «народа». Учитывая, что ощущение культурной чуждости католичества возникало у многих православных русских именно при наблюдении особенностей костельной обрядности, данное условие унии представляется не столь уж малой уступкой католикам.
Другое дело, что, даже если бегло набросанная в 1900 году картина возможной унии действительно имелась в виду Сенчиковским уже в 1870-х, артикулировать ее по разным причинам было бы трудно. Идея «возвращения к тому, как было до разделения Церквей», при всей ее романтизирующей отвлеченности, все же содержала в себе зерно презумпции, что и православная церковь в России нуждается в избавлении от некоторых из институтов и порядков позднейшего происхождения. Едва ли Сенчиковский, начнись хотя бы келейное обсуждение проекта унии в узком кругу, смог бы принципиально защищать католическую обрядность. Даже бюрократам, которые сочувствовали тенденции к сближению православной и католической церквей, процесс этот виделся движением католиков к православным практикам и обрядности, на манер «воссоединения» униатов 1839 года. Понятию о самоценности католического ритуала не находилось места в этой схеме. Так, хорошо знакомый с Сенчиковским Л.С. Маков, сторонник принципа имперской веротерпимости, в поданной П.А. Валуеву в 1878 году записке делился личными наблюдениями, сделанными в Минской губернии: «Насколько я заметил, наши православные священники нисколько не избегают латинских и живут с ними в мире. Года два тому назад я был приглашен на освящение церкви и с удовольствием увидел 4-х ксендзов, тоже приглашенных священником»[1935]. Минские знакомые Сенчиковского умилялись полному отсутствию в нем «латинского фанатизма»: он регулярно посещал архиерейскую службу и слушал известного проповедника в православном соборе, на глазах у публики почтительно целовал руку православному епископу. В написанных в 1910-х годах воспоминаниях бывшего минского инспектора народных училищ Сенчиковский сравнивается с мариавитами[1936] – возникшим на рубеже веков обновленческим, увлекавшим прежде всего простонародье движением в католицизме в Царстве Польском, которое к 1910-м годам, после отлучения его лидеров от Рима, было признано в Российской империи отдельной конфессиональной институцией и даже удостоилось особых попечений со стороны государства – в качестве противовеса официальному католицизму и польскому национализму[1937]. Однако и Маков, и другие православные, приветствовавшие появление свободных от «фанатизма» ксендзов, уж конечно бы меньше обрадовались, если бы обрадовались вообще, узнав, что некий православный священник повадился ходить на католическую службу и воздавать почести католическому епископу.
Несколько упрощая, можно сказать, что православным сторонникам русскоязычной католической службы удавалось представить себе «располяченный» католицизм, но не русскость без православия. Рассудком они допускали, что польскоговорящий католик может искренне отринуть польскость как национальную идентичность. Однако человек, объявивший себя русским, но не сменяющий католицизм на православие, не проходил в их сознании некий культурный тест, разве что его католическую веру признали бы условностью или, как в случае Сенчиковского, целесообразным отступлением от нормы. В среде, где культурно-психологическое предубеждение против католицизма, несмотря на идеологические подвижки, было живучим, Сенчиковский мог заговорить об унии только в том случае, если не боялся тем самым подтолкнуть процесс поглощения католиков православной церковью.
Между тем есть основания думать, что Сенчиковский был укоренен в католицизме глубже, чем виделось со стороны. Значимый факт: даже после того, как он в 1879 году лишился милости высокопоставленных бюрократов и вскоре был перемещен военным капелланом в Туркестан, где, по сравнению с минской жизнью, влачил жалкое существование, он не пытался поправить дела путем обращения в православие[1938]. В уже цитировавшемся письме 1900 года биографу Жиркевичу, сразу вслед за утверждением, что он «в душе» православный, Сенчиковский признавал смену религии «тяжелой ломкой» для себя. Ниже он вроде бы поясняет, что имеет в виду только физическую тяготу: «…Я – болезненный и дряхлый. И привыкать к восточной обрядности, где так длинны все обряды и обычаи, принятые церковью, для меня – почти невозможно»[1939]. Однако слова о «тяжелой ломке» он относит и к периоду 1870-х годов, когда был крепок и бодр, чему свидетельством его визитаторская деятельность, требовавшая постоянных разъездов.
Показательна еще одна серия свидетельств из писем Сенчиковского Жиркевичу[1940]. Если упомянутому выше мемуаристу при рассказе о Сенчиковском приходили на ум мариавиты, то сам бывший визитатор в своем омском уединении живо интересовался старокатоликами – небольшой по численности прихожан церковью, возникшей в 1870 году в Германии в результате откола от римского католицизма в знак протеста против провозглашения Пием IX догмата о папской безошибочности. Сенчиковский, мало что, по всей видимости, знавший об этом движении во время его подъема, в 1870-е годы, когда сам он был поглощен деятельностью в Минске[1941], теперь раз за разом называл себя старокатоликом и ретроспективно характеризовал меры по деполонизации костела как совпадающие с антипапистскими целями старокатолицизма (о них подробнее см. ниже). Уничижительному эпитету «папские» в наименовании римских католиков он противопоставлял выражение «старокатолики Христовые» и уверял, что это «истинно христьянское и то же, что православное, вероисповедание». Решившись наконец вступить в переписку с А.А. Киреевым, одним из высокопоставленных энтузиастов слияния старокатолической церкви с православной, Сенчиковский между 1890 и 1901 годами несколько раз обращался к нему с предложением ходатайствовать перед императором о даровании старокатолицизму официального статуса терпимого и охраняемого законом вероисповедания на территории Российской империи (мечтал он при этом, конечно, не о переселении германских старокатоликов в Россию, а о признании готовых служить по-русски католических священников и их прихожан членами независимой от Ватикана конфессии)[1942]. Словом, очевидно, что, несмотря на его заявления о полнейшей близости к православию, для Сенчиковского на склоне лет сохраняла значимость параллель между его минским экспериментом и хотя бы маргинальными явлениями в большом католическом мире.
Мне представляется, что и в 1870-е годы вражда Сенчиковского со многими представителями единоверного ему клира явилась конфликтом не только между русскоязычием и польскоязычием в националистическом смысле, но и между разными культурными моделями католической религиозности. Тезис, к доказательству которого я перехожу, состоит в том, что деятельность Сенчиковского в конфессиональном отношении была в каком-то смысле анахронизмом – реанимацией в новую эпоху некоторых иозефинистских, просвещенческих практик в управлении церковью и дисциплинировании паствы. Присматриваясь к характеру столкновений этого авторитарного ксендза с прихожанами, нетрудно заметить, что в протестах против русскоязычного богослужения выражались обрядовые и поведенческие практики народного католицизма, получившие особое распространение в XIX веке и адаптированные духовенством к каноническому ритуалу.
Сенчиковский не только не скрывал, но и подчеркивал активную и даже ведущую роль женской части паствы в противодействии его нововведениям. В первых же церквах, куда он в 1870 году являлся служить по-русски, ему пришлось столкнуться прежде всего с женским недовольством и даже возмущением. Во время службы раздавались сердитые возгласы («Подлый москаль приехал учить московщине»), нарочито громкий плач; на улице прихожанки, демонстрируя презрение к ксендзу, плевали в его сторону. Из одного действительно неприятного происшествия Сенчиковский не счел зазорным сочинить ни много ни мало организованное покушение на свою жизнь. В местечке Коржень (Корзень) Гашинская, «шляхтянка, ведущая кочевую жизнь», сначала мешала Сенчиковскому производить ревизию костельного имущества, а после службы с криком «Ей Богу я этого москаля убью» запустила в него с расстояния пяти шагов камнем «около двух фунтов весом», и «так метко… что попал бы мне прямо в висок, но, на счастье, я закрыл себя руками, и камень ударил меня в руку так сильно, что рука опухла». В донесении губернатору Сенчиковский, процитировав выкрики Гашинской, схваченной подоспевшим тысяцким, заключал: «…ясно видно, что Гашинская была подослана и только искала случая – убить меня… Причина же негодования главная та, что я – “москаль”: это сама Гашинская… публично высказала. И она, дабы спасти поляков, решилась меня убить». Хотя расследование не выявило никаких сообщников «фанатички», ее приговорили к ссылке[1943].
Оставляя на совести спасшейся жертвы интерпретацию возгласа «Мы не царской веры, а польской!» как призыва к национальной измене, надо отметить, что Сенчиковский был по-своему прав, говоря о моральной поддержке, которую ксендзы – противники русскоязычной службы находили в сочувствии прихожанок. В том же 1870 году он просил губернатора прекратить высылку в сельские приходы (на «перевоспитание») провинившихся перед администрацией городских ксендзов: «Мы не успеваем присмотреться к ним, этим фанатикам, как они уже затормозили русское дело; женщины… считают их мучениками ойчизны, а нас врагами ойчизны». Оттеняя маскулинную коннотацию в сопоставлении изощренных в «тонкой иезуитско-польской программе» ксендзов и экзальтированных женщин[1944], Сенчиковский рекомендовал высылать первых «бесцеремонно» в Бобруйскую крепость: «Там, в казармах, без должности, пусть ведут свои польские интриги между солдатами…». Вскоре выяснилось, что и оказавшись в крепости наказанные ксендзы продолжают собирать на совершаемые ими службы немало народа. Сенчиковский находил разрешение им служить недопустимой поблажкой: «Служба ссылочного ксендза – сильное орудие к тому, чтобы в народе… возбуждать сожаление к ссыльному, и негодование и отвращение к тем, которые служат на русском языке. …Кто же пойдет на службу… “москаля”, когда пять или шесть “мши” (от польского “msza”, месса. – М.Д.) ежедневно совершают мученики за польский язык?!»[1945] Таким образом, сами обстоятельства насаждения, при поддержке светских властей, русскоязычной службы усиливали неприязнь Сенчиковского к культу страдания за веру, который приобретал в народном католицизме особенно эмоциональные формы и апеллировал к чувственной стороне религиозности. Фактическое самоотождествление с репрессивным аппаратом государства, вероятно, даже возвышало его в собственных глазах как деятельного священника, антагониста пустосвятства и суеверий. Нерасположение к барочной обрядности, к таким массовым проявлениям религиозности, как паломничества, запечатлелось и в тирадах Сенчиковского против монастырей, особенно столь популярных в народе, как Несвижский.
Специфически конфессиональные мотивы деятельности Сенчиковского наиболее выпукло выявляются из сравнения кампании по русификации костела с современной антикатолической политикой в бисмарковской Германии. Попытку такого сопоставления читатель найдет в следующем разделе.
Kulturkampf по-бисмарковски и по-романовски
К середине 1870-х годов недовольство значительной части клира и мирян русскоязычным богослужением побудило русификаторов, не отказываясь от общего представления о благодарности «народа» за возвращение «родного» языка, укрепить идеологические и институциональные основания кампании.
В 1876 году Сенчиковский составил послание местному духовенству, где доказывал, что проводимая языковая реформа вовсе не входит в сферу непосредственной духовной юрисдикции папы. Послание, по стилю балансирующее между обличительной проповедью и теологическим диспутом, было включено в циркуляр, которым Сенчиковский извещал местный клир об учреждении в Минской губернии особого института «визитатора» костелов (о чем будет сказано ниже) и о своем назначении одним из двух визитаторов. Он представлял введение русского языка «делом чисто гражданским, чисто народным, а не религиозным», предопределенным волей монарха и полностью согласующимся с призванием римско-католического священника. При этом использование проклинаемого польского языка в богослужении и при совершении треб преподносилось как прецедент, оправдывающий теперь замену польского русским: «Если можно было изменить даже латинский язык в совершении Таинства… то в добавочном… богослужении… употреблять русский язык не только можно и уместно, но даже и необходимо… Как тяжело ответят пред Богом те ксендзы, которые… не пользуются величайшею щедротою Августейшего Монарха, дозволяющего нам на понятном для народа языке разъяснять ему Закон Божий и религиозные римско-католические обряды…». Введение русского языка трактовалось Сенчиковским в отвлеченных терминах христианского просветительства («Неужели апостолы напрасно получили дар Духа Святого говорить на всех языках?»), без учета современных тенденций в развитии католицизма как конфессии. Послание завершалось категорическим утверждением: «…Богу, Папе и Соборам решительно всё равно, на каком языке кто говорит, лишь бы только он был праведным католиком…»[1946].
Сенчиковский ломился в открытую дверь, многословно доказывая, что высший католический клир в принципе одобряет использование «народных» языков в миссионерстве, пастырской деятельности, в известных частях богослужения. Едва ли минский визитатор рассчитывал повлиять своей аргументацией на папу Пия IX. Главными адресатами его послания были светские власти, способные, как ему казалось, надавить на глав католических епархий в империи, дабы те санкционировали переход на русский язык своим авторитетом. Ошибка крылась в недооценке значения того, что самонадеянному ксендзу казалось формальной процедурой. Об историческом контексте, в котором сформировалось это воззрение Сенчиковского и опекавших его столичных экспертов, со знанием дела отозвался двадцать лет спустя, в 1896 году, российский министр-резидент в Ватикане А.П. Извольский, впоследствии министр иностранных дел[1947]. В аналитической записке о причинах фиаско правительственных мер по русификации костельной службы он подчеркивал, что организаторам кампании не удалось преодолеть свое легкомысленное отношение к институту папской власти и каноническому праву:
Руководимый традициями екатерининских времен, когда нам действительно было до некоторой степени возможно подражать приемам Иосифа II, Департамент духовных дел иностранных исповеданий основал свою программу действий на том положении, что переход от одного языка к другому в дополнительном богослужении… может быть разрешен местною епископскою властью… До какой степени весь этот расчет был ошибочен, доказывается тою поразительною легкостью, с которою Римская Курия, руководимая в то время слепым фанатиком и ненавистником России Пием IX, остановила, можно сказать, одним почерком пера, выполнение задуманного нами плана…[1948]
И действительно, в деятельности Сенчиковского из-под современного для 1860-х годов национализма катковской закваски выпирал антипапизм почти «екатерининских времен». Заблуждался ли сам Сенчиковский или намеренно вводил в заблуждение бюрократов, но его трактовка игнорировала или недооценивала силу тех новых скреп между институтом папства и религиозностью католиков, которые возникли за последние десятилетия, при Пие IX. Эта недооценка была особенно опрометчива в случае духовенства на территории бывшей Речи Посполитой, где духовная приверженность папству, несмотря на его упадок в первые десятилетия XIX века, была заметно прочнее, чем в других европейских странах[1949]. Ни Иосифу II в Австрийской империи, ни Екатерине II – в Российской не пришлось столкнуться с феноменом постпросвещенческого «католического возрождения», укрепившего в католической пастве и клире чувство иерархии и повернувшего вспять процесс десакрализации папства. Сенчиковский же в 1870-х годах предлагал властям руководствоваться тем представлением о католическом внутрицерковном устройстве, которое можно было почерпнуть из уже устаревших иозефинистских программ духовных семинарий в Вене, Львове или Вильне конца XVIII – первой четверти XIX века.
Анахронизм проекта Сенчиковского, впрочем, не уникален для антиультрамонтанских течений того времени. Вернемся к сравнению его деятельности с германскими старокатоликами. Соотечественники римско-католического исповедания считали старокатоликов отступниками от самой веры, а переданные им (под давлением властей) храмы – оскверненными. По своему социальному составу старокатолическое движение было интеллектуально-элитистским: оно охватило прежде всего государственных чиновников, буржуа и ученых, как светских, так и духовных. В российском образованном обществе проявлялось определенное сочувствие к старокатоликам и даже обсуждался план объединения их с православной церковью[1950], однако – что не удивительно – минская «секта»[1951] русскоязычных ксендзов во главе с Сенчиковским, не блиставшая образованностью, далекая от теологических штудий и в своих приходах имевшая дело почти исключительно с простонародьем, не обнаружила в 1870-х годах намерения заимствовать духовный опыт немецкого антиультрамонтанства.
Тем не менее в самосознании и религиозности старокатоликов, а также в их взаимоотношениях с собственной имперской властью в период ее наступления на римский католицизм присутствовали какие-то черты, узнаваемые и в минском движении за русскоязычную службу. Сенчиковский, как мы помним, объяснял цель своих усилий в терминах возвращения «к тому, как было до разделения Церквей, и только на тех основаниях, какие определены семью вселенскими соборами». Золотой век старокатоликов относился не к такому далекому прошлому – на уровне доктрины они преподносили свою веру как истинный, традиционный католицизм, очищенный от произвольных, по их мнению, постановлений Пия IX и того, что они анахронистически считали реликтами средневекового фанатизма. Старокатолики, по словам Р. Росса, ратовали за «очищенную версию традиционной религии, более прочно опирающуюся на Священное Писание и менее зависящую от почитаемых обычаев и народных верований и практик». (Отметим некоторое созвучие утверждениям сторонников русификации костела о том, что стоять за польский язык значит слепо защищать внешнюю форму богослужения в ущерб его понятности пастве.) Ассоциируемые со средневековым невежеством и предрассудками, многие из отрицаемых или осуждаемых старокатоликами массовых ритуалов и обрядов – паломничества, почитание чудотворных святынь и др. – в действительности приняли свою современную форму в течение нескольких предшествующих десятилетий, в русле эволюции «народного католицизма». Игнорируя их, старокатолики уклонялись от признания одного из обличий современности в католицизме и представали в глазах своих соперников куда более «старыми», чем им хотелось казаться. Их либеральные предложения вроде отмены целибата для духовенства (идея, имевшая хождение в те годы и в некоторой части католического клира в Российской империи) воспринимались как попытки подорвать усилия Святого престола к сплочению клира и мирян, играющие на руку атеистам. Недооценка динамики перемен, происшедших и происходящих в народной религиозности, в отношениях между паствой, в особенности из низших социальных страт, и духовенством, имела следствием близорукий расчет старокатоликов на прямую государственную поддержку своих священников, в том числе в виде казенного жалованья[1952], чему, как мы еще увидим, имелся прямой аналог и в кампании русификации костела.
Сравнение со старокатоликами неизбежно ставит более общий вопрос о степени типологического сходства русификации костела в России с Kulturkampf в Германии. Как уже отмечено в главе 5, между Kulturkampf и опередившими его во времени, но не превзошедшими по масштабу ограничительными мероприятиями российских властей в отношении католицизма имелось немало общего в смысле культурно-психологической подоплеки. Однако с правовой и административно-политической точки зрения антикатолические акции в России не могли послужить образцом для Kulturkampf, да и политика Бисмарка, даже находя сочувствие у части русских полонофобов, не могла быть системно пересажена на российскую почву. Как подчеркивается в новейших исследованиях, Kulturkampf, при всей исторической несправедливости этой политики, осуществлялся посредством легалистской машинерии прусского Rechtsstaat. Его программа была обнародована в виде законодательных актов, получивших санкцию легислатур и имевших силу для Пруссии или всего Рейха. Декрет о преследовании за политическую агитацию в проповеди 1871 года; закон о государственной школьной инспекции 1872-го; так называемые Майские законы 1873 года, вводившие жесткий надзор государства за образованием духовенства и замещением вакансий в клире, а также гражданский трибунал для апелляции против решений епископов; закон 1874 года, уполномочивающий местную гражданскую администрацию конфисковать церковное имущество в вакантных приходах и назначать туда священников помимо епископской власти; закон того же года об экспатриации клириков, не подчиняющихся требованиям государства; наконец, законы 1875 года о прекращении государственных дотаций епархиям, где нарушались прежде изданные законы, и (в Пруссии) об упразднении еще остававшихся монашеских орденов и конгрегаций – все это составило юридическую базу наступления на католическую церковь[1953]. Штрафование, смещение с прихода, аресты, тюремное заключение или депортация клириков (к концу кампании тюремному заключению или изгнанию подверглись 1800 священников) производились в судебном порядке, с соблюдением процедур расследования и доказательства виновности. Бисмарк, рассчитывавший деморализовать непослушное духовенство систематичностью и неотвратимостью взысканий, в результате именно этой формализацией невольно облегчил сопротивление Kulturkampf: кампания год за годом увязала в инертном сутяжничестве, власти просто не имели возможности пресечь уклонение многочисленных нарушителей от наказания. Католики в Германии располагали легальными средствами публичного противодействия политике Бисмарка, включая парламентскую оппозицию (Партия центра), массовые общественные организации (Майнцская ассоциация, Katholikentag), прессу, конституционно гарантированную свободу собраний[1954].
В весьма удаленной от стандартов Rechtsstaat Российской империи католики в ответ на правительственные ограничения были вынуждены прибегать к пассивному сопротивлению (впрочем, широко распространенному и в Германии[1955]) или таким способам выражения недовольства, как личные оскорбления и запугивание «казенных ксендзов», доносительство и клевета на них[1956]. Но расхождение российской и германской антикатолической политики не сводилось к значительно большей правовой защищенности германских подданных. Общая концепция Kulturkampf не соответствовала основам государственного управления конфессиями в Российской империи, самой модели «государства конфессий», и имперские власти хорошо это понимали.
Почти одновременно с началом Kulturkampf, летом 1871 года, в Государственном совете Российской империи был поднят вопрос о пересмотре изданных виленскими и киевскими генерал-губернаторами в 1860-х годах ограничительных и запретительных распоряжений, в частности относящихся к католическому духовенству и отправлению католического культа. Пересмотр, необходимость которого вызвало введение в западных губерниях в 1871 году института мировых судей (первый шаг к реализации судебной реформы 1864-го и отделению суда от администрации в этом крае), предполагал отмену той части генерал-губернаторского сепаратного нормотворчества, которая обнаружила свою неприменимость на практике или уже не соответствовала изменившимся условиям. А вот меры строгости, себя оправдавшие, надлежало представить на высочайшее утверждение через Комитет министров, после чего за их нарушение должно было бы следовать наказание в судебном порядке. Сложнее всего поддавались такому юридическому переоформлению запреты в отношении католической церкви. Министерство внутренних дел в 1872 году выступило против включения соответствующих административных распоряжений в повестку дня. Согласно всеподданнейшему докладу министра А.Е. Тимашева от 1 марта 1872 года, такие циркуляры, как о неназначении ксендзов на приходские должности без согласия губернатора, о порядке произнесения проповедей и проч., и проч., «не могут, в случае их нарушения или неисполнения, подлежать судебному разбирательству» – они целиком находятся в сфере ведения администрации, которая «главнейше и должна быть ответчицею в подобных делах». Ни мировые судьи, ни – в перспективе – коронная юстиция не вписывались в устоявшуюся схему надзора имперской бюрократии за католическим клиром: «Едва ли можно сомневаться в том, что в случаях нарушения всех сих циркуляров главными виновниками следует признать тех начальствующих лиц светской или духовной администрации, которые… допустят, например, неправильное назначение ксендзов, незаконное совершение ими богослужения, процессий…». Еще худшие последствия возымело бы привлечение самих ксендзов к судебной ответственности с соблюдением судопроизводственных процедур: гласное и публичное, «соединенное с защитой адвокатов» разбирательство их правонарушений «повело бы лишь к усилению религиозного фанатизма среди католического населения»[1957].
Очень сходные мысли высказывались в МВД и в непосредственной связи с анализом хода Kulturkampf в Германии. Наиболее ярким свидетельством того, насколько хорошо понимали несовпадение политико-правовых оснований германской и российской антикатолических кампаний высокопоставленные бюрократы Романовых, является пространная записка министра внутренних дел А.Е. Тимашева от 20 января 1878 года, поданная императору и затем внесенная в Особый комитет по католическим делам. Записка посвящена вопросу о возобновлении переговоров с Римской курией о нормализации двусторонних отношений; ее подготовили эксперты, близко знакомые с событиями последних лет в Германии и отслеживавшие признаки угасания Kulturkampf. В ней подчеркивается, что борьба германского государства с католической церковью «потрясла весь государственный организм и доныне… значительно замедляет внутреннее развитие страны». Особое внимание обращено на давший санкцию Kulturkampf и одновременно воспроизводимый этой политикой порядок взаимоотношений между государством и церковью:
В основание этих прусских законов положено, под видом отделения церкви от государства, совершенное подчинение первой последнему. Католическая духовная иерархия рассматривается как управление какого-нибудь частного общества; закон требует, чтобы вся эта иерархия в пределах государства имела национальный характер и подчиняет ее требованиям строгого образовательного ценза. …[В этих законах] обнаруживается дух исключительности и как бы предвзятое нерасположение ко всему римско-католическому духовенству. …Причина этого кроется в том, что начиная с двадцатых годов нынешнего столетия римско-католическая церковь в Пруссии пользовалась почти полною свободою и независимостью от государства и что принятые ныне в Пруссии меры имеют характер реактивный против злоупотребления этою свободою[1958].
Несмотря на неверную датировку начала эры добрых отношений между прусским государством и Римско-католической церковью (эры, которой положил конец Kulturkampf)[1959], в процитированном суждении схвачена существенная особенность в эволюции этих отношений. Автономный от государства статус, которым католическая церковь с 1840-х годов пользовалась в Пруссии, мог служить предпосылкой как для снисходительного невмешательства властей во внутрицерковные дела, что и имело место до начала 1870-х годов, так и для подчинения католической иерархии секулярным требованиям, предъявляемым государством к общественным организациям. Почти одновременно с докладом Тимашева ведущий эксперт МВД по католицизму (и сам католик) А.М. Гезен, по всей вероятности участвовавший в подготовке доклада, укорял в частном письме М.Н. Каткова за сочувствие мероприятиям Бисмарка и так обосновывал невозможность подражания Kulturkampf в России: «…Прусское правительство, как атеистическое, требует абсолютного повиновения всем гражданским законам, изданным большинством людей, не признающих никакой религии; оно приписывает этому большинству ту непогрешимость, которую католики и православные приписывают только церкви. Следовательно, наше правительство, как православное, не может действовать так, как прусское»[1960].
Несмотря на полемические преувеличения Гезена (Бисмарк, конечно, не был атеистом, не ратовал он и за уничтожение католической церкви), ему нельзя отказать в проницательности[1961]: для того чтобы учинить в России эксперимент, сопоставимый с Kulturkampf, следовало для начала ослабить конфессиональный характер империи, при котором принадлежность к тому или иному признанному вероисповеданию опосредовала гражданскую связь подданного с государством. Симбиоз государства и господствующей конфессии затруднял отказ от воззрения не только на православное духовенство, но и на клириков других исповеданий как на исполнителей важных для государства функций. Даже гражданский брак, разрешенный в Германии после того, как Kulturkampf оставил множество католических приходов без священников, был в 1870-х годах чересчур смелой идеей для российских правителей (не говоря уже о введенной в 1873 году в Пруссии категории konfessionslos – не принадлежащий ни к одной конфессии).
В записке Тимашева сделаны интересные признания насчет недопустимости перевода отношений государства и католического духовенства на основу гражданского права и судебных процедур. Парадоксально, но даже внесудебные репрессии против клира, например административная высылка епископов, расценивались как свидетельство своего рода патриархальной близости государства и конфессии: даже будучи мерой произвольной, такая высылка «легче находит оправдание в глазах народа, как нечто крайнее, неизбежное, идущее свыше». Между тем «суровый приговор суда в Пруссии, заключающий его (епископа. – М.Д.) в тюрьму» «всегда отзывается некоторым лицемерием и, возбуждая недоверие к чистоте правосудия, плодит преступления». Тимашев напоминал, что попытка установить новые правила для привлечения католического духовенства к судебной ответственности по политическим делам не привела к успеху: «…возникли такие трудности и несообразности с общими началами нашего судопроизводства, что едва ли можно ожидать осуществления подобных исключительных законов…». Подводя итог сравнению с Kulturkampf, министр заключал: «Наше законодательство в этом отношении несравненно мягче. Но, признавая римско-католическую иерархию одною из составных частей государственных органов, оно оставляет за Правительством значительно большее участие и влияние в делах управления римско-католическою церковью»[1962]. Итак, оставалось только вымолвить, что аналог Kulturkampf в России означал бы, в каком-то смысле, действие государства против самого себя.
Учреждение должности визитатора и проблема канонической санкции русскоязычного богослужения
Несмотря на архаичность правового строя, делавшего невозможным последовательное проведение в России конфессиональной политики по бисмарковскому образцу, нельзя исключать, что в техническом плане отдельные мероприятия и административные приемы Kulturkampf давали российским экспертам по католицизму стимул к выработке новых методов бюрократического контроля над католической церковью. Творцов Kulturkampf, включая Бисмарка, и российских ревизоров католицизма, при всем различии в правовом мышлении, объединяло конспирологическое предубеждение, что без «подстрекательства» немногочисленных злоумышленников масса рядовых прихожан-католиков приняла бы спущенные сверху нововведения безропотно или даже благодарно[1963]. Это предубеждение объяснимо в людях, которые испытывали неприязнь или даже отвращение к «фанатическому» (в их терминах) типу религиозности, поощрявшемуся «народным католицизмом», а потому не могли понять, что сложившееся на его основе религиозное самосознание достаточно прочно для противостояния рационалистическому вмешательству государства. Расчет на то, что быстрое выявление и примерное наказание «зачинщиков» побудит массу идентифицироваться не с жертвой, а с государством, был, как ни комично может прозвучать такое сопоставление, общим заблуждением Бисмарка и… Сенчиковского.
В 1874–1876 годах, когда Kulturkampf достиг своего пика, меры по русификации костела также приняли новый оборот[1964]. Организаторы попытались придать им если не законодательную силу, то значение центрального, связующего звена в некоей правительственной программе. Как и в 1870-м, инициатива Сенчиковского значила довольно много. После ревизии прелата Жилинского 1873 года в минском кружке русскоязычных ксендзов установилось мнение, что управляющий епархией «окончательно изменил политику и сделался ярым поляком, в надежде угодить Риму и получить митру», т. е. добиться посвящения в епископский сан и назначения митрополитом[1965]. Появление в Вильне сколько-нибудь авторитетного епископа явно не входило в планы Сенчиковского. Его вполне устраивал дефицит канонически установленной духовной власти на территории Минской губернии.
Первую записку о расширении мероприятий по деполонизации костела Сенчиковский подал директору ДДДИИ Э.К. Сиверсу еще в июле 1874 года. Он заявлял, что вследствие «польских интриг» дело обрусения откатилось вспять: «…вся наша победа заключается единственно в том, что в нескольких костелах еще пока не совсем забыт русский язык в молебствии за Государя Императора и Августейший дом; да и это, собственно, только по расчету ксендза. Только во вверенном мне Златогорском костеле в полном смысле слова уничтожены не только буква, но и дух полонизма, но один костел слишком мало значит для русского дела…». Сенчиковский предлагал освятить начатые мероприятия гласным и недвусмысленным волеизъявлением монарха. «Высочайшее повеление о том, дабы… везде в Северо-Западном и Юго-Западном крае и Великорусских губерниях» католическое молебствие за императора и проповедь произносились на русском языке, явилось бы важным шагом к окончательной деполонизации костела[1966]. Смысл такого повеления состоял не только в обязательности употребления русского языка (пусть и не во всем дополнительном богослужении сразу), но и в распространении русскоязычной службы на территорию всей империи. Ведь хотя действие указа 25 декабря 1869 года, разрешавшего иноверцам слушать богослужение на русском, не ограничивалось какими-либо местностями, на практике МВД не прилагало никаких усилий к внедрению русского языка в костелы Петербурга, Москвы и других городов центра России и Сибири. Отчасти это было связано со всё тем же опасением католического прозелитизма, отчасти – с нежеланием провоцировать жалобы столичных прихожан-поляков, часть которых была вхожа в высший свет или имела влиятельных заступников и покровителей. Костелов в Российской империи к востоку от Днепра и Двины насчитывалось немного, но преобладание в них дополнительного богослужения на польском, а также проповеди на польском, французском и немецком символически лишали русификаторские мероприятия в Западном крае общеимперской значимости. Насаждение русского языка на западной периферии одновременно с тем, как в столицах католики продолжали молиться на польском, получало вид наказания за бывший или будущий мятеж, т. е. чрезвычайной акции, но не коренной реформы[1967]. В самом общем плане эта непоследовательность отразила в себе устойчивое, несмотря на идеологему «исконно русского края», представление об обособленности западных губерний от «внутренней России»[1968].
Впрочем, если Сенчиковский ожидал положительной отдачи от распространения русскоязычной службы на восток, то при обращении взоров на запад от Минска его самого одолевали сомнения. А именно: в Царстве Польском, Ковенской, Виленской и Гродненской губерниях, где, «по причине громадного количества ксендзов, народ весьма фанатическо-польского направления», следовало на первое время довольствоваться русским языком только в молитве за царя, не запрещая резко польский даже в проповедях[1969]. Таким образом, из состава «большого» (шесть литовских и белорусских губерний) Северо-Западного края Сенчиковский признавал готовыми к более решительной деполонизации костела только три восточных губернии – Могилевскую, Минскую и Витебскую. Относительно же «ополяченной» его части минский ксендз припас рекомендацию, напоминающую тогдашнюю бисмарковскую чистку духовенства: «назначать как можно меньше ксендзов, дабы народ отвык и позабыл прежнее».
В той же записке Сенчиковский увязывал задачи русификации костела с усилением государственного надзора за католической духовной академией в Петербурге и духовными семинариями. Констатируя засилье полонизма в этих учебных заведениях, он призывал к полному изгнанию польского языка из их стен (даже как разговорной речи вне аудиторий) и к тому, чтобы зачисление производилось под условием подписки (идея фикс Сенчиковского!) об употреблении русского языка[1970]. Как и в Kulturkampf, учебные заведения выступали в этом плане одним из важнейших инструментов воспитания лояльного государству поколения священников. Но если в Майских законах 1873 года государство предъявляло целый комплекс требований к уровню познаний будущего священника в философии, истории и немецкой литературе, то минский русификатор, поставив вопрос о русскоязычном обучении, вообще не касался возможных изменений в учебной программе, подготовки новой учебной литературы и т. д., как если бы весь курс обучения и в самом деле сводился к натаскиванию в совершении треб. Кажется, что в глазах Сенчиковского важнее образованности ксендза была сакраментальная подписка, взятая с него еще на семинарской скамье, которая, предположительно, позволяла бы в дальнейшем привлечь его к ответственности за уклонение от русскоязычной службы. Если Kulturkampf осуществлялся на базе Rechtsstaat, то административные приемы русификаторов костела в России явно почерпались из арсенала Polizeistaat.
К 1876 году Сенчиковский и бюрократы в Минске и Петербурге наконец сошлись во мнении о необходимости форсирования начатых в 1870-м мероприятий. Директор ДДДИИ Сиверс в январе 1876 года подал министру А.Е. Тимашеву доклад, в котором утверждал: если введению русского языка в католическое богослужение будет придан «характер общий», то «можно надеяться, что противники ее [меры] будут опасаться противодействовать ей, потому что в этом случае они будут иметь уже дело с Правительством…»[1971]. Не исключено, что именно Kulturkampf, эффектно демонстрировавший, как тогда еще казалось, преимущества интервенционистской конфессиональной политики[1972], подталкивал бюрократов к ревизии сценария, по которому от прихожан ожидалось благодарное принятие щедрого царского дара, а администрации отводилась роль благожелательного наблюдателя.
Тимашев одобрил идею, и в марте 1876 года Сиверс подготовил текст министерского «совершенно конфиденциального» запроса нескольким администраторам западной периферии об их мнении насчет введения русского языка в костел в обязательном порядке. Приведенная, весьма пространная, аргументация сводилась к следующему: пункт указа 25 декабря 1869 года о переходе на русскоязычное богослужение по желанию прихожан вовсе не будет нарушен, если правительство открыто выскажет за целую массу прихожан эту их несомненную волю.
Трактуя предшествующие (начиная с 1870 года) меры по замене польского языка русским, составивший текст Сиверс и подписавший его Тимашев следовали шаблонной схеме. Утверждалось, что «население» отнеслось к этим мерам «вполне сочувственно, доказательством чему служит то, что тотчас за объявлением… стали поступать из местностей, где польские интриги не успели распространить ложных внушений, прошения…». Любопытно, что на полях одного из отпусков документа, отложившихся в архиве ДДДИИ, против процитированного пассажа имеется помета: «Совер[шенно] неверно»[1973]. Кто-то из экспертов ДДДИИ хорошо помнил, что в большинстве костелов русскоязычная служба введена вовсе не по просьбе прихожан, а если прошения и прилагались к донесениям местных властей, то вскоре следовали жалобы на принуждение к их подписанию.
Суждения Тимашева и Сиверса о характере оказанного сопротивления являют собой хрестоматийный пример герметичной бюрократической логики, усугубленной конспирологическим мышлением:
…противники… меры успели повлиять на население и парализовать его добрую волю… Но эта усиленная агитация против введения русского языка указывает, с другой стороны, какая важность для русского дела в Западном крае заключается в этой мере, и, следовательно, как настоятельно приведение ее в исполнение для деполонизации Западного края.
Иными словами, недовольство, вызванное брутальными действиями власти, выдавалось задним числом за причину, побудившую начать эти действия, а тем самым и за оправдание их продления на неопределенный срок. Руководители МВД оставались слепы к тому, что именно навязывание сверху русского языка в молитве и проповеди резко политизировало вопрос о языке богослужения, который до этого в представлении большинства прихожан не связывался с драматическим национальным выбором, как рисовалось воображению Каткова и его единомышленников в Петербурге. Любопытную проговорку на этот счет содержало присланное в ответ на министерский запрос отношение могилевского губернатора Дембовецкого. Он приветствовал обязательный порядок введения русского языка в костелы в своей губернии: «[Большинство населения] отнесется к настоящей реформе либо с признательностью, либо совершенно безучастно; некоторые же из них, проживая вдали от костелов и редко посещая последние, вовсе не заметят этого нововведения»[1974].
Оставляя на совести губернатора точность прогноза, обратим внимание на то, как в процессе рутинизации мероприятия утрачивалось видение бюрократами его прагматической цели. Раз уж замена польского русским могла, по мнению губернатора, даже пройти незамеченной, из-за чего затевать сыр-бор? Отсюда видно, что для определенной группы бюрократов замена польского языка русским в католических церквах западных губерний превратилась в самодовлеющую задачу, важность которой (в их глазах) только возрастала из-за неудачных попыток осуществления. Тем и интересен «совершенно конфиденциальный» запрос Тимашева губернаторам в 1876 году, что он показывает, как бюрократическая рутина входила в сцепление с национализмом, становясь от этого особенно живучей. Если при подготовке указа 25 декабря 1869 года преобладала риторика гражданской сознательности «иноверцев», удостоенных царского благодеяния – русского языка в церковной службе, то теперь Тимашев возвращался к более привычному образу «исконно русского», но морально изувеченного «полонизмом», темного народа: «При неразвитости населения Западного края и явном нерасположении к этой мере со стороны не только большинства приходского духовенства, но даже епархиального управления такой инициативы нельзя ожидать в сколько-нибудь значительных размерах…». В этих условиях объявить русскоязычную службу обязательной было прямой обязанностью благодетельного правительства, а забота о добровольности почти без экивоков признавалась излишней щепетильностью: «Если в основании… Высочайшего повеления 25 декабря 1869 года, придавшего мере введения русского языка характер необязательности, лежала цель сохранения принципа терпимости, то едва ли Правительство станет вразрез с этим принципом, если русский язык будет признан обязательным там, где он составляет родной язык населения, где язык польский является чуждым последнему и служит лишь орудием для политических, сепаратистских целей».
У министра и его советников, однако, не было уверенности в определении этого «там». Дублирующий оборот гласил: русскоязычному богослужению следует придать «характер общности и обязательности, по крайней мере для тех местностей, в которых большинство населения вовсе не польского происхождения и вовсе [не говорит] или весьма мало говорит по-польски»[1975]. Эта небрежная (и требующая при цитировании конъектуры) формулировка, вопреки сужающей оговорке «по крайней мере», звучала расширительно, допуская, например, насильственное введение русского языка в местностях проживания литовцев, от чего виленская администрация с 1870 года благоразумно воздерживалась. Пожалуй, несколько больше, чем эти расплывчатые формулировки, нам может сказать о планах бюрократов МВД рассылка заготовленного запроса. Как видно из отпуска документа, виленский и киевский генерал-губернаторы, первоначально значившиеся первыми в списке адресатов, были затем вычеркнуты[1976]. Что неудивительно: в Киевском генерал-губернаторстве энергичный протест епископа Боровского еще в 1870 году остудил рвение властей, а среди местного белого духовенства не нашлось второго Сенчиковского. В Вильне же сам генерал-губернатор – преемник Потапова П.П. Альбединский, противник жесткой деполонизации – неодобрительно смотрел на русификацию костельной службы. Специальную записку об этом он представит Тимашеву несколько позднее, в конце 1876-го, но в МВД и до этого были осведомлены о позиции Альбединского. Сиверс, приехавший вскоре в Вильну для инспекции дел Виленской епархии и «проработки» Жилинского, в донесении Л.С. Макову писал как о чем-то предвидимом: «Я положительно убежден, что любезности, оказываемые Генерал-Губернатором полякам, повели Жилинского к мнению, что ныне уже нет надобности строго следовать указанному нами пути…»[1977].
После исключения генерал-губернаторов Юго-Западного и Северо-Западного краев из списка адресатов запрос отослали (9 марта 1876-го) минскому, могилевскому и витебскому губернаторам. К июню 1876 года в МВД от всех троих были получены положительные ответы, представление о которых дает приведенная выше цитата из отзыва могилевского губернатора. Все сходились в том, что открытое выступление правительства в пользу русского языка устрашит польских «подстрекателей»[1978], вразумит епархиальное начальство (Витебская и Могилевская губернии входили в состав Могилевской архиепархии, а Минская – Виленской епархии) и ободрит католиков из народа, для которых польский язык является чужим. С особым энтузиазмом приветствовал начинание МВД минский губернатор В.И. Чарыков, для которого русификация костела стала «визитной карточкой» администратора. Витебский губернатор П.Я. Ростовцев делал единственную оговорку о приходах с латышским населением, рекомендуя сохранить в церквах родной язык, ибо «латыши ни к каким политическим партиям не принадлежат и никогда не имели ничего общего с теми стремлениями полонизма, для ослабления которых необходимо водворение русского языка и укрепление русской народности»[1979].
Несмотря на поддержку местных властей в трех губерниях, МВД не стало развивать свою инициативу[1980]. Ведь приняв за основание для обязательного введения русскоязычной костельной службы численное преобладание русского по языку населения (и держась в рамках официального дискурса о русскости), легко было обосновать отказ от этой меры в Царстве Польском, но гораздо труднее – оправдать изъятие Юго-Западного края, Виленской и Гродненской губерний. А три восточных белорусских губернии не составляли все-таки достаточного сегмента «воображаемой территории» русской нации, чтобы русификацию в них костельной службы объявить общегосударственной мерой. Кроме того, в связанном с данным проектом МВД делопроизводстве нет и следов намерения объявить русскоязычную службу обязательной в костелах столиц, к чему тогда же призывал Сенчиковский и без чего общегосударственный характер мероприятия был бы неизбежно дезавуирован. В конце концов оппозиция части католического клира, трения между министерской и генерал-губернаторской инстанциями и так и не преодоленная амбивалентность в воззрении властей на русскоязычный католицизм («обоюдоострый меч») – все это не давало поднять русификацию костела над уровнем партикуляристского бюрократического предприятия. Тем не менее само обсуждение в 1876 году узаконения обязательности русского языка создало благоприятные условия для встречной инициативы Сенчиковского.
Своему предложению об учреждении должности визитатора (февраль 1876-го) Сенчиковский предпослал обзор затруднений, с которыми он и его сотоварищи, «подвизающиеся на поприще употребления русского языка» (термин из служебной корреспонденции), сталкивались в последние годы. Согласно данным на начало 1876 года, из тридцати приходских костелов Минской губернии, где русский язык в дополнительном богослужении установлен с ведома МВД как обязательный, в действительности русскоязычная служба совершалась в двадцати одном (из них в двух – «отчасти по-русски», т. е. и на польском)[1981]. Следует иметь в виду, что в большинстве случаев, как это признавал сам Сенчиковский несколько раньше, под русскоязычной службой подразумевались только молитва за императора и ектения, но отнюдь не весь богатый репертуар песнопений и молитв, употреблявшихся ранее на польском языке, или даже сколько-нибудь значимая его часть.
Корень всех бед и неудач отыскивался Сенчиковским в кознях виленского епархиального начальства – ради его дискредитации и составлялся обзор. Но из его собственных донесений и записок ясно, что дело шло туго прежде всего из-за неприятия русскоязычной службы паствой, отсутствия канонической санкции, а также из-за слабости идейной мотивации противоборства с польским языком в костеле. Вот лишь один пример. Ксендз И. Юргевич в течение пяти лет служил по-русски в Радошковичском приходе в Виленском уезде (на границе с Минской губернией), после чего был перемещен в Дисненский деканат и получил приход в соседстве с «фанатиком» ксендзом Шимкевичем, чье влияние не позволяло даже и слова в костеле произнести по-русски. Не прижившись на новом месте, Юргевич запросился в Минскую губернию, куда его и перевели по ходатайству Сенчиковского. Должность декана в Игумене тоже оказалась не по нраву Юргевичу: «…так как это место несравненно худшее Радошкович, то ксендз Юргевич справедливо считает себя больно обиженным и служит только молебствие за Царствующий Дом на русском языке, но не однажды заявлял мне, что если не дадут ему лучшего места, то он оставит совершенно употребление русского языка, ибо ему нет с чего жить» (т. е. русский язык, в отличие от польского, отбивает у прихожан охоту к добровольным приношениям ксендзу)[1982]. Перевести же его обратно в Радошковичи было трудно, потому что в тамошнем приходе уже хозяйничал новый настоятель, «ярый фанатик», вернувший в костел польскую службу (против чего прихожане вовсе не протестовали).
Это далеко не единственный случай, когда русскоязычная служба прекращалась в костеле немедленно с перемещением на другое место ксендза, выдавшего «подписку» в горячую пору ревизии Сенчиковского; обязать его преемника служить по-русски, если подписки от него в свое время не получили, у властей уже не было средств, да и решимости. В свою очередь, личное обязательство ксендза служить на русском обессмысливалось в новом приходе, где польская служба сохранялась до той поры в полном объеме и прихожане слышать не хотели о такой перемене в богослужении[1983]. Вводить же русскоязычную службу явочным порядком в каждом костеле по отдельности, как делал Сенчиковский в 1870 году, было чревато новыми осложнениями, тем более что и тогда это потребовало деятельного участия полиции и военных.
Нелегитимность замены польского языка русским ощущали и миряне, недовольство которых Сенчиковский упрямо продолжал толковать в терминах подстрекательства. В Вильне с 1863 года, а в Минске – с 1869-го не было епископов, а потому прихожане оказались фактически отлучены от таинства конфирмации (миропомазания); не совершалось и рукоположений священников, верующие не имели возможности видеть торжественные архиерейские богослужения. В этих условиях произвол со стороны молодого ксендза, произведенного в деканы по указке светских властей, только усиливал чувство обделенности, оскудения религиозной жизни. О силе таких настроений свидетельствует прошение о переводе в другой приход, поданное в середине 1876 года минскому губернатору настоятелем Слуцкого прихода Л. Кулаковским, выпускником католической духовной академии в Петербурге. Признания Кулаковского тем более ценны, что он занимал среднюю позицию между Сенчиковским и его противниками. Он выступал за введение русского языка (как служитель религии, которая «гордится тем, что проповедуется всем народам, на всех языках… не гнушается никаким наречием»), сожалел о необразованности большинства своих прихожан, но осуждал насильственные методы деполонизации. Отводя от себя упреки Сенчиковского, Кулаковский объяснял, что не может в дополнительном богослужении и требах полностью отказаться от польского языка: «Так я действую… ради самосохранения; хотя, впрочем, и это меня не спасало от повседневных обид и жестоких оскорблений, потому что народ и слова по-русски слышать при богослужении не хочет». Он перечислял свои злоключения:
Прихожане… глумились надо мной, оскорбляли на дому, в храме, на кладбище, составляли разные ябеды. Лишь не стану венчать до трех оглашений, лишь не соглашусь хоронить в первые сутки по смерти, лишь не выставлю по чьей[-нибудь] фантазии дарового катафалка иль не проведу пешком по захолустьям и непроходимой грязи мертвое тело, не окрещу не состоящего по спискам, – поднимают содом и забрасывают все инстанции сотнями жалоб… Лишь начну что в храме произносить по-русски, среди и без того немногочисленного собрания начинается ходьба, стукотня, плевания, перекривляние, насмешки, иные вовсе с шумом уходят. Прихожане познатнее и побогаче знать меня не хотят, крестят детей инде, вносят метрики инде.
Кулаковский подчеркивал, что его печальный опыт отнюдь не уникален: «Многие ксендзы, взявшиеся за русский язык, не устояли постоянному противуборству народа и порешили лучше оставить должности, чем воевать с грубыми, неподготовленными прихожанами, всегда готовыми поддаться подстрекательству фанатиков». Хотя и не избежав стереотипной ссылки на подстрекателей-«фанатиков», он косвенно признавал, что у прихожан есть моральное право на несогласие: «…обстоятельства, неподготовка и упрямство народа, не доверяющего местным ксендзам, а ожидающего высшей дух[овной] санкции, удерживает их (ксендзов. – М.Д.) на некоторое время от русского языка. Чему немало виноваты яростные и крутые начинания дек[ана] Сенчиковского»[1984].
В противоположность Кулаковскому и вполне в духе Kulturkampf Сенчиковский полагал, что с упрямством прихожан можно не считаться, если найдется крепкая узда на ксендзов. Таковую он и надеялся заполучить в предложенной им властям весной 1876 года должности визитатора костелов – по его выражению, «духовного контролера над духовенством». Замысел вытекал из общего иозефинистского представления Сенчиковского о высшей иерархии в католической церкви как некоем условном авторитете, удаленном от повседневных забот приходского клира и мирян и стушевывающемся перед влиянием сильной, реформистской монархии и ее чиновников. Визитатор должен был стать чем-то средним между агентом светской власти по введению русскоязычной службы и помощником управляющего епархией, уполномоченным совершать канонические ревизии. Проектировщик старался придать новой должности[1985] видимость соответствия каноническому праву и исторической традиции, но ссылался на единственный конкретный прецедент – собственную инспекцию костелов в 1870 году по поручению Жилинского (о которой многие в Минской губернии вспоминали с содроганием). Хотя назначение визитатора признавалось формальной прерогативой управляющего епархией (при условии согласия светской власти), Сенчиковский не скрывал, что на практике визитатор должен быть фактически независим от виленского епархиального начальства: «Визитатор был и есть своего рода хозяин в районе вверенного ему визитаторства. Он представлял к перемещению ксендзов, а в случае надобности перемещал и доносил епископу о своем распоряжении, представлял к наградам и назначал епитимью виновным; одним словом, это духовный контролер над духовенством…»[1986].
На бюрократов в Петербурге записки Сенчиковского подействовали ободряюще, внеся своего рода интригу в уже успевший надоесть сюжет. В первую очередь требовалось нейтрализовать епархиальное начальство в Вильне, чтобы расчистить визитаторам поле деятельности. В апреле 1876 года Сиверс с удовольствием, явственно различимым в тоне его донесений, спланировал сеанс устрашения Жилинского. Вместо того чтобы вызвать управляющего епархией в Петербург, директор ДДДИИ сам нагрянул в Вильну. По его словам, Жилинский «зело испугался моему внезапному прибытию и по меньшей мере полагал, что последний его час пробил». Сиверс без труда заручился согласием прелата на учреждение визитаторов в Минской губернии, что и зафиксировано в специальном протоколе. «Вы, конечно, не менее меня удивитесь… что Жилинский, приложив руку к моему протоколу, подписал, так сказать, собственный свой приговор…» – самодовольно извещал директор ДДДИИ Л.С. Макова. Жилинский обязался также не перемещать ксендзов, служащих на русском, без предварительного согласования вопроса с минским губернатором и ДДДИИ, всячески содействовать их карьерному продвижению, а при замещении вакансий в приходах, где служба совершалась на русском языке, требовать от вновь назначаемых настоятелей продолжать заведенный порядок[1987]. Протокол Сиверса содержал в себе взаимоисключающие пункты. Администрация рассчитывала использовать духовный авторитет управляющего епархией для ускорения распространения русского языка в костеле. Но введением визитаторства тот же протокол лишал Жилинского остатков духовной власти над духовенством, а с нею – и авторитета в восточной части его епархии.
Представленный Сенчиковским проект получил одобрение МВД; составленная на его основе инструкция визитаторам 9 июля 1876 года была утверждена по докладу министра Александром II. В Минской губернии учреждались два визитаторства: первое составляли Минский, Борисовский, Новогрудский, Игуменский уезды, второе (с центром в Слуцке) – Бобруйский, Мозырский, Слуцкий, Речицкий, Пинский[1988]. Первым визитатором назначался Сенчиковский, вторым – упоминавшийся выше И. Юргевич.
В обязанности визитатора входило проведение не реже чем два раза в год ревизий костелов и каплиц, с проверкой церковных сумм и имущества, состояния зданий; «строгий надзор за нравственностью и благонадежностью» духовенства; разрешение «споров и недоразумений» внутри клира. Главным же предметом его деятельности являлось распространение русскоязычного богослужения и проповеди. Визитатору давалось право ходатайствовать о поощрении ксендзов, совершающих службу на русском, и об «удалении или перемещении» тех, кто от этой меры уклонялся. Визитатор уполномочивался в ходе ревизий совершать дополнительное богослужение по-русски во всех костелах, включая те, где оно до этого не практиковалось, и «представл[ять] епархиальному и гражданскому начальству свое мнение» о прекращении в данном храме богослужения на польском. В тексте инструкции, утвержденном 9 июля, условием такого ходатайства визитатора ставилось проявление прихожанами «сочувствия» к службе и «увещательной проповеди» на русском. Хотя и в приглушенной форме, этот пункт запрещал принуждение прихожан к замене польского языка русским. По всей видимости, в МВД решили, что в документе, подносимом на высочайшее утверждение, нельзя обойти молчанием принцип добровольности, на котором основывался указ 25 декабря 1869 года. Мифологема русскоязычного богослужения как льготы и дара тесно связывалась с именем Царя-Освободителя. Но Сенчиковскому удалось скорректировать этот пункт, возобновив ни много ни мало процедуру высочайшего утверждения! В сентябре 1876 года он, уже в качестве визитатора, обратился напрямую в ДДДИИ с запиской, где разъяснял, что упоминание о «сочувствии» «даст повод недобросовестным лицам влиять на прихожан, чтобы они не выражали сочувствия к богослужению на русском языке». Он предлагал допустить, чтобы визитаторы ходатайствовали о введении русского языка по факту богослужения в данном храме, независимо от реакции прихожан. Министр представил императору новый доклад по этому делу, и 19 ноября 1876 года Александр II, чьи помыслы были заняты тогда подготовкой к войне с Турцией за освобождение Болгарии, вторично утвердил инструкцию в рекомендованной Сенчиковским редакции[1989].
На практике визитаторы получили – хотя и не на долгое время – большую свободу действий, чем определялось инструкцией 1876 года. В марте 1877-го минский губернатор Чарыков, благоволивший Сенчиковскому, доложил министру внутренних дел о том, что нечеткое разграничение юрисдикции визитаторов и епархиального начальства на каждом шагу «порождает весьма значительные недоразумения». Министр внутренних дел своей властью установил «правило», чтобы «все исходящие от Виленского епархиального начальника распоряжения по Минской губернии были делаемы им не иначе, как чрез визитаторов, по ведомству каждого». Как признавал позднее, в 1878 году, сменивший Сиверса на посту директора ДДДИИ А.Н. Мосолов, учреждение визитаторов «ввело в управление римско-католической церкви такой порядок, которого в ней не существует»[1990]. Де-факто в сферу компетенции визитаторов были включены не только дела, связанные с введением русского языка, но и другие вопросы повседневной церковной жизни. Точнее говоря, управление католическим духовенством на территории Минской губернии оказалось почти полностью подчинено задаче внедрения русскоязычного богослужения. Профессиональные качества ксендзов если и принимались во внимание, то оценивались по единственному критерию – готовности служить на русском.
Вскоре после назначения визитатором, в январе 1877 года, Сенчиковский предпринял попытку добиться санкции Святого престола на замену польского русским языком. Он составил проект прошения Пию IX от имени священников, окормляющих белорусскую паству. Как и в своем циркуляре минскому духовенству от декабря 1876-го, Сенчиковский оправдывал деятельность по введению русскоязычного дополнительного богослужения и проповеди ссылками на постановления Тридентского собора и практику использования «народного языка» (lingua vulgari) в католической катехизации, миссионерстве и т. д. Более того, переход с польского на русский изображался как целая эпоха в истории католицизма в Белоруссии, как шаг, предотвративший отпадение многочисленной паствы от католической церкви: «…масса наших прихожан католиков белорусского происхождения, не понимая языка польского… начала относиться к религии с пренебрежением и даже ненавистью и… оставлять самые необходимые религиозные обряды». (Эти строки можно прочитать как намек на насильственный перевод католиков в православие в 1865–1867 годах, что должно было создать впечатление духовной независимости Сенчиковского от имперских властей.) Но благодаря русскому языку «народ начал понимать догматы и обряды и полюбил таковые». Уличая противников русскоязычной службы в утрате «истинной веры», Сенчиковский молил папу о защите от злобных клеветников и просил прислать «Апостольское благословение, столь необходимое для нас, трудящихся… в деле об употреблении языка народного, для темных наших прихожан белоруссов».
Излишне говорить, что для Сенчиковского, с его антиультрамонтанством, обращение к папе было делом не столько совести, сколько прагматического расчета. Он представил проект при личной встрече в Минске своему главному покровителю Л.С. Макову. В сопроводительном письме он заверял Макова в том, что такое прошение, за подписью многих приходских ксендзов, может переломить настроения в высшей католической иерархии – оно «донельзя озадачит кардинала Ледуховского, первого противника введения русского языка. Вся его партия рассыпется». Важность папского благословения выводилась не из канонической дисциплины, а из желания потрафить наивной религиозности простонародья: «Для народа необходимо благословение Папы…». Проект ставил Сенчиковского в двусмысленное положение. С одной стороны, он с присущей ему сервильностью просил Макова в случае, если текст «не соответствует взглядам Правительства», «прислать нам такое [письмо], какое желательно Правительству». С другой стороны, ручаясь за успех сбора подписей среди священников, он, вольно или невольно, актуализировал тему духовной лояльности местного клира Святому престолу: «…все ксендзы охотно подпишут это письмо, исполненное нежных чувств любви и преданности к религии и к Его Святейшеству».
Маков с ходу отверг идею визитатора. Как гласит его позднейшая помета на письме, он «объяснил кс. Сенчиковскому всю неуместность и непрактичность его предположения [и] внушил ему необходимость совершенно оставить мысль о прямом обращении духовенства в Рим»[1991]. Итак, расположение МВД к Сенчиковскому простиралось не настолько далеко, чтобы позволить ему эксперимент, нарушавший установленный порядок коммуникации католического духовенства со Святым престолом – через Духовную коллегию в Петербурге и МВД.
Маловероятно, чтобы спроектированное Сенчиковским обращение к папе, разреши власти его отсылку, достигло цели. Во всяком случае, визитатор верно оценивал момент как критический. За семь лет, прошедших после указа 25 декабря 1869 года, в Ватикане сложилось устойчивое негативное представление о мерах по русификации костела[1992], не говоря о самом Сенчиковском, с его одиозной репутацией. В 1876 году это представление еще более укрепилось. Глава российской миссии при Римской курии кн. Урусов известил Ватикан о том, что намерение правительства ввести русский язык в костельную службу ограничивается лишь местностями, где большинство католического населения принадлежит к «русской народности» (имелся в виду план обязательной деполонизации, разрабатывавшийся тогда в МВД, но вскоре заглохший). Вопреки расчету на положительный эффект в Ватикане этот дипломатический ход только обострил опасение, что русификация службы является предлогом к последующему обращению католиков в православие[1993]. В июле 1877-го, спустя всего полгода после неудачной попытки Сенчиковского, была заявлена официальная позиция Римской курии. Она имела форму ответов Конгрегации инквизиции на вопросы о принципиальной возможности замены польского русским без согласия папы и о том, разрешает ли в настоящий момент Святой престол введение русского языка. Оба ответа были отрицательными[1994]. Духовенство в России получило информацию о постановлении по тайным каналам; просочились, несмотря на цензурный заслон, сведения и в печать[1995]. Как писал впоследствии цитированный выше А.П. Извольский, «коротенького, но в высшей степени обязательного для католической совести» постановления Конгрегации инквизиции оказалось достаточно, чтобы «сразу поставить наших римско-католических епископов и наше римско-католическое духовенство в каноническую невозможность продолжать начатое дело»[1996]. Верное по сути, это суждение все-таки требует известной корректировки: канонический запрет затормозил ход русификации не сам по себе, а в совокупности с другими факторами, такими как сопротивление, пусть даже пассивное, прихожан и разногласия внутри имперской администрации.
Деморализация ксендзов-русификаторов
Карьерный взлет Сенчиковского в 1876 году стал началом его падения. Предоставленный ему властями карт-бланш он использовал попросту бездарно и ускорил и без того назревавший поворот руководства МВД в «католической» политике. Деятельность Сенчиковского и его соратника Юргевича в 1877–1879 годах дает богатый материал для размышлений о последствиях облечения индивида властью, несоразмерной его способностям. Гарантию правительственной поддержки визитаторы растрачивали на сведение личных счетов с недругами, удовлетворение мелочного самолюбия, потакание собственным фобиям и проч. Так как в мою задачу не входит написание биографии Сенчиковского, деморализация «русских» ксендзов анализируется ниже как один из факторов (и отчасти результат) сложного взаимодействия католического клира, различных групп прихожан, местной и центральной бюрократии. Напряженная общественно-политическая обстановка в империи в конце 1870-х годов и новые тенденции в отношениях между Петербургом и Ватиканом отразились на ходе кампании по русификации костела в Минской губернии.
Что касается лично Сенчиковского, то уже реакция МВД на проект письма в Рим в начале 1877 года должна была напомнить ему об уязвимости той поведенческой стратегии, посредством которой он доказывал совместимость в одном лице лояльного подданного-патриота и верного католика. Стоило лишь слегка переиграть в роли защитника католической веры (одновременно защищающего правительство от обвинений в православном миссионерстве), чтобы спровоцировать сомнения насчет своей политической благонадежности. Такие подозрения появились у руководства Виленского учебного округа. Как отмечено выше, Сенчиковский еще в 1870 году настроил против себя генерал-губернатора Потапова. Тогда ему повезло: вывод Минской губернии из состава Виленского генерал-губернаторства избавил его от потаповского надзора. Однако губерния осталась в составе ВУО, а по должности католического законоучителя в Минской гимназии Сенчиковский имел дело с учебным ведомством. Как и Потапов, попечитель ВУО Н.А. Сергиевский питал антипатию к минскому ксендзу, но до 1876 года не проявлял ее открыто. Вскоре после назначения Сенчиковского визитатором Сергиевский получил несколько жалоб на него как законоучителя гимназии. Они указывали на его педагогическую несостоятельность, вольтерьянские шутки при объяснении материала (к примеру, именование Иисуса Христа «Иисусом Осиповичем»), частые пропуски занятий вследствие разъездов. Хотя не все претензии подтвердились при расследовании, Сергиевский без проволочек сместил Сенчиковского с должности законоучителя[1997]. Немилость из Вильны, таким образом, последовала за милостью из Петербурга. МВД намеревалось ускорить русификацию костела, виленский генерал-губернатор П.П. Альбединский противился этому, и не исключено, что удаление Сенчиковского из Минской гимназии было прямо связано с этим бюрократическим соперничеством.
Визитатор не пожелал остаться в долгу. В январе 1877 года он сделал выговор сменившему его в должности законоучителя Минской гимназии ксендзу Гавронскому за то, что в день праздника Непорочного Зачатия Девы Марии ученики-католики не были освобождены от уроков. Обвиненный подателями недавних жалоб в кощунственных шутках и почти атеизме, Сенчиковский позиционировал себя как строгий блюститель католического вероучения. В тоне праведного негодования он напоминал Гавронскому, что догмат о Непорочном Зачатии установлен не кем иным, как нынешним папой. Не отпустив учеников домой, Гавронский обнаружил мысль, что «устав костельный» противоречит «гражданским законам», а следовательно, дал ученикам повод усомниться в веротерпимости правительства. Визитатор грозил законоучителю епитимьей, «так как подобное хладнокровие в религии… дурно влияет на учащуюся молодежь, еще не угрунтованную в религии». У Сергиевского, вскоре получившего об этом рапорт от минских подчиненных, поступок Сенчиковского вызвал возмущение, прорвавшееся в маргиналиях на копии выговора. Ни один из нормативных документов Министерства народного просвещения не освобождал учеников от занятий в дни праздника Непорочного Зачатия, да и других главных католических празднеств. Ссылку визитатора на авторитет папы попечитель ВУО откомментировал так: «Судя по этому заявлению, нельзя сказать, чтобы ксендз Сенчиковский сжег свои корабли». «Этот пресловутый негодяй возбуждает еще какой-то религиозный вопрос, до сей поры не существовавший», – резюмировал попечитель свое мнение о случившемся[1998].
Гнев виленских чиновников не имел прямых последствий для Сенчиковского, который уже ни по какой линии не состоял в подчинении виленской администрации. Однако после этого инцидента в генерал-губернаторской канцелярии начался сбор «компромата», прежде всего поступавших еще с 1872 года доносов с обвинениями его в гомосексуальных связях с воспитанниками учрежденной им в Минске школы органистов[1999]. Композиция этого досье, воспроизводя отталкивающий стереотип католического священника, подразумевала взаимосвязь между «иезуитским» двуличием и педерастией. Конечно, мнение, складывавшееся о Сенчиковском в Вильне, быстро распространялось через неформальную сеть бюрократических контактов в западных губерниях. Так, он лишился покровительства минских властей при временно управлявшем в 1878 году губернией (в качестве вице-губернатора) И.П. Альбединском – сыне виленского генерал-губернатора. Враждебность Альбединского-младшего обескуражила визитатора по контрасту с заступничеством губернатора В.И. Чарыкова[2000].
В целом визитаторы не добились успеха в продвижении русскоязычного богослужения. Визитаторское звание не прибавляло морального влияния. Ни Сенчиковский, ни Юргевич даже не пытались склонять прихожан к переходу на русский посредством собеседований и проповеди: ссылка на вездесущих польских «подстрекателей» заранее оправдывала запрет польского языка после первой же навязанной пастве службы на русском. Но для применения прежних методов требовалось содействие гражданской власти, а МВД остерегалось повторения эксцессов, имевших место при ревизии Сенчиковского в 1870 году. После объявления войны с Турцией в апреле 1877-го власти особенно опасались, что поляки воспользуются этим случаем для новых выступлений в Западном крае, и старались вообще поменьше контактировать с населением, дабы, чего доброго, не дать повода к будоражащим толкам. Потому, разумеется, для объезда костелов визитаторам не выделялся полицейский или жандармский эскорт, а без него было трудно совершить хотя бы единственное богослужение на русском языке там, где настоятель или прихожане этого не желали. Юргевич, человек не просто горячий, но психически неуравновешенный, попытался было явочным порядком запретить польскоязычное богослужение в нескольких костелах. В результате, когда спустя два года, после скандального удаления с должности визитатора, ему предложили отправиться настоятелем в один из знакомых ему приходов, он открещивался как мог: «…настоятельства принять не могу, а именно потому, что я в этих костелах ввел русский язык… Народ ужасно на меня озлоблен, как звери, за сочувствие мое русскому делу…»[2001].
Усилия визитаторов сосредоточились на запутанных и нечистоплотных кадровых комбинациях. Их преимущественной целью было не столько расширение круга костелов с русскоязычной службой, сколько продвижение еще готовых служить по-русски ксендзов на более выгодные и престижные приходы. К 1877 году немало священников на своем личном опыте убедилось в том, что отказ от польского языка сильно бьет по карману: богатые прихожане обычно отказывали таким храмам в пожертвованиях. Казенное пособие сверх жалованья, которое выплачивалось с 1872 года ксендзам-русификаторам (от 150 до 300 рублей в год), не компенсировало потерь, доходивших, как уверял Сенчиковский в 1876-м, до «тысяч рублей» для каждого священника[2002]. В мае 1877 года стараниями Макова (и с подачи Сенчиковского) было выхлопотано высочайшее повеление о таком увеличении содержания настоятелям «русских» костелов, чтобы штатное жалованье и пособие составляли в сумме не менее 600 рублей в год, но деньги на это отпускались лишь с 1878 года[2003]. А учитывая, что идейной мотивации к русификаторской деятельности у большинства ксендзов не было, да еще в условиях, когда Святой престол официально осудил нововведение, визитаторы могли удержать вокруг себя постоянную команду только скорейшим предоставлением сколько-нибудь осязаемых выгод.
Так, в конце 1876 года Сенчиковский без ведома виленского церковного начальства сместил с должности настоятеля многолюдного и богатого Логойского прихода (Борисовский уезд) ксендза Лазаревича, который еще в 1874-м восстановил там богослужение на польском языке. Лазаревич был «временно» командирован в менее прибыльный приход. Ради «спасения» русского языка Сенчиковский так же самоуправно назначил в Логойский приход ксендза Юргевича, родного брата слуцкого визитатора. Сенчиковский гордо доносил губернатору об успехах Юргевича: «…употребление русского языка… в Логойске есть фактом неопровержимым…».
«Факт», однако, вскоре оказался еще как опровергнут ходом событий. В апреле 1877 года на пасхальном богослужении логойские прихожане хором запели польский гимн. Растерявшийся Юргевич прервал службу и под громкую «брань» вышел в ризницу, после чего прихожане покинули костел. Еще через месяц конфликт между новым настоятелем и паствой был подхлестнут инцидентом с местным землевладельцем графом О. Тышкевичем. Во время службы на Вознесение Господне Юргевич запретил Тышкевичу спуститься в фамильный склеп, где тот желал помолиться у могилы недавно умершей дочери. В рапорте декану настоятель объяснял свой поступок тем, что сиятельный прихожанин, во-первых, направился в склеп при молитве за императора, а во-вторых, успев приоткрыть дверь склепа, «напустил вредного воздуха… Народу было в костеле около двух тысяч… внутри костела было до градусов 30 теплоты, поэтому легко могла бы разойтись эпидемическая болезнь…». Когда же речь зашла о подтверждении обвинения Тышкевича в «противоправительственном направлении», Юргевич вынужден был признать, что прихожане скорее всего откажутся выступить свидетелями, «так как они по большей части зависят от графа Тышкевича, ибо он им дает сенокосы, пастбища, лес и т. п., притом разъяренные графом Тышкевичем на меня за русский язык, могут даже присягнуть в пользу графа Тышкевича»[2004]. Сомнительно, чтобы, дергая за нити экономической зависимости, прихожан можно было разъярить против русскоязычной службы, да еще так, что в скором времени Юргевича пришлось с прихода сместить.
К концу 1878 года русскоязычное богослужение не было закреплено ни в одном новом костеле. Как и в 1876-м, этот список насчитывал двадцать один костел. Мало того, в четырех из них из-за устроенной Сенчиковским и Юргевичем кадровой чехарды не имелось настоятелей, т. е. ни служба, ни требы не совершались вовсе. (Из тридцати «польских» приходов вакантными на тот момент были шесть.)[2005] Русификация костела оказалась заключена в некий порочный круг: конфликты с прихожанами ускоряли перемещение ксендзов-русификаторов на другие места, а частота смены настоятелей сама по себе становилась причиной новых конфликтов.
Впоследствии Сенчиковский объяснял фиаско деполонизации костела кадровыми переменами в МВД (в особенности возвышением в 1880 году М.Т. Лорис-Меликова), что якобы в одночасье лишило ксендзов-русификаторов правительственной протекции. На самом деле охлаждение МВД к минскому эксперименту произошло несколько раньше, в последний год министерствования А.Е. Тимашева и затем при Л.С. Макове (главе МВД с ноября 1878-го до августа 1880 года). Произвол и бесчинства визитаторов явились для петербургских чиновников познавательным спектаклем, стимулировавшим бюрократическую дискуссию не только о русском языке в католицизме, но и о более общих предметах: соотношении веротерпимости и государственного надзора за конфессией, границах иозефинистского вмешательства власти в отправление религиозного культа, взаимосвязи национальной и конфессиональной идентичности, секулярных и религиозных факторов ассимиляции.
Один частный, но колоритный эпизод, относящийся к 1876–1877 годам, позволяет проследить траекторию разочарования бюрократов в ксендзах-русификаторах. Точнее, если прибегнуть для характеристики альянса чиновников МВД и священников-«сенчиковцев» к метафоре, этот эпизод в «ускоренной съемке» передает динамику движения от завязки к крушению романа. Весной 1876 года управляющий Виленской епархией Жилинский получил прошение от находящегося на покаянии в одном из монастырей Царства Польского сорокалетнего ксендза Игнатия Барща. Тот просил о переводе в Виленскую епархию, обязуясь совершать дополнительное богослужение на русском языке. Жилинский предложил Барща в викарные кафедрального костела в Минске, но минский губернатор, проконсультировавшись с Сенчиковским, отверг кандидатуру: Барщ был не только коренным поляком, но и человеком с сомнительной биографией. В молодости его отчислили из Варшавской духовной семинарии по недостатку способностей; затем, в конце 1860-х, он нелегально выехал за границу, скитался по Галиции, посещал богословские курсы в Риме, так и не сумев их окончить. В 1870 году он перебрался в Соединенные Штаты, где ему, после недолгой службы секретарем епископа католической епархии Сент-Поль и Миннеаполис (Saint Paul and Minneapolis), посчастливилось получить от патрона посвящение в сан. В середине 1870-х Барщ возвратился в Царство Польское и вскоре, хотя и находясь под полицейским надзором, был назначен викарием в один из костелов Плоцкой епархии. Не успев прослужить года, он настроил против себя все местное духовенство. Скудость богословского образования, незнание латыни, дерзкое поведение, неповиновение духовному начальству – таковы основные прегрешения, за которые «американца» и заключили в монастырь на покаяние[2006].
Неудача с первым прошением не обескуражила Барща. В августе 1876 года он обратился с аналогичным письмом к варшавскому генерал-губернатору П.Е. Коцебу. На сей раз ему повезло больше: в монастырь для выяснения обстоятельств дела и беседы с Барщем был командирован чиновник по особым поручениям при генерал-губернаторе Михалевич. Рапорт Михалевича сыграл решающую роль в дальнейшей судьбе просителя, осуществив культурную перекодировку фигуры Барща. Те самые качества, которые в других обстоятельствах только ухудшили бы мнение следователя о политически неблагонадежном репатрианте и плохом пастыре[2007], представали совсем в ином свете, будучи помещены в контекст противоборства с католическим «фанатизмом»:
[Барщ], довольно резко выделяясь из среды католического духовенства нажитою им за границею светскостью… на первых же порах возбудил зависть в местном фанатизированном духовенстве, которое умело обвинить его в незнании духовных обязанностей, внешней форме которых он не придает особого значения и вообще смотрит на это с точки зрения человека прогрессивного[2008].
Особенно интересна последняя характеристика, которую можно понять как похвалу религиозной индифферентности. Таков был косвенный результат предельной стереотипизации католического духовенства в сознании властей: чиновники твердо верили, что большинство ксендзов – фанатики. Но предполагалось, что ксендз, добровольно вызывавшийся служить по-русски, фанатиком не был. Ему прощались некоторые странности и причуды – постольку, поскольку они казались ингредиентами «нефанатичности», столь желанной в католическом священнике.
На основании рапорта Михалевича Коцебу рекомендовал Барща к назначению викарным где-либо в западных губерниях, при условии надзора со стороны старших священников и обязательства совершать дополнительное богослужение по-русски (вообще перевод католических священников из Царства Польского в империю и наоборот практиковался в исключительных случаях). В МВД, конечно, понимали, что главным мотивом русификаторского рвения «американского» ксендза могло быть элементарное стремление выслужиться, погоня за фортуной. Однако нехватка кадров, нужных для расширения минской кампании, ощущалась столь остро, а добровольцы были и в самом деле такими редкими птицами, что вчерашнего монастырского сидельца в феврале 1877 года принял в Петербурге сам товарищ министра Л.С. Маков. Как ясно из письма Макова Сиверсу, Барщ и здесь мигом прошел тест на фанатизм: «Физиономия внушает доверие, образ мыслей верный и не фанатический, злобы и желчи против преследовавшего его епархиального начальства незаметно; напротив, в этом отношении видна сдержанность и кротость; знание русского языка весьма слабое». Последнее обстоятельство, кажется, менее всего смущало бюрократов, курировавших русификацию костела. В докладе министру Сиверс предлагал назначить Барща викарным в Игуменский костел, замечая, что кандидат «дает повод надеяться, что скоро выучится» русскому языку[2009]. Назначение (официально от имени управляющего епархией Жилинского) состоялось уже в марте того же года.
В Игумене Барщ сдержал обещание не употреблять польский язык в службе и при требах. Можно догадываться, что русские тексты молитв он произносил с ошибками и сильным акцентом, но едва ли чистый и беглый выговор предотвратил бы грядущий конфликт с паствой. При личной встрече Барщ снискал симпатию Сенчиковского, который очень скоро выхлопотал ему производство в настоятели в том же приходе. Сенчиковский заступился за него и при первой крупной неприятности с паствой: в мае 1877 года Барщ отказался совершать погребение почтенного прихожанина на том основании, что тот не исповедался на Пасху. Многих прихожан это возмутило. Визитатор же подтвердил соответствие поступка Барща букве канонического права, предупредив его, впрочем, чтобы в будущем он по этой части был уступчивее, «так как мера эта в западном крае неприменима». Поладил Барщ и со своим непосредственным начальником, игуменским деканом М. Олехновичем. От того не укрылось, что Барщ находится в раздоре со многими из своей паствы, но такого рода напряженность была более чем обычной в «русских» приходах. Олехнович не шел дальше иронических замечаний о «рассеянности» Барща, сбивчивости его речи (при том что между собой они говорили по-польски), о привычке посреди разговора вскакивать и пускаться в бег по комнате: «…ксендзу Барщу вредит излишнее питье баварского пива или, быть может, трудно ему отвыкнуть от индейских манер»[2010].
Карьера «прогрессивного человека» оборвалась в сентябре 1877 года, когда прихожане обвинили его в содомии. Четверо юношей, в возрасте от 15 до 22 лет, показали, не скупясь на детали, что каждого из них по отдельности Барщ под разными предлогами зазывал к себе домой (младшего – «на крыжовник») и там после недолгого «ухаживанья» пытался изнасиловать[2011]. Ксендза арестовали, началось следствие.
Совершал или не совершал Барщ инкриминированные ему деяния (или, точнее, покушения на них), не так уж важно для настоящего исследования. Историку в подобных случаях вообще трудно судить о виновности или невиновности в юридических терминах. Для католиков в Российской империи, не избалованных возможностями легального протеста против государственного вмешательства в религиозную жизнь, опорочивание неугодного ксендза служило одним из немногих доступных способов самозащиты, следовательно, вероятность фабрикации доносов надо признать высокой[2012]. Но интереснее попытаться выявить культурный контекст данного казуса, смысл, вкладываемый в обвинение, как и то влияние, которое обвинение и ответные оправдания оказывали на восприятие бюрократами злополучного священника и персонифицируемой им группы в католическом духовенстве[2013].
Сначала высшие чины МВД поставили на Барще крест. Не то чтобы они начисто исключали вероятность его невиновности. Скорее, они полагали, что, даже оправданный, Барщ станет живым напоминанием о скандале и поводом к дискредитирующим слухам. Маков просил минского губернатора договориться с губернским прокурором о том, чтобы «прекратить… дальнейшее направление этого дела в уголовном порядке» – как ввиду «услуг, оказанных ксендзом Барщем мере введения русского языка в римско-католическое богослужение», так и потому, что «оглашение означенных позорных действий ксендза, сочувствующего видам Правительства, не могло бы не отразиться невыгодно на самой мере введения русского языка и на других духовных лицах, действующих в том направлении». Прокурора следовало заверить, что заключение в монастырь станет для Барща достойным наказанием. Так как в западных губерниях новые судебные учреждения (кроме мировых судей) и порядок следствия и судопроизводства не были введены, такая патриархальная договоренность оставалась еще в норме вещей.
Иной взгляд на случившееся отстаивал Сенчиковский. Барщ ему написал, что мнимые пострадавшие выше ростом и «на вид» явно сильнее его, применить к ним насилие он не смог бы физически[2014]. Визитатор предпринял энергичную попытку реабилитации подчиненного, обратившись напрямую к Макову. Аргументом более убедительным, чем сравнение роста и физической силы, он находил ссылку на происшедшую незадолго перед тем ссору между Барщем и его органистом К. Швейковским. Вообще, органисты в трактовке Сенчиковского служили одним из главных инструментов «польской интриги», орудием противодействия русскоязычной службе. Учитывая, что переход с польского на русский, с заучиванием наизусть новых текстов, являлся для органистов трудностью профессионального свойства, их неприятие реформы было естественным, но у Сенчиковского оно становилось звеном в его конспирологии, рисующей картину сплоченного польского натиска на «русское дело»[2015]. Это, кстати сказать, помогало ему обеспечивать казенные субсидии учрежденной им в Минске, под личным надзором, школе органистов, призванной воспитать новое, преданное «русскому делу» поколение помощников духовенства.
Ссора Барща со Швейковским получила политическое значение: органист будто бы не раз позволял себе исполнять польские песнопения и даже светские патриотические гимны, вынуждая ксендза налагать взыскания. Удивительно ли после этого, развивал свою мысль Сенчиковский, что среди парней, обвинивших Барща в мужеложстве, оказывается сын Швейковского? Оседлав любимого конька, Сенчиковский живо воссоздает механику фабрикации обвинения: «Я и ксендз Олехнович убеждены, что ксендз Барщ есть жертва интриги… Да кто же обвинитель – 1-й сын органиста, 2-й сын жандарма (жандармского обер-офицера. – М.Д.) и 3-й какой-то мещанин. Исправник и следователь женаты на католичках, производили первое дознание и второе следствие…». Затем следует пассаж, словно бы произносимый конфиденциальным шепотом: «…а главно[е], пусть себе и, по-ихнему, виновен ксендз Барщ, то все-таки это не может уменьшить неприятности, для нас случившейся». После этого откровения Сенчиковский возвращается к тезису об интриге: «Подозревая сильную интригу и видя несчастное положение ксендза Барща, я не могу молчать…»[2016]. Итак, Сенчиковский не исключает склонности Барща к педерастии (как кажется, не являющейся в его глазах тяжким грехом: Маков пишет о «позорных действиях», Сенчиковский – о «неприятности»[2017]), но предлагает обратить происшествие в пользу властей, уличив «польскую интригу» в измышлении грязного навета.
Маков проявил интерес к подсказанной его протеже версии. В ноябре 1877 года он лично приказал минскому губернатору уволить Швейковского и не допускать впредь его назначения на должность органиста где бы то ни было в губернии. Барща же выпустили из тюрьмы на поруки. Хотя следствие по каким-то причинам не было замято, у МВД оставался шанс повлиять на решение суда. Этот план удался, но еще до этого история получила новый оборот. Кандидатура Швейковского не подошла на роль «польского интригана». Начальник Минского жандармского управления в январе 1878 года известил МВД, что уволенный органист не только всегда добросовестно исполнял свои обязанности, но и является одним из ценных агентов тайной полиции – специализируется на слежке за католическими священниками. Случайно застав Барща за попыткой гомосексуального сношения, Швейковский подвергся с его стороны гонению. Жандармский начальник ходатайствовал о разрешении Швейковскому продолжать службу органистом[2018].
Эта новая версия также имела свою мифотворческую убедительность. Добровольное участие Барща в русификации костела представало иезуитской уловкой, а на первый план выступала трафаретная фигура ксендза, подлежащего неусыпному надзору. «Прогрессивный человек» вновь оборачивался темным авантюристом. Столкновение двух дискурсивных конструкций могло бы разрешить тщательное повторное расследование, но к тому моменту губернатор, действуя по указке МВД, уже направлял местную уголовную палату к оправдательному приговору, который и был вынесен, а через несколько дней в МВД узнали о заслугах Швейковского[2019].
Барщ, однако, сам помог бюрократам выйти из затруднения. Еще в конце 1877 года, после освобождения на поруки, он предпринял (или инсценировал) попытку самоубийства. Вынутый подоспевшим слугой из петли, он божился, что кто-то хотел его задушить[2020]. Врач после некоторых колебаний признал его вменяемым, в каковом качестве он и был затем, пусть формально, предан суду. Однако Барщ тогда же заставил своих покровителей усомниться в этом диагнозе, начав забрасывать Макова многословными путаными посланиями (последнее из этих писем было получено в МВД в феврале 1878 года). Барщ уверял, что берется в самом скором времени, при массовой поддержке и даже по просьбе католического духовенства Царства Польского (годом раньше заточившего его в монастырь), ввести в костелах русскоязычное богослужение. Не заботясь о логике, он ставил знак равенства между народной религиозностью и политической лояльностью, а из последней выводил готовность жителей Царства Польского слушать в костелах службу даже на непонятном русском языке:
Много католических ксендзов… в Царстве Польском просило меня заявить их желание Вашему Высокопревосходительству, что и они желают в римско-католических костелах употреблять русский язык при дополнительном Богослужении… Народ мог свыкнуться к латинскому языку в костелах, мог свыкнуться к явлениям, чудесам, мог свыкнуться к фанатизму, может свыкнуться и к русскому языку, который дает понятие возобновления новой приверженности к нашему монарху. …Где же можно в других государствах приискать настолько чувственно религиозных народных скопищ к чудотворным местам, крестам, иконам Спасителя Иисуса Христа, Матери Божией и других Святых…[2021]
Психологическую подоплеку столь нелепой идеи (даже в самых смелых проектах властей не заходило речи о русификации костела к западу от Немана) отчасти объясняет приложенный к одному из писем проект под названием «Обязанности визитатора». Судя по нему, Барщ действительно оказался человеком с неустойчивой психикой, и обстановка русификаторской кампании, как и знакомство с кичащимся своими победами Сенчиковским, разожгла его воображение. Снедаемый завистью к Сенчиковскому[2022], он жаждал хотя бы на бумаге превзойти его во влиятельности и блеске самовластия. Опус Барща стал невольной пародией на инструкцию визитаторам, утвержденную за год до того. Он доводил до крайности ряд ее пунктов, обнажая связь института визитатора с феноменом деструктивного властолюбия и инфантильной одержимостью атрибутикой власти. Барщ прочил себя в «главные визитаторы» Царства Польского. В ранге этот воображаемый клирик, кажется, не уступал епископу: «Во время приезда к какому-либо костелу должен быть встречен духовенством с крестом, свечами и проч.» При перечислении должностных полномочий особое ударение ставилось на «взятие от духовенства подписок» о служении на русском языке – символический акт властного самоутверждения. «Подписку», этот материальный знак осуществленного принуждения, «главный визитатор» лично представлял в МВД. «Подписки», как уже отмечалось выше, составляли идею фикс самого Сенчиковского. У Барща «главный визитатор» получал право «удалять от мест» всех ксендзов, которые откажутся дать подписку, – прерогатива, которую Сенчиковский всерьез надеялся получить. Надзорные функции «главного визитатора» сформулированы с угрожающей невнятностью: «[Обязан] следить за всяким скопищем людей в костелы во время особенных храмовых праздников, чтобы ксендзы и духовные не допускались фанатизмом»[2023].
В резолюции на одном из писем Барща Маков выразил сомнение в душевном здравии автора[2024]. Несмотря на трагикомический финал, эта история предвосхитила, а возможно, в чем-то и предопределила сценарий и даже обстоятельства упразднения визитаторства в Минской губернии.
Провал визитаторов как отрицательный урок конфессиональной инженерии: Взгляд из Вильны и Петербурга
К моменту, когда в МВД созрела почва для пересмотра подхода к русификации костела, в высшем бюрократическом кругу уже имелся прецедент осмысления этого мероприятия как ущемления религиозных чувств населения. Речь идет о секретной записке виленского генерал-губернатора П.П. Альбединского, представленной в декабре 1876 года министру внутренних дел А.Е. Тимашеву. Обращение к Тимашеву в подчеркнуто откровенном тоне имело особый смысл. Тимашев, не склонный вникать в рутину ведомственного управления[2025], довольно легко передоверял Макову и Сиверсу руководство минской кампанией, ставя свою подпись под подготовленными ими распоряжениями. Однако с Альбединским, который эту кампанию в соседней с его генерал-губернаторством местности не одобрял, Тимашева связывала, помимо служебных отношений, принадлежность к неформальной придворно-аристократической среде, до 1874 года олицетворяемой фигурой главы III Отделения графа П.А. Шувалова[2026].
В основу записки Альбединского положено типичное для «шуваловцев» неприятие русификаторского интервенционизма (вспомним конфликт Шувалова с К.П. Кауфманом в 1866 году). Практика введения русскоязычной службы в костел трактовалась не как льгота католикам, вытекающая из указа 25 декабря 1869 года, но фактически как репрессивная акция:
…все меры, вызванные минувшим мятежом, для ограничения латинства в здешнем крае, утратили свою жгучесть, несмотря на то, что некоторые из них затрогивали не одно только религиозное настроение народа, но касались индивидуально самых чувствительных сторон населения (sic! – М.Д.), как, например, воспрещение хоронить с некоторою торжественностию умерших, недозволение приносить к умирающему Св. дары обычным существовавшим до мятежа порядком и т. п. С этим, сколько мне кажется, население примирилось. Один только вопрос о введении русского языка в богослужение встречает ожесточенное противодействие и не подвинулся ни на шаг вперед. …У нас привыкли обвинять одних ксендзов, говоря, что они противодействуют всеми силами этой мере и внушают недоверие к ней в своих прихожанах. Едва ли это справедливо…[2027]
Альбединский далее ссылался на случаи наиболее упорного сопротивления прихожан русскоязычной службе в Виленской губернии в начале 1870-х годов (в частности, в Мосарском приходе, где священник Ширин не избежал побоев) и ставил вопрос: «Отчего же… народные массы относятся с таким недоверием к этому предмету?» Он, как видим, близко подошел к утверждению, что приверженность католического населения традиционному церковному языку сознательна и правомерна. Тем не менее предложенный ответ все-таки не до конца порывал с привычным для бюрократов образом иррационального и суеверного простонародья, для которого сменить язык службы значит сменить веру: «Не говоря о давно минувшем обращении униатов в православие, достаточно вспомнить, что не далее как десять лет тому назад обращение католиков в православие составляло выходящий из всех пределов предмет деятельности низших исполнителей предначертаний Правительства». Память о тогдашнем разгуле «обратителей» еще свежа и служит питательной средой для развития «фанатически-религиозного настроения народных масс»[2028]. Итак, темнота народа пока еще не позволяла ему отличить благодеяние правительства в сфере религии от вопиющих злоупотреблений низших администраторов. Ожесточенная защита польского языка в костеле представала скорее следствием травмы, причиненной религиозному сознанию, нежели нормальным проявлением конфессиональной идентичности.
Как бы то ни было, версия Альбединского существенно расходилась с примитивной конспирологией, объясняющей неудачу реформы происками «подстрекателей» из шляхты или духовенства. Несколько раз употребленное им выражение «народные массы» (или «масса народа») – не случайная обмолвка[2029]. Эта генерализация расширяла не только социальные[2030], но и географические границы легитимности, которую виленский генерал-губернатор советовал признать за польскоязычным богослужением. Ход его мысли виден из сравнения данной записки с более ранним документом – ответом от марта 1876 года на запрос МВД о перспективе введения в Тельшевской епархии (Ковенская губерния) русскоязычных требников. МВД ожидало, что епископа А. Бересневича, преемника незадолго перед тем умершего М. Волончевского (стойкого противника канонически не санкционированных богослужебных книг), удастся склонить к сотрудничеству в этом деле. Альбединский же полагал, что проблема не в епископе, а в мирянах, которых, согласно указу 25 декабря 1869 года, нельзя принуждать к смене языка. Он подчеркивал, что еще рано ожидать добровольных прошений от литовцев о русских требах и молитвах, ибо, несмотря на усиленное обучение русскому языку в начальных школах, жители Ковенской губернии не спешат переходить с «жмудского или литовского наречий» на русский и даже «постоянно употребляют в обыденной жизни в некоторых местностях язык польский». Следовательно, надо подождать того времени (оно «едва ли далеко», утешал Альбединский нетерпеливых русификаторов), когда система начального образования принесет плоды и «богослужение на русском языке сделается потребностию народных масс»[2031]. Спустя девять месяцев генерал-губернатор – уже не конкретизируя, о литовцах или белорусах он говорит, – заявлял Тимашеву, что при условии успешной образовательной политики католическое население «во втором или третьем поколении само выразит потребность в богослужении на языке русском»[2032]. То, что это заключение распространялось на все шесть губерний бывшего «муравьевского» Северо-Западного края, очевидно: массовые переводы в православие, на печальное наследие которых указывал Альбединский, процветали в середине 1860-х годов в Минской губернии. Намеренно не делая различий между католиками разного этнического происхождения, генерал-губернатор пытался внушить министру, что на русский язык в костеле надо смотреть как на естественный в будущем результат интеграции обширного и этнически разнородного края с Центральной Россией, но не преимущественное средство русификации или символ триумфа над «полонизмом».
Альбединский и словами, и публичным поведением давал понять, что для нормализации отношений властей с римско-католической церковью (включая ее высшую иерархию) следует иметь дело с действительно авторитетными у паствы представителями клира, независимо от того, вызываются они или нет помогать внедрению русскоязычной службы. Так, в письме Тимашеву он негативно отзывался о Жилинском, подозревая того в двуличии. Как выяснилось, управляющий Виленской епархией не известил Альбединского о подписанном им в апреле 1876 года протоколе Сиверса, ряд пунктов которого касался не только Минской губернии, но и Виленского генерал-губернаторства[2033]. Альбединский отмечал, что «протокол… остается не более как мертвою буквою». Он предоставлял министру сделать самому вывод о степени искренности прелата, обещавшего помогать властям в деле русификации, а у паствы пользующегося репутацией ренегата[2034]. Напротив, к главе Тельшевской епархии епископу Бересневичу генерал-губернатор относился с почтением, с удовольствием встречался и беседовал с ним[2035]. В конце 1878 года Альбединский добился через министра внутренних дел Макова высочайшего разрешения снять запрет на проведение крестных ходов вне церковной ограды в сельской местности Тельшевской епархии и конфиденциально сориентировать местных чиновников на более снисходительное отношение к обычаю установки памятных придорожных крестов[2036]. По личной просьбе Альбединского Бересневич в июле 1879 года подготовил проект отмены – как в Тельшевской, так и в Виленской епархиях – и других введенных в 1860-х годах антикатолических ограничений, в том числе касающихся права священников читать сочиненные ими самими проповеди. Эту меру генерал-губернатор надеялся включить в «пакет» милостей по случаю 25-летия восшествия на престол Александра II, однако на этот раз Маков не одобрил инициативу из Вильны[2037].
Можно уверенно предположить, что записка Альбединского не прошла бесследно для руководства МВД. С весны 1877 года оно не только отклоняет ходатайства из Минска о высылке и штрафовании «подстрекателей», но и начинает выражать озабоченность тем, что уклончиво описывалось как излишнее давление на религиозные чувства «народа». (Альбединский, надо сказать, выражал ту же мысль более открыто.) Так, в июне 1877 года Тимашев втолковывал минскому губернатору, что к поставленной цели лучше продвигаться «медленно, но верно, чем вводить русский язык торопливо и без надлежащих мер предосторожности к его упрочению», и что «надежнейшим средством для сего, конечно, является школа»[2038]. Последний тезис, созвучный соображениям Альбединского о соотношении секулярных и религиозных факторов обрусения, до этого не возникал в служебной корреспонденции МВД по минской кампании.
Спустя еще полгода, в январе 1878-го, вопрос о минской кампании был включен министром внутренних дел в повестку дня Особого комитета (совещания), высочайше утвержденного для обсуждения перспектив отношений между Петербургом и Ватиканом[2039]. В первую очередь комитету поручалось рассмотреть меморандум уполномоченного Пия IX кардинала Симеони канцлеру А.М. Горчакову от июля 1877 года, в пятнадцати пунктах излагавший точку зрения Святого престола на притеснение католиков в империи. В числе мер, наиболее задевших религиозные чувства католиков, были названы насильственное введение русского языка в дополнительное богослужение и учреждение института визитатора[2040].
Созыву комитета предшествовала важная кадровая перемена в МВД. Э.К. Сиверса, в течение более чем двадцати лет возглавлявшего Департамент духовных дел иностранных исповеданий[2041], заместил сравнительно молодой бюрократ Александр Николаевич Мосолов. Новый директор был хорошо знаком как с проблемами имперской политики на западной периферии, так и с механизмом управления конфессиями. В 1863–1865 годах Мосолов, в качестве одного из личных секретарей виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева, активно участвовал в подготовке мер по усилению государственного надзора за католическим духовенством в Северо-Западном крае. Вторую половину 1860-х годов он провел в Риге, на должности чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе Прибалтийского края, которым был в те годы не кто иной, как П.П. Альбединский. Во взглядах на обострившийся тогда «остзейский вопрос», связанный с германофобскими настроениями русского национализма, Мосолов расходился с начальником, который выступал против отмены особых привилегий немецкой знати и не оказывал поддержки местному православному духовенству в его соперничестве за паству с лютеранской церковью[2042]. В 1869 году, благодаря протекции Л.С. Макова, сослуживца еще по Вильне (опыт службы на окраинах, особенно в «минуты роковые», вообще скреплял чиновников прочными узами), Мосолов получил назначение в Особенную канцелярию министра внутренних дел.
В течение 1870-х годов он, вероятно под влиянием Макова, отступил от прежнего, «муравьевского», понимания русификации на окраинах и оценил преимущества более гибких методов администрирования и переформовки идентичности местного населения, позволявших, например, в вероисповедных делах смелее опираться на лояльных представителей неправославных сообществ[2043]. В МВД Мосолов преподносил себя беспристрастным и равнодушным к борьбе за политическую власть экспертом, о чем без ложной скромности писал в дневнике: «Люди, мне подобные, могут быть теперь терпимы только в силу значительных дарований и достаточных знаний, к каким иногда поневоле приходится прибегать. Без этой крайности нами обошлись бы»[2044]. Он гордился тем, что в ходе службы выработал самостоятельный взгляд на роль римского католицизма в прошлом и настоящем Российской империи. В коротком мемуарном фрагменте о службе директором ДДДИИ, написанном в 1884 году, он критиковал приверженность творцов конфессиональной политики устаревшим моделям отношений между государством и католической церковью:
Я тщательно изучал столкновения католицизма с властью в других странах и почерпнул в этом изучении много для нас назидательного. Мне приходилось не соглашаться с ходячими у нас воззрениями о пользе того или вреде иного совершенного в разное время государями и государственными людьми. В исповедных делах я не безусловный поклонник Екатерины и не считаю даже мнения ее в этом деле самостоятельными, зная достоверно, из какой готовой системы она их почерпала, и не всегда удачно (иозефизм)[2045].
Назначенный директором ДДДИИ в конце 1877 года, Мосолов, руководствуясь указаниями Макова, сразу принялся за составление программной записки по «католическим делам»[2046], которая за подписью Тимашева была доложена императору и по его повелению внесена в Особый комитет (она проанализирована выше в части, касающейся оценки бисмарковского Kulturkampf). В записке перемешивались старый и новый дискурсы о католицизме. С одной стороны, делался важный шаг к признанию необходимости считаться с новообретенным в XIX веке духовным авторитетом папства. Высказана эта мысль в антипапистских терминах, но все-таки высказана:
В Ватикане упрочилось убеждение, что с утратою светской власти все обаяние папства заключается именно в духовной непоколебимости, несговорчивости и в борьбе с правительствами некатолическими. В Риме очень верно поняли, что чем больше католики в странах некатолических подавляемы, тем сильнее взоры их будут обращаться к Риму.
Взгляд на католицизм в России как нечто исторически преходящее, нелегитимное отвергался решительно: «В России до 8-ми миллионов подданных католиков, которые, по всей вероятности, всегда такими и останутся»[2047]. С другой стороны, аналитическую ценность записки роняла все еще сильная тенденция к отождествлению духовного нонконформизма католиков с польской национальной идеей. Например, претензия Ватикана по поводу закрытия в Западном крае сельских школ, заведенных католическим духовенством, однозначно расценивалась как одно из «отчетливо выраженных чисто польских требований» в меморандуме кардинала Симеони, тогда как с ничуть не меньшим основанием в ней можно усмотреть обеспокоенность высшего клира тем, что без приходских школ духовенству труднее исполнять свой пастырский долг[2048].
Трактовка вопроса о русификации костела не была вполне последовательной и четкой. Предлагалось «постепенно и в пределах необходимой осторожности» продолжать введение русского языка в белорусских губерниях (с изъятием латышских приходов в Витебской губернии), а затем в Юго-Западном крае. Временнй и географической постепенностью исключалась постановка этой меры на обязательную основу, что еще недавно, в 1876 году, проектировал ДДДИИ. Впрочем, как и раньше, главный смысл и пафос сотрудничества властей с ксендзами-русификаторами усматривались в противостоянии «полонизму»: «[Следует] поддержать безусловно тех римско-католических духовных лиц, которые подвергаются в настоящее время преследованию (со стороны Ватикана. – М.Д.) единственно за то, что не повинуются польским национальным стремлениям. Во главе этих лиц находятся прелаты, управляющие на законном основании епархиями удаленных епископов, а также священники белорусских губерний, способствующие введению в их приходах русского языка…». В то же время в записке отсутствовали какие бы то ни было суждения об институте визитатора, который в такой степени возмутил Ватикан, что прелат Жилинский, чьей номинальной инициативой прикрывались в 1876 году власти, был назван в меморандуме Симеони «проходимцем»[2049].
Особый комитет не принял каких-либо крупных решений ни по минскому делу, ни по другим предметам дискуссии. В журнале от 23 февраля 1878 года коротко зафиксировано пожелание, чтобы русскоязычное католическое богослужение распространилось на все местности, где католическое население не принадлежит к «польской народности»[2050]. Заседания Комитета, уже в новом составе, возобновились в конце 1880 года, когда начатые по инициативе нового папы Льва XIII переговоры об урегулировании спорных вопросов, касающихся католической церкви в России, дали первые положительные результаты (временное соглашение, или «сделка», от 31 октября 1880 года)[2051]. Будучи назначен вторым членом, а затем и главой российской делегации на переговорах, Мосолов стал энтузиастом нормализации отношений с Ватиканом при условии умеренных уступок требованиям папы. Он тесно связал свою карьеру с этим дипломатическим предприятием, так что, когда после гибели Александра II 1 марта 1881 года в верхах возродилось, по его словам, намерение устроить «новый поход в область католицизма и создать маленький культуркампф», его отставка с поста директора ДДДИИ была предрешена[2052]. (Соглашение между Россией и Святым престолом все-таки было подписано в декабре 1882 года, но касалось оно меньшего числа спорных вопросов, чем предварительная договоренность 1880 года[2053]).
Однако к тому моменту Мосолову удалось внести вклад в пересмотр методов русификации костела, затронувший и представления властей о государственном воздействии на католическую религиозность. Еще раз подчеркну, что обозначившаяся в 1878 году заинтересованность части высшей бюрократии и самого Александра II в смягчении разногласий с Ватиканом задавала иную перспективу на практику русификации костела.
Решающее значение для упразднения института визитатора имела инспекционная поездка Мосолова в северо-западные губернии в октябре 1878 года. Встречи и беседы с Жилинским в Вильне и с обоими визитаторами в Минске подтвердили сложившееся в МВД впечатление, что русификация костела зашла в тупик. Для посещения Минска, видимо, специально выбрали время, когда покровитель Сенчиковского губернатор В.И. Чарыков находился в отъезде и его замещал вице-губернатор И.П. Альбединский, сын виленского генерал-губернатора (и бывшего начальника Мосолова по службе в Риге), разделявший скептический взгляд отца на русификацию костела. Мосолов, делавший на публике заявления о поддержке правительством русскоязычного богослужения для католиков, не скрывал при этом своей глубокой неприязни к Сенчиковскому, встречаясь с ним у вице-губернатора, в училище органистов и других местах. Спустя две недели Сенчиковский, все еще надеявшийся (напрасно) на покровительство Макова, писал тому, что приезд нового директора ДДДИИ возбудил везде в Минске толки о том, что «визитаторам уже свернули головы»[2054]. Почти в тот же день, когда он отправил это письмо, министр Тимашев ознакомился с подробным отчетом Мосолова, где деяния ксендзов-русификаторов и вправду получили жесткую оценку, в которой Сенчиковский, доведись ему прочитать отчет, наверняка увидел бы убийственную «польскую интригу». Вскоре Мосолов представил министру и другой отчет – об инспекции католических духовных семинарий в Вильне и Ковно. В совокупности два эти отчета представляли собой продолжение дискуссии, начатой программной запиской МВД от января 1878 года.
Впервые за последние восемь с лишним лет высокопоставленный чиновник МВД ставил под серьезное сомнение конспирологическую концепцию противодействия русскоязычной службе: «[Сенчиковский и Юргевич] в своем совершенном бессилии подвинуть дело русского языка и, быть может, в сознании собственных грубых ошибок, охотно приписывают такое положение дел исключительно несочувствию и противодействию прелата Жилинского, а также разного рода интригам помещиков и т. п.». Мосолов обращал внимание на то, что за выступлениями против реформы во многих случаях стоят не польские паны или даже мелкая шляхта, а простые женщины из крестьянской среды, враждебно настроенные ко всякого рода нововведениям при богослужении… Вполне ли сознательно они восстают против русского языка или побуждаются к тому извне, [судить трудно,] но явление это до такой степени сильно и заметно, что необходимо принимать его в расчет…[2055]
Оба визитатора изумили Мосолова апломбом, безответственностью, притязаниями на еще большее самоуправство – и просто глупостью, которая не позволяла им смекнуть, к чему клонит строгий ревизор, и прекратить неуместную демонстрацию усердия. Так, они «не могли представить удовлетворительных объяснений относительно некоторых священников, которых они… выжили из губернии или переместили на другие приходы», включая тех, кто служил на русском языке. Ни Сенчиковский, ни Юргевич не сумели назвать ни одного кандидата на вакантные приходы, где утвержден русский язык. Казалось, карусель перемещений одних и тех же ксендзов с прихода на приход стала привычной для них забавой, а сведение личных счетов с неприятелями слилось с должностными обязанностями. Юргевич, игнорируя вопросы директора ДДДИИ, запальчиво требовал удаления настоятеля Тимковичского прихода ксендза Л. Кулаковского: тот, по словам Мосолова, «при величайших трудностях» ввел русскоязычную службу последовательно в трех костелах, но поссорился с Юргевичем из-за недоплаченного жалованья[2056].
Памятуя о щедрой поддержке, которую до недавнего времени визитаторы находили в МВД и лично в Макове, Мосолов старался развеять последние иллюзии, если они еще оставались, и формулировал главную причину неудачи кампании, не щадя репутации прежних фаворитов: «крайняя бездарность и самоуправство двух визитаторов и отсутствие всякого в них личного авторитета, кроме власти, искусно ими захваченной». Опять-таки первым в МВД Мосолов попытался истолковать удручающий для властей аморализм ксендзов-русификаторов не как роковую случайность или злопыхательство «польской интриги», а как социопсихологически обусловленный феномен. Впрочем, истолкование это вышло несколько сбивчивым. Сначала Мосолов отмечал, что распространившаяся разными путями новость о ватиканском декрете 1877 года, осуждающем русскоязычное богослужение, произвела «заметный поворот во всем духовенстве», убив еще теплившуюся в ком-то симпатию к этому новшеству. Затем следовала констатация «прискорбного явления»: «…за исключением двух-трех достойных священников… немногочисленное большинство отальных (служащих на русском языке. – М.Д.) отличается заведомыми пороками и чем-либо отмечено в прошлом». Наконец, в самом объяснении акцент смещается с осознания духовенством неканоничности реформы на (существовавшие и до 1877 года) связи священников с польской элитой: «Такое явление легко объясняется тем, что при несочувствии польской влиятельной среды (к русскому богослужению. – М.Д.)… редкий священник, дорожащий своим будущим и связями в среде духовенства и дворянства, решится порвать эти связи»[2057].
Как видим, Мосолов, словно бы споткнувшись на признании духовного влияния Святого престола, подменяет ответ на поставленный вопрос (почему в среде русификаторов столь часто совершаются аморальные поступки) замечанием о личных мотивах перехода на русский язык в католическом богослужении. По логике процитированного суждения, сотрудничать с правительством могли желать только «заведомо» порочные и беспринципные люди – едва ли Мосолов обрадовался бы такому выводу из своей верной, но неудачно сформулированной мысли. Действительно, расстаться с польскоязычной службой было легче тем священникам, которые не могли рассчитывать на расположение к себе местной польской (польскоязычной) знати или по каким-либо причинам стремились заслужить одобрение властей и русских националистов больше, чем сохранить за собой доброе имя в мнении польских патриотов. Однако сам по себе отказ от польской идентичности в пользу русской не всегда имел прямое отношение к личной нравственности. Сенчиковского, помимо карьеризма, побудили к русификаторской деятельности и соображения идейного свойства. Юргевич встал на сторону правительства еще при подавлении Январского восстания (по его словам, даже «пролил кровь»)[2058]. Кулаковский, напротив, в 1866 году был арестован по обвинению в подстрекательстве к поджогам, некоторое время провел в заключении и после освобождения, видимо, тяготился оставшимися на нем подозрениями[2059]. Все эти мотивы далеки от бескорыстия, но не одни они предопределили ситуацию конца 1870-х годов, когда русификаторы перегрызлись между собой и скатились к грязному доносительству друг на друга, благо «компромата» к тому времени хватало.
Думается, дело в том, что Сенчиковский и его последователи как раз не могли, как бы того ни хотели, «порвать связи» и полностью обособиться от среды, враждебной реформе, оградить себя от ее морального давления. Оставаясь католическими священниками, они подвергались осуждению значительной части клира за посягательство на прерогативы высшей церковной власти. Официальное провозглашение в 1877 году русскоязычного богослужения неканоничным окончательно поставило их в положение изгоев в местном католическом духовенстве. Под гнетом этой одиозной репутации распадались приятельские отношения между ними, утрачивалось чувство взаимной солидарности. Как нередко случается, ощущение себя отступником порождало соблазн вседозволенности, чем, может быть, в первую очередь надо объяснять деморализацию и разгул визитаторского самоуправства под занавес кампании.
Мосолов нашел институт визитатора трудно совместимым с новыми задачами политики в отношении католицизма, заявленными в январской записке. Важнейшей из них было изменение этнического состава учащихся духовных семинарий, посредством чего предполагалось «образовать в среде римско-католического духовенства партию, верную Правительству, вышедшую из среды народа и воспитанную под влиянием любви к отечеству». Чисто статистически такой расчет оправдывался наличием множества вакансий на должности приходских настоятелей, в особенности викарных. К концу 1870-х годов репрессивные и ограничительные мероприятия в западных губерниях привели к значительному сокращению численности католического клира. Так, в Виленской епархии (Виленская, Гродненская и, неканонически, Минская губернии) с 1865 по 1875 год умерли более 250 священников, а рукоположено в сан было только семеро выпускников семинарий[2060]. В Вильне Мосолова особенно удивила малочисленность воспитанников в местной семинарии – их было всего двадцать, в два раза меньше штатной нормы казеннокоштных учащихся: «Число ежегодно поступающих и выпускаемых заметно слабеет, и уже в течение более десяти лет далеко не соответствует естественной убыли священников в епархии». Если такое положение продлится еще десять лет, прогнозировал Мосолов, придется «возвращать к должностям тех, которые еще останутся к тому времени от прежних ссыльных», или выписывать священников из-за границы. Причину этого обезлюдения семинарии эксперт видел как в недавних «политических потрясениях», так и в «общем упадке духовного призвания в мелкодворянской среде, поставлявшей прежде римско-католических священников до излишества». А для выходцев из «беднейшего сословия, склонного к духовному званию», серьезным препятствием являлась высокая планка требований к учебной подготовке поступающих (установленная еще в 1840-х годах на уровне четырех классов гимназии)[2061].
Мосолов полагал, что «нет оснований сожалеть» о падении престижа духовной профессии в среде шляхты. Это только на руку русификаторам, задумавшим существенно обновить состав католического духовенства: казалось, образовавшаяся пустота как раз и годится для размещения лояльной престолу «партии из среды народа». Проблема, однако, состояла в точном определении «народа», из которого предстояло преимущественно набирать семинаристов. Мосолов с сожалением отмечал, что большинство учащихся Виленской семинарии – «уроженцы Ковенской губернии – единственного почти источника будущих римско-католических священников Западного края, – притом из крестьянского сословия, и [нет] ни одного из белоруссов Минской губернии». Ту же тенденцию он обнаружил в семинарии Тельшевской епархии в Ковно, где три четверти воспитанников были литовцами крестьянского происхождения[2062]. Как и члены виленской Ревизионной комиссии десятью годами ранее (см. гл. 6 наст. изд.), Мосолов усматривал прямую связь между рекрутированием значительной части ксендзов из литовских крестьян и поддерживаемым в населении «фанатическим» типом католической религиозности[2063].
Альтернативой представлялось пополнение клира выходцами из белорусского простонародья. Минская губерния могла бы уже сейчас стать поставщиком новых, «народных», кадров клириков, если бы ее территория в течение последних пятнадцати лет не служила полем для опрометчивых экспериментов в конфессиональной политике. При упразднении Минской епархии в 1869 году была закрыта и тамошняя семинария, а специальные вакансии для Минской губернии в Виленской семинарии не предусматривались. В результате, отмечал Мосолов, «католики Минской губернии пользуются как бы остатками всего худшего в епархии», т. е. священниками туда назначаются чужаки, не востребованные в своих родных местностях. Чтобы преодолеть эту изоляцию минских католиков, он в качестве пробной меры рекомендовал установить несколько казенных вакансий для минчан в Виленской семинарии. Но даже эта скромная мера грозила новыми препирательствами между визитаторами, притязающими на полный контроль над замещением вакансий в Минской губернии, и епархиальными властями вкупе с руководством семинарии в Вильне.
На необходимость избавления от визитаторов указывало и другое предложение Мосолова: при переговорах с Римской курией добиваться папской санкции на присоединение Минской губернии к Могилевской архиепархии, «в видах ослабления польского элемента в губернии, поддерживаемого непосредственною связью с более польскими частями [Виленской] епархии: губерниями Виленской и Гродненской» (очередная попытка деполонизации посредством перекройки административно-территориальных границ наподобие разукрупнения Виленского генерал-губернаторства в 1869–1870 годах)[2064]. Это предложение соответствовало высказанной еще в программной записке от января 1878 года идее об учреждении в Петербурге, при Могилевской кафедре (резиденция архиепископа находилась в столице), семинарии «преимущественно для уроженцев белорусских губерний»[2065]. Понятно, что подчинение католиков Минской губернии номинально первенствующему в империи католическому иерарху – архиепископу Могилевскому – было невозможно при сохранении визитаторства, учрежденного именно в условиях дефицита легитимной духовной власти в этой части Виленской епархии.
Подытоживая соображения о визитаторах, Мосолов рекомендовал отменить этот институт не в официальном порядке (дабы не смутить ксендзов, еще готовых служить на русском языке), а таким путем: «Воспользоваться первым удобным случаем, чтобы устроить положение визитаторов вне настоящих должностей и не замещать их новыми». Тимашев согласился с подчиненным и дополнил его вывод еще одним пунктом, высказанным без обиняков: «Учреждение визитаторов возмутило Рим, не принеся нам ожидавшейся пользы, а потому надо (действовать[2066]. – М.Д.) так, чтобы оно пало само собою или сделано в виде уступки Риму…»[2067]. Это замечание ясно показывает, что к концу 1878 года проблема визитаторов уже не рассматривалась отдельно от перспективы нормализации отношений с Ватиканом. Упразднение этой должности могло пополнить актив российской делегации на будущих переговорах с Римской курией о взаимных уступках.
«Удобный случай» не заставил себя долго ждать. Сенчиковский, как уже упоминалось, был заподозрен властями в гомосексуальных отношениях со своими подопечными в училище органистов[2068]. Расследования возбуждать не стали, но с поста директора училища Сенчиковского вскоре удалили. Это дало повод удалить его и вообще из Минска. Первоначально намеченное назначение настоятелем в Слуцк Сенчиковский счел для себя «положительным унижением» и благодаря еще не полностью угасшей симпатии к себе губернатора Чарыкова добился в начале 1879 года назначения настоятелем Бобруйского прихода, без возобновления визитаторских полномочий[2069].
Бесславный отъезд Сенчиковского из Минска повлек за собой новые склоки между ксендзами-русификаторами, словно они нарочно сговорились подтвердить уничтожающую характеристику, данную им в отчете Мосолова. Новый минский декан С. Макаревич, в недавнем прошлом один из «сенчиковцев», жаловался Мосолову на то, что его бывший начальник, известный своими интригами и сплетнями, посредством своих агентов, приносит мне различные угрозы во что бы то ни стало погубить меня, всячески подстрекает и побуждает бобруйских прихожан (Макаревич до этого служил настоятелем в Бобруйске, и самолюбие Сенчиковского было уязвлено «рокировкой» между ним и Макаревичем. – М.Д.) к поданию на меня ябеднических бумаг.
В придачу к этой упреждающей ябеде Макаревич сообщал, что в бытность Сенчиковского визитатором «лишь те ксендзы, которые носили ему положенную дань, заслуживали его аттестации…». Сам же Сенчиковский в обращениях к начальству воздерживался от прямых нападок на Макаревича, но мучившая его зависть один раз толкнула под руку написать, что тот имеет «капитала тысяч 30-ть», а он, Сенчиковский, вынужден теперь «состоять в зависимости от прихожан»[2070].
«Низложение» Юргевича не обошлось без громкого скандала. В ноябре 1878 года его распря с подчиненным ему ксендзом Кулаковским перешла границы элементарного приличия. Получив от того очередное письмо с требованием объяснить причины удержания жалованья, Юргевич вместо ответа вымазал бумагу экскрементами (выражаясь официальным языком, «вложил в бумагу нечистоты») и вернул отправителю. Отличился и Кулаковский, препроводивший этот документ в его подлинном виде губернатору как материальную улику бесчинств визитатора. Чарыков, оторопевший от знакомства с этой в буквальном смысле слова грязной корреспонденцией, немедленно сообщил о происшествии министру. К донесению прилагалось более раннее письмо Юргевича Кулаковскому, наполненное, как довольно мягко определил губернатор, «такими выражениями, которые едва ли возможны в сношениях должностных лиц»[2071]. Министр распорядился немедленно сместить Юргевича с должностей и визитатора, и настоятеля прихода.
Этим дело не кончилось. Как и Сенчиковский, Юргевич мнил о себе достаточно много, так что даже в опале требовал льгот. Он забросал разные инстанции, вплоть до высочайшей, паническими жалобами, причем одновременно молил губернатора о заступничестве и в прошении министру на всякий случай обвинял того же губернатора в потакании «польской интриге» («покупив имение Беличи… от г-жи Доманской из Войниловичей, сроднился с польскими панами»). Первая тактика оказалась вернее. Чарыков, несмотря на некрасивое поведение бывшего визитатора, чувствовал ответственность за судьбу лиц, которым он в течение нескольких лет оказывал от имени правительства поддержку, и был не прочь порадеть за них в последний раз. Одновременно с переводом Сенчиковского в Бобруйск он выхлопотал Юргевичу назначение настоятелем в богатый Несвижский приход. Мосолов, уверенный, что оба экс-визитатора воспримут снисходительность властей как поощрение к новому произволу, выступил против такой поблажки: «Поддерживать лиц, оказавших заслуги перед Правительством, – обязательно; но не следует, мне кажется, забывать, как воспользовались почти безгранично поддержкой Правительства… Сенчиковский и Юргевич и до чего они довели дело русского языка…»[2072].
Назначение все-таки состоялось, но вступить в должность Юргевичу не удалось. 5 апреля 1879 года, вскоре после его прибытия в Несвиж, несколько десятков прихожан-мещан ворвались в костел и избили самого Юргевича и его родных: «…матери моей разбили глаз правый, брата поколотили… Обили меня до смерти кулаками и камнями по груди, по спине, словом, до смерти». (Что не помешало ему на следующий день, согласно рапорту исправника, произвести на пару с братом-ксендзом «буйство» в соседнем местечке Копыль.) Юргевич объяснял случившееся подговорами прежнего настоятеля, служившего в костеле на польском языке, и заявлял, что напавшие на него мещане кричали: «Ты будешь нам всё по-русски совершать, как в Слуцке, мы не случане, убьем его, Царя стреляют, а он что»[2073].
После этого фиаско Юргевич считал себя даже более, чем раньше, вправе требовать от властей прибыльного кормления. Облюбовав теперь Логойский приход (где за два года перед тем его брат безуспешно вводил русский язык), он писал Чарыкову: «Приход этот… недалеко [от] Минска, и там минеральные воды; я же как больной и за русское дело ужасно пострадавший буду иметь возможность лечиться… Ваше Превосходительство, не оставьте меня и не сшибайте меня, авось пригожусь опять, быть может…». Мосолов заподозрил, что умаявшийся Юргевич хочет попасть в такой приход, где он мог бы под благовидным предлогом злостного упорства прихожан вернуться к польскоязычной службе, и на сей раз сумел наложить вето на ходатайство снисходительного Чарыкова: «Самое лучшее оставить его (Юргевича. – М.Д.) в покое. Одумается». Вот этой-то надежды Юргевич не оправдал. Узнав, что прошение о Логойске отклонено, он в отчаянии предпринял новую попытку водвориться в негостеприимном Несвижском приходе. В августе 1879 года несвижские прихожане жаловались губернатору: «…прибыл в г. Несвиж вторично ксендз Юргевич, вооруженный револьвером… распустил слухи и донес по начальству, что он остается самостоятельным хозяином в нашем приходском костеле, как будто бы он принят прихожанами… Он стращает нас разными угрозами, что если он не будет принят за настоятеля, то костел будет вовсе закрыт…». К тому времени Чарыкова уже освободили от должности губернатора, и вице-губернатор И.П. Альбединский дал неблагоприятное для Юргевича заключение: «…Я начинаю сомневаться в нормальности его умственных способностей и поручил уже слуцкому исправнику самый бдительный надзор за ним…»[2074]. Едва ли эта новость вызвала огорчение у Мосолова[2075].
Свобода совести для католиков: Бюрократический фальстарт
Если опыт предшествующей службы помог Мосолову критически взглянуть на деятельность визитаторов и добиться упразднения самой этой должности, то, в свою очередь, впечатления от непосредственного контакта с католичеством дали материал для размышлений о пределах государственной регламентации религиозной жизни. Из сравнения его официальных отчетов с несколько более поздними частными заметками хорошо видно, что даже этот нешаблонно мысливший чиновник не сразу мог признать условность границы (уверенно постулируемой ранее) между «внутренней» верой и «внешним» обрядом и увидеть проявления горячей католической религиозности там, где их прежде отрицали. В отчеты 1878 года он включил не все из навеянных инспекцией раздумий. По долгу службы высказавшись за поддержку русскоязычного богослужения, он уже тогда усомнился в том значении, которое с конца 1860-х годов придавалось смене богослужебного языка как инструменту обрусения. В мемуарах Мосолов так излагал кредо, выработанное им под впечатлением увиденного (он писал при этом, что на момент его инспекции русский язык в католическом богослужении «погибал»):
Я поддержал что было возможно, но уже и время было неблагоприятное, и деятели главные поослабели. Всё яснее мне представлялись наши грубые ошибки и обреченные на неудачу предприятия. Скоро мне стало ясно, как жидка и ничтожна была моя первая записка (для особого Комитета в январе 1878 года. – М.Д.), и в голове моей стала слагаться отчетливо единственно верная и последовательная система действий в делах исповедных в отношении к иноплеменникам: неумолимая твердость и даже строгость в том, что соприкасается с правлением и нашею народною политикой, и возможно полное невмешательство в область религиозно-бытовую. …[В последующих записках и докладах] я доказывал, что, сузив до известной степени круг наших целей, но достигая их, мы повлияем и на недоступную прямому нашему влиянию область религиозно-бытовую, тогда как не рассчитанные с силами вторжения в нее никогда не приносили и не принесут нам ничего, кроме разочарований[2076].
Очевидно, что традиционный язык богослужения рассматривался Мосоловым как элемент, относящийся к «области религиозно-бытовой», а не к сфере «народной политики», где господство русского языка должно было оставаться безусловным. Наблюдение о «не рассчитанных с силами вторжениях», в подражание иозефинистским приемам прошлого столетия, относилось как к принудительной русификации костела, так и к многочисленным запретам и ограничениям на отправление католического культа, наложенным после Январского восстания. Говоря о сужении «до известной степени круга наших целей», Мосолов подразумевал и то, что без отмены обрядовых запретов 1860-х годов замену польского языка русским в католическом богослужении население неизбежно воспримет как одну из притеснительных правительственных мер. Учитывая чрезвычайную инертность бюрократического дискурса о религиозной политике, в особенности по отношению к католицизму, критику Мосоловым прежних методов конфессионального регулирования надо признать заявкой на концептуальный прорыв, пусть и не осуществленный сразу на практике.
Некоторые из предложений Мосолова, выдвинутых вскоре после знакомства с последствиями мероприятий по русификации костела, предвосхищали столь повлиявший на межконфессиональные отношения в России указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 года. Всего через месяц после представления им отчетов, в ноябре 1878-го, Тимашев был заменен во главе министерства Маковым, при котором Мосолов, пользуясь особым доверием нового начальника, получил несколько большую свободу маневра. Летом 1879 года он еще раз побывал в Минске и обсудил с губернатором Чарыковым возможность и целесообразность специальных мер для восстановления русскоязычной службы в тех костелах, где «хотя и значится русский язык введенным в дополнительное богослужение, тем не менее в действительности оно совершается на польском языке»[2077], и тех, где «хотя дополнительное богослужение и совершается на русском языке, но при всяком удобном случае заменяется польским языком»[2078]. В отношении первой категории директор ДДДИИ и губернатор сошлись во мнении, что администрации следует воздержаться от вмешательства и «предоставить осуществление действительного введения русского языка… более благоприятному времени». Относительно второй категории Чарыков предложил не прибегать, как раньше, к суровым мерам взыскания вроде высылок, но все-таки подвергать штрафам виновных в устройстве служб на польском, будь то священники или прихожане. Мосолов на это возразил, что «штрафы хороши, но не в делах вероисповедных»[2079].
Намечавшийся поворот в политике по отношению к католикам еще выразительнее заявил о себе в деле так называемых упорствующих в местечке Логишин Пинского уезда. Обстоятельства закрытия там католической церкви и «присоединения» жителей к православию в 1865 году, при активном участии «народного» миссионера Высоцкого, описаны мною в главе 5. К концу 1870-х годов местные власти убедились в отрицательных последствиях таких «присоединений» не только в Логишине, но и во многих других населенных пунктах Минской губернии. Еще в июне 1878 года губернатор Чарыков выступил с инициативой, довольно смелой для тогдашнего администратора среднего звена. В донесении Тимашеву он описал религиозную ситуацию в Логишине как недопустимую в государстве, пекущемся о религиозности подданных. Помимо примерно 600 «коренных православных» и 950 присоединившихся к православию в 1865 году, в местечке числилось около 2100 лиц, «признанных долженствующими принадлежать к православной вере», т. е. тех, которых администрация сочла незаконно числящимися в списках католического духовенства, но не смогла принудить к согласию на присоединение. Все без исключения «долженствующие принадлежать» и около 15 человек из присоединившихся не посещали православную церковь и не исполняли треб у православного священника. Такие условия, полагал Чарыков, грозили в ближайшем будущем развитием «безверия»[2080].
Как мы уже не раз видели, о тенденции к дехристианизации населения в местностях, где в 1860-е годы происходили массовые обращения из католицизма в православие, в 1870-х докладывали в Петербург и другие администраторы. Они тоже с тревогой писали о некрещеных детях, невенчанных браках и неотпетых покойниках. Вывод из этих грустных наблюдений следовал, как правило, такой: православное духовенство должно прилагать новые и новые усилия к увещанию упорствующих, а светские власти могут оказать содействие, строго наказывая «зачинщиков» и «подстрекаталей» или закрывая соседние католические церкви и часовни, хотя бы изредка посещаемые этими номинальными православными. Чарыков же, в сущности, считал возможным нарушить одно из табу имперской конфессиональной политики – недопустимость ухода из православия (даже только номинально принадлежащих к нему) в другую веру. По его мнению, «правительству несравненно лучше иметь несколькими тысячами менее православных и на такое же число более верноподданных, так как два эти обстоятельства едва ли совместимы при настоящем положении дела». Губернатор без экивоков предлагал «разрешить логишинским прихожанам в деле избрания религии руководиться указаниями своей совести и убеждений, о чем объявить им», а православному и католическому духовному начальству – согласовать между собой перераспределение прихожан согласно выраженному ими желанию. Правда, переходящим в католицизм ставилось немаловажное условие: заявить о «желании своем слушать богослужение на русском языке»[2081]. Но даже при таком ограничении свободы совести проект губернатора свидетельствовал об определенном положительном эффекте, который со временем произвела риторика «располячения католицизма». Какой бы фальшью ни отдавали идеологема веротерпимости и принцип «католик может быть русским», когда ими прикрывался произвол Сенчиковского и ему подобных при деполонизации костела, эта риторика, а отчасти и практика русскоязычного богослужения способствовали тому, что в сознании некоторых русских националистов католицизм повысил свою культурную легитимность. Уход из православия в католицизм, при условии, что ушедшие будут слушать дополнительное богослужение на русском (неважно в данном случае, что они отказывались тем самым от церковнославянского!), мог уже трактоваться в терминах не преступного отпадения или совращения, а нейтральной смены конфессиональной «приписки».
Чт особенно важно, губернатор вовсе не преподносил логишинское дело как единичный случай. Напротив, он предупреждал, что в Минской губернии имеются и другие православные приходы с «упорствующими», следовательно, если проектируемая мера «будет применена по отношению к одному приходу, то надо предполагать, что и другие будут ходатайствовать о применении ее к ним». Ссылаясь на данные Минской православной консистории о числе прихожан, не бывающих у исповеди и причастия, Чарыков утверждал, что в Минском, Новогрудском, Борисовском, Игуменском, Слуцком и Речицком уездах проживает не менее 10 500 «упорствующих»[2082]. (Речь при этом не заходила о тех номинально православных, которые через силу соблюдали обрядность навязанной им веры, но душой остались в католической религии.) Решение логишинского дела должно было стать прецедентом, легализующим возвращение «упорствующих» в католицизм. Губернатор, конечно, не нацеливался на ревизию конфессионального законодательства, сопоставимую с будущим указом о веротерпимости 17 апреля 1905 года, и, скорее всего, удовольствовался бы постановкой дела на административную основу, но даже такой ограниченный опыт адаптации конфессиональной политики к принципу свободы совести стал бы шагом вперед.
Тимашев, который вполне ясно представлял вероятные последствия принятия губернаторского предложения, наложил резолюцию: «Можно снисходительно закрывать глаза, но официальное разрешение в католицизм (sic! – М.Д.) было бы действием, противным закону». Традиционной, в духе запретительных мероприятий 1860-х, была реакция Тимашева на сообщение, что в соседней каплице ксендз из Пинска специально для логишинцев один-единственный раз в году служит обедню: «Давно следовало закрыть (часовню. – М.Д.)[2083]». Итак, самое большее, чего можно ожидать от министра, – это дозволения смотреть сквозь пальцы на то, как «упорствующие» сторонятся православного храма и крестят детей без священника, – но уже не на то, как они тайком посещают полузаброшенную каплицу. Косность конфессионального дискурса и законодательства заставляла Тимашева – между прочим, не самого враждебного католицизму из высших бюрократов – мириться с тенденцией к дехристианизации «упорствующих», которой так опасался губернатор.
Иначе отнесся к инициативе минского губернатора Мосолов. Вероятно, в предвидении отставки Тимашева он подготовил проект отношения МВД обер-прокурору Синода Д.А. Толстому по логишинскому делу. Маков подписал этот документ на следующий же день после своего назначения управляющим министерством[2084], 28 ноября 1878 года. МВД обращало внимание Толстого на обратный задуманному эффект «обратительской» кампании 1860-х: «Состоявшаяся в 1865 г. передача местной римско-католической церкви в православное ведомство, по-видимому, еще более укрепила отпавших от Православия в католицизме»[2085].
Маков и Мосолов подчеркивали, что предписываемые законом способы вразумления отпавших от православия не годятся для урегулирования столь деликатной ситуации:
…применение к двухтысячному населению указываемых уголовными законами мер, состоящих в отобрании детей и в отсылке совратившихся к православному духовенству для увещания, было бы крайне затруднительно… Едва ли возможно какое-либо судебное разбирательство в таком деле, где виновными являются не столько ныне живущие, сколько предшествующие поколения, за которые никто не ответствен. Между тем оставление логишинских прихожан в настоящем их положении, без возможности в течение пятнадцати лет удовлетворять свои религиозные потребности, является такого рода несообразностью, которая не может быть оправдана ни существующими узаконениями, ни высшим государственным интересом.
Руководство МВД доказывало обер-прокурору, что опасения католического реванша на Минщине, с ее почти миллионным населением православного исповедания, беспочвенны: «Новый поворот к преобладанию католицизма в этом крае, по человеческим соображениям, едва ли возможен». А потому надо решить вопрос о религиозной принадлежности «упорствующих», основываясь на реальном положении вещей, без спекуляций о том, «чем эти люди считаются формально и чем они могли бы быть при иных исторических условиях». Несмотря на решительность последней формулировки, Маков и Мосолов опустили такой важный пункт губернаторского предложения, как предоставление выбора одной из двух конфессий на волю самих прихожан («в деле избрания религии руководиться указаниями своей совести и убеждений»). Вместо этого они высказывались за нечто напоминающее процедуру разбора паствы, практиковавшуюся в западных губерниях после «воссоединения» униатов: представителям духовенства обеих конфессий поручалось провести тщательное расследование и поименно назвать лиц, которых надлежало приписать «окончательно» к католическим приходам «как исповедующих в действительности римско-католическую веру»[2086]. О том, что главным критерием этой «действительности» надо считать религиозное самоопределение взрослого индивида, а не вероисповедание его предков, пусть даже отлично документированное, руководители МВД разве что намекали обер-прокурору, воздержавшись от артикуляции этого тезиса, нового для политики самого МВД.
До получения ответа из Синода Мосолов успел обсудить ту же проблему с минским губернатором Чарыковым. По вопросу об «упорствующих» они согласились в том, что «усиленные действия или принятие каких-либо мер… со стороны администрации… неуместны и могут лишь поставить дело, по самому свойству своему имеющее духовно-нравственный характер, в положение более затруднительное…». Ответственность за развязку этого узла должно принять на себя «духовное начальство». Пожалуй, еще более щекотливым представлялся вопрос о другой группе с раздвоенной конфессиональной идентичностью, которая так описана в составленной Мосоловым повестке дня беседы: «…хотя и исполняют обряды и таинства Православной церкви, тем не менее видимо тяготеют к католицизму (сюда следует отнести почти всех присоединившихся к православию в 1865–7 годах)»[2087]. Чарыков, судя по неформальному протоколу беседы, затруднился сформулировать свою позицию по отношению к этой группе, Мосолов же записал в столбце ответов: «Снисхождение и невмешательство со стороны администрации»[2088]. Эта лаконичная формула не обещала никакой заботы властей об удовлетворении духовных потребностей тайных католиков, но по крайней мере исключала прежнюю практику закрытия католических церквей, куда являлись из соседних православных приходов номинальные «присоединившиеся». Разрешить «тяготеющим к католицизму» наравне с «упорствующими» легальный уход из православия Мосолов считал, по-видимому, преждевременным.
Как выяснилось вскоре, обер-прокурор Синода Толстой не был готов и к уступке «упорствующим». В ответном отношении Макову от 26 июля 189 года он в общих словах выражал согласие с идеей назначить комиссию для разбора прихожан, но тут же сообщал об уже отданном им распоряжении, которое фактически заблокировало реализацию предложения МВД. Толстой поручил минскому архиепископу еще раз «испытать» в Логишине «всю силу пастырских увещаний», т. е. командировать туда искушенного в миссионерстве священника. Что и было исполнено. Спустя полгода логишинцы направили в МВД жалобу на священника Проволовича, присланного «для какого-то увещания нас к принятию православия, который другой месяц сряду томится (sic. – М.Д.) всяческими преследованиями и стращаниями нас…». Логишинцы заверяли, что они преданы католической вере «как высосанной из лона матерей наших» (смешение метафор – «лоно церкви» и «молоко матери» – выдавало стремление составителей жалобы максимально усилить риторику) и что вера эта «нисколько не может вредно влиять на преданность нашу к обожаемому нами Престолу и Отечеству…». Сам же Проволович объяснял безрезультатность своего миссионерства влиянием враждебного католического окружения и просил дать ему побольше времени. В 1880 году новый губернатор А.И. Петров поддержал ходатайство Проволовича о продолжении в Логишине «духовно-назидательной деятельности» и об отсрочке назначения комиссии для разбора паствы. Вполне предсказуемо в его донесении об этом в МВД появляются ссылки на подстрекательство ксендзов, на фанатизм нескольких мутящих воду прихожан и тому подобные помехи[2089]. Легализовать свое католическое вероисповедание логишинцы смогли лишь в 1905 году. В сущности, реализация и других предложений касательно веротерпимости, высказанных внутри или «около» ДДДИИ в конце 1870-х – начале 1880-х годов, отложилась до начала ХХ века.
Мероприятия по введению современного русского (а не церковнославянского) языка в дополнительное католическое богослужение начались в конце 1860-х годов sub specie идеала имперской веротерпимости и заботы реформистского государства о сознательной религиозности подданных. Тому способствовало и самовыдвижение на роль местного лидера кампании лояльного правительству минского ксендза Фердинанда Сенчиковского – пожалуй, наиболее активного из католических союзников, которыми могла похвастаться имперская власть во второй половине XIX века. Однако при первых же проявлениях недовольства переменой со стороны паствы эти меры были переведены на рельсы узко понятой деполонизации «исконно русского края» и оказались отравлены конспирологическими фобиями русского национализма.
Спору нет, само по себе беспокойство националистически настроенных российских администраторов из-за сохранения польского языка в католическом богослужении в белорусских местностях не было надуманным. Даже если в 1870-х годах белорусское простонародье по причине неграмотности и слабой мобильности, а равно и свежей еще памяти об антипольских репрессиях прежнего десятилетия оставалось по большей части труднодоступно для ополячивания, то в перспективе можно было уже тогда предвидеть, как с ростом потребности в индивидуальной самоидентификации польский язык молитв и церковных песнопений станет для какой-то доли населения полноценным фактором нациостроительства, знаком принадлежности к высокой национальной культуре. Но на практике борьба за деполонизацию костела направлялась не столько подобным хладнокровным предвидением, сколько догматической фиксацией на «последнем» вместилище якобы почти уже уничтоженной «польщизны»[2090]. Деполонизация костела мыслилась скорее символическим актом, последним усилием в деле изгнания вражеского духа.
До конца 1870-х годов курировавшие русификацию чиновники редко осознавали, что именно насаждение сверху русской речи в костеле и обостряет восприятие языка богослужения, который до этого в представлении большинства прихожан не был связан с драматическим национальным выбором, как рисовалось воображению русских националистов вроде Каткова и его эпигонов калибра Сенчиковского. Если польскоязычная служба не делала в данный момент белорусское население поляками, то стоило ли рисковать ущемлением религиозных чувств этого еще традиционалистски настроенного населения – ради того, чтобы предупредить опасность ополячения через костел в будущем (при том что существовали и другие, религиозно нейтральные инструменты русификации)? На этот вопрос не найти ответа в грудах рапортов Сенчиковского его патронам в Минске и Петербурге. Упорство в навязывании католикам русского языка отличало некоторых местных бюрократов и впоследствии, в 1880–1890-х годах, когда католические приходы Минской губернии вошли в состав Могилевской архиепархии и тем самым наконец получили канонического предстоятеля. В этот период кампания деполонизации, начисто утратив творческий импульс, фактически свелась к закрытию приходов, числящихся перешедшими на русскую службу, в случае неназначения туда готового служить на русском священника (архиепископ-митрополит Александр-Казимир Гинтовт уклонялся от сотрудничества с МВД в этом деле). Наказанием помягче считалось оставление таких приходов без священника[2091]. (Аналогичная санкция за нарушения многочисленных запретов – правда, по решению суда, а не чиновничьим самоуправством – применялась в ходе Kulturkampf в Германии[2092].) В 1896 году А.П. Извольский, российский министр-резидент при Святом престоле, обсуждая предложения о русификации костела, выдвинутые тогдашним минским губернатором и поразительно схожие с рецептами двадцатилетней давности, заключал: «[Эти меры] не только не способны создать… белоруса католика, чувствующего свою духовную связь с русским отечеством… а лишь превращают спокойного иноверца в фанатика и ненавистника России или же окончательно лишают его всякого христианского облика»[2093].
Кроме Извольского, как мы видели выше, находились и еще бюрократы, которые, не располагая достаточным влиянием для ревизии условий кампании, были способны извлечь урок из ее негативного опыта и по-новому поставить и контекстуализировать проблему соотношения языка и конфессии. В 1895 году эксперты ДДДИИ (за год до того директором департамента вновь стал А.Н. Мосолов) в секретной записке признали предшествующую практику внедрения русского языка насилием над религиозной совестью населения и провели красноречивую параллель, напрашивавшуюся и в 1870-х годах:
Достаточно представить себе, какие потрясения и расколы могло бы вызвать между природными православными исходящее хотя бы от высшей церковной иерархии настояние к замене церковнославянского языка в богослужении – русским литературным языком. Можно с уверенностью сказать, что такое нововведение встретило бы гораздо большее сопротивление, нежели то, которое обнаружилось в некоторых католических приходах с белорусским населением в Минской губернии при замене вполне понятного оному польского языка – языком русским[2094].
С этой точки зрения попытка ввести русский язык в стенах католических храмов, при всех деструктивных последствиях (да и, пожалуй, бесплодности по части ассимиляции католиков-белорусов[2095]), положительно отразилась на постепенном переосмыслении принципов конфессиональной политики. Дорого давшееся понимание, что такое, казалось бы, «внешнее» новшество, как смена языка молитв и гимнов – даже не литургии! – есть чувствительное вмешательство в религиозную жизнь, готовило почву для отказа от упрощенных просветительских рецептов «рационализации» религиозности подданных.
Глава 11
Пренебрегая иудаизмом: тихий поворот к сегрегации евреев
Как мы видели в главе 9, сформулированный П.А. Бессоновым проект обучения евреев самими евреями на русском языке, призванный усовершенствовать «уваровскую» систему сепаратного образования, не ставился открыто под сомнение в местной бюрократии по крайней мере до 1867 года. Однако уже в 1866-м в виленской администрации наметился новый поворот в еврейской политике – в сторону отмены сепаратных еврейских школ. Побуждением к такой реформе стало теперь не просветительское стремление к секуляризации еврейского образования, заявившее о себе в 1850-х годах, например, в предложениях Н.И. Пирогова, а усиление юдофобской тенденции к сегрегации евреев. Отказ виленских властей от системы отдельных школ становится понятнее, если принять во внимание, что перемены в воззрениях на «еврейский вопрос» конца 1850-х – первой половины 1860-х ни в коей мере не задели корней культурного и эмоционального отчуждения чиновников, да и далеко не только их одних, от еврейского населения и от иудаизма. Стереотипность представлений о еврейской обособленности и инакости делала позицию властей в отношении самого принципа отдельности образования подверженной воздействию субъективных и иррациональных факторов.
Планы отмены уваровской системы: «оневежествление» или дальнейшее просвещение евреев?
В сущности, к началу 1867 года руководство ВУО уже не имело позитивной программы сохранения отдельных училищ, и если оно готово было повременить с постановкой вопроса об их отмене, то в основном по соображениям бюрократической рутины. Прошения виленских и ковенских миснагедов несколько продлили этот период неопределенности – бюрократам казалось неудобным обнаружить свое нерасположение к существующим учебным заведениям именно в тот момент, когда те подвергались нападкам со стороны «фанатиков» (при всем отличии их мотивов и целей от чиновничьих). Тем не менее вскоре после отклонения прошений миснагедов Корнилов и его сотрудники дали почувствовать маскилам условность оказанной им поддержки. В мае 1867 года редактор «Виленского вестника» Де Пуле со слов преподавателя раввинского училища Шерешевского сообщал в частном письме: «Евреи очень смущены отношением округа к раввинскому училищу, который (округ. – М.Д.) мстит училищу презрением за сочувственное отношение Вестника к евреям»[2096].
К осени 1867 года Корнилов «дозрел» до заявления – конечно, в бюрократических формах – своего несогласия с сохранением отдельных училищ. Отправной точкой послужил упомянутый выше циркуляр генерал-губернатора Э.Т. Баранова от августа 1867 года о предстоящем полном административном слиянии христианского и еврейского населения в сельской местности. Вскоре после этого, в сентябре, Корнилов в докладе Баранову по второстепенному вопросу (о предложении членов виленской Комиссии по еврейским делам Герштейна и Леванды ввести в виленской Талмуд-торе обучение ремеслам) выступил за отмену свечного сбора – особого налога с евреев, который шел на содержание отдельных училищ. При чтении доклада трудно отделаться от впечатления, что высокопоставленным бюрократом руководили не столько соображения государственной пользы или принципиальные националистические убеждения, сколько раздражение, вызывавшееся видимостью благосостояния евреев. В общих чертах зная историю свечного сбора, он тем не менее изображал его какой-то уловкой, придуманной евреями для просвещения своих детей за счет соседей христиан:
Христианские обыватели так бедны, что во многих местностях не в состоянии выдавать незначительных пособий на приличное содержание своих приходских училищ… Казенные еврейские училища обеспечены лучше приходских училищ, ибо собираемый с евреев свечной сбор идет только на еврейские учебные заведения. Между тем, справедливо желать, чтобы еврейские общества, живущие на русской земле, промышляющие корпоративной эксплоатацией крестьянского труда и монополирующие в городах и местечках, – принимали по крайней мере хотя некоторое участие в содержании начальных училищ, где обучаются дети тех сословий, которых евреи эксплоатируют и трудами которых пользуются и наживаются.
Короче говоря, свечной сбор на самом деле оплачивался трудами крестьян, попавших в кабалу к евреям. А потому привлечение евреев к оплате расходов на общие учебные заведения «гораздо полезнее, чем поддержание сепаратных еврейских училищ»[2097].
Спустя два месяца Корнилов развил эту тему в пространном представлении Баранову (от 11 ноября), где речь уже прямо шла об отмене отдельной системы образования для евреев. На первый план выставлялось плачевное положение большинства христианских приходских училищ, которые финансировались частично из казначейства, частично – местными городскими и сельскими обществами. Именно в том месте доклада, где логическая структура текста требовала объяснения, почему же местные общества столь часто уклоняются от уплаты сбора на эти училища, Корнилов вкрадчивым тоном рассказчика, дающего ключ к сюжетной разгадке, начинал излагать: «В то время как приходские училища… находятся… в самом бедственном положении, в тех же городках и местечках существуют… особые еврейские казенные училища… и школы русской грамоты, которые по материальному своему обеспечению сравнительно гораздо лучше приходских…». По подсчетам Корнилова, каждое из примерно 100 приходских училищ обеспечивалось ежегодной суммой в 460 рублей, а каждое из 48 еврейских начальных училищ (считая вместе училища 1-го разряда и школы русской грамоты) – почти в 1100 рублей. Вывод был прост: упразднив свечной сбор, ввести общий училищный налог, распределяемый между христианами и евреями соразмерно благосостоянию. Корнилов не сомневался в том, что в каждом городе и местечке можно открыть «одно или несколько хороших приходских училищ», если соединить в фискальном отношении «христианские общества с еврейскими, более их многолюдными и достаточными» (в чем у него тоже не имелось сомнения)[2098].
Несмотря на приведенные тут же формальные калькуляции, этот прогноз в основе своей был умозрительным и недобросовестным: Корнилов совершенно не касался вопроса о том, как же смогут сохранить свои благосостояние и платежеспособность проживающие в селах евреи после их подчинения волостям без наделения землей – а именно это предлагалось во вдохновлявшем его циркуляре Баранова[2099]. Попечителя ВУО занимала не столько поддержка приходских училищ, сколько решение проблемы еврейской «замкнутости». По его словам, свечной сбор вкупе с коробочным «поддерживают и укрепляют отдельность и силу еврейских корпораций и возвышают в среде их кредит и власть еврейских старшин». Голос Брафмана четко различим в этих строках, а еще более в замечании о том, что свечной сбор «для большинства евреев весьма тягостен», ибо при его взыскании «бедные семейства продают последнее свое достояние», а часть собранной суммы непременно оседает в руках «старшин», «на поддержание исключительно еврейских интересов».
Вооруженный «теорией кагала», Корнилов рассматривал отдельные училища для евреев в новой перспективе. В более ранних программных документах ВУО, трактовавших дилемму еврейского образования, по крайней мере делалась попытка оценить функциональность этих заведений в просветительских и педагогических терминах. Теперь же Корнилов трактовал училища, неразрывно с институтом свечного сбора, как составную часть скрытого от властей механизма социального господства внутри еврейства. С этой точки зрения, прежние заявления об их пользе для обрусения евреев теряли силу: «…эти училища, как предназначенные исключительно для евреев, способствуют обособлению их от христианской среды с самого детства…»[2100].
С учетом прежних заявлений самого Корнилова и его сотрудников вызывает серьезные сомнения тот оптимизм, с которым он в ноябре 1867 года заговорил о готовности и охоте евреев к обучению не в отдельных, а общих заведениях, включая гимназии. (Подчеркну, что речь идет о воззрениях бюрократов, а не о действительных предпочтениях тех или иных групп еврейского населения.) Указывая на вновь предоставленные некоторым категориям евреев преимущества и «сильное поднятие русского духа» в Западном крае, он уверял, что «евреи, без сомнения, еще не масса, но весьма многие, ясно видят всю необходимость русского для себя образования» и «вовсе не чуждаются обучения в общих училищах вместе с христианскими детьми». Выставив в подтверждение этого цифры[2101], Корнилов заключал: «Нет никакого сомнения, что с закрытием отдельных еврейских училищ число учащихся евреев и евреек в общих училищах… должно будет значительно увеличиться»[2102].
До этого, напомню, администраторы ВУО разделяли мнение, высказанное педагогическим советом раввинского училища в начале 1867 года, а именно что число еврейских учеников в гимназиях «ничтожно». Приведенные Корниловым точные данные не явились для ВУО откровением, но прежде считавшийся «ничтожным» показатель расценивался теперь как знак обнадеживающего старта[2103]. Конечно, надо учесть, что в картину вводился новый фактор – проектируемое закрытие отдельных училищ. Но действительно ли оценка динамики притока еврейских учеников в общие заведения была столь радикально переосмыслена? Есть основания предположить, что этот оптимистический прогноз не отражал действительных расчетов Корнилова и его советников и выполнял чисто служебную функцию – предупредить возражения со стороны тех, кому отмена отдельной системы образования показалась бы слишком внезапной. (К примеру, тот же Катков, последовательно критиковавший программу казенных еврейских училищ, ратовал за их сохранение до поры до времени, только без преподавания религиозных предметов.) Прежде всего, текст представления от 11 ноября разъедается внутренним логическим противоречием. Призывы к обучению евреев в общих средних и начальных заведениях, вместе с православными, диссонируют не только с юдофобскими отзвуками риторики, но и по крайней мере с одним конкретным пунктом предложений. Он свидетельствует о том, что для Корнилова по-прежнему непредставимым оставалось массовое вхождение евреев в образованную элиту, да и просто заметное еврейское присутствие в привычной городской жизни. Излагая план преобразования раввинского училища в специальное заведение для подготовки исключительно раввинов, попечитель обмолвился, что такое ограничение необходимо и потому, что «некоторые воспитанники, окончив курс в раввинском училище, поступают в университет и уже не возвращаются в местную еврейскую среду»[2104].
Эту идею об истинном предназначении выпускника раввинского училища – возвращаться в «еврейскую массу» – Корнилов оглашал и двумя годами ранее, когда еще поддерживал отдельные училища; высказал ее и тогда, когда подталкивал генерал-губернатора к их отмене. Спрашивается: можно ли было всерьез желать массового поступления евреев в гимназии, в то же время продолжая считать их чужеродным элементом в стенах университета? Более вероятно, что Корнилов имитировал уверенность в скором притоке еврейских учеников в общеобразовательные заведения, внутренне надеясь, что этого не произойдет и что таким образом удастся взять тайм-аут в неприятно осложнившейся политике еврейского образования. Свидетельством тому может послужить наблюдение М.Ф. Де Пуле о толках в корниловском «педагогическом кружке» в самом конце 1867 года и об их влиянии на местных образованных евреев: «Бедные евреи упали, обнищали духом. Казенные училища закрывают, раввинское обращают в какую-то жалкую школу. …Проповедуют необходимость оневежествления евреев, вред их образования»[2105]. Косвенные признания «необходимости оневежествления евреев» содержатся и в тогдашней, а также несколько более поздней частной корреспонденции самого Корнилова[2106].
Всего через двадцать дней после представления Корнилова – и, скорее всего, без прямой связи с ним – обсуждение проблемы еврейского образования получило импульс из Петербурга. Министр народного просвещения Д.А. Толстой, возвратившись из поездки по Одесскому учебному округу, занял наконец более определенную позицию по вопросу о еврейских училищах[2107]. Тамошние евреи произвели на него благоприятное впечатление сближением с «христианским обществом» и «европейской цивилизацией»; он с одобрением отмечал, что в гимназиях Одессы и Херсона евреи составляют от трети до половины ученического состава. Толстой пришел к убеждению, что «в таких городах не настоит более никакой нужды в отдельных еврейских заведениях, что здесь они уже отжили свое время… и без них евреи будут отдавать своих детей в общие заведения». Он сообщал попечителям учебных округов (отношение Корнилову датировано 30 ноября 1867 года), что готовит проект упразднения таких училищ в тех губернских городах, где «достаточное число еврейских детей учатся в гимназиях». Высвободившиеся денежные средства предполагалось употребить на открытие при уездных училищах ремесленных отделений, куда евреи поступали бы на равных с христианами основаниях. Толстой запросил у Корнилова сведений о числе евреев в подведомственных тому гимназиях и прогимназиях и дал понять, что был бы только рад распространению задуманной меры на ВУО[2108].
Первоначальная реакция руководства ВУО на запрос Толстого особенно интересна для анализа самой динамики бюрократического разворота от интеграции к сегрегации в политике по «еврейскому вопросу». Толстой, казалось бы, предлагал то самое, о чем Корнилов твердил генерал-губернатору буквально накануне. Тем не менее попечитель ВУО не только не спешил ликовать по поводу совпадения с министром в мнениях и начинаниях, но и даже совершил некое обратное поползновение: его ответное отношение Толстому от 31 января 1868 года, готовившееся, судя по черновикам, с особым тщанием, могло быть прочитано как попытка заступничества за отдельные еврейские училища. В первую очередь Корнилов вежливо предостерегал министра от сопоставления успехов еврейского просвещения в Одессе и Вильне по одному отдельно взятому критерию – численности учеников в гимназиях. Сделанное на такой основе заключение «об отсталости евреев западных губерний от своих единоверцев… в Новороссийском крае, в стремлении к просвещению… значительно смягчается, если принять в соображение, что в Виленском учебном округе существует Раввинское училище» (с 434 учениками), учебная программа которого соответствует уровню среднеобразовательного заведения. Между тем в чуть более раннем представлении генерал-губернатору Корнилов именно сходство с гимназией, провоцирующее тягу выпускников в университет, отмечал среди «нештатных» характеристик раввинского училища, подлежащих устранению.
Если Толстой требовал сведений о числе еврейских учеников только в гимназиях и прогимназиях, то Корнилов, как бы предупреждая следующий запрос министра, а на деле меняя постановку проблемы, собрал таковые и по начальным, т. е. приходским и сельским школам. Цель состояла в том, чтобы показать, что министерству не из-за чего слишком тревожиться: мол, евреи почти уже не делают различия между отдельным или совместным с христианами обучением своих детей с самых малых лет. Одновременно это был и запоздалый полемический выпад против Постельса, в отчете которого успехи Виленского округа на стезе начального образования оценивались сдержанно. Корнилов приводил общую цифру по всем средним и начальным общеобразовательным заведениям: из 54 636 учеников (мальчиков – 47 873, девочек – 6763) 1446 были евреями (мальчиков – 1032, девочек – 414)[2109]. Относительно же казенных еврейских училищ 1-го разряда он вскользь замечал, что они – «не что иное, как элементарные школы для обучения русской грамотности», почти одинаковые с приходскими[2110], – и умалчивал о том значении, которое придавал их скорейшему уничтожению ради преодоления еврейской «замкнутости». Наконец, он поддерживал мысль министра о том, что обеспечиваемые свечным сбором специальные стипендии для гимназистов-евреев надо отменить, но имеющие высвободиться деньги предлагал расходовать не на ремесленные отделения в уездных училищах (они уже фактически существовали), а на субсидии общеобразовательным женским пансионам («Совместное в общих заведениях обучение русских и еврейских девочек… ослабляло бы… чрез юное женское поколение упорный еврейский сепаратизм и замкнутость, поддерживаемые в мужском еврейском населении»)[2111].
Словом, Корнилов хотел представить дело так, что Виленский округ чуть ли не опережает Одесский, с его просвещенными и секуляризованными евреями, в плавном слиянии общих и еврейских заведений, которое должно завершиться почти само собою[2112]. И это при том, что в составлявшемся в те же самые недели и дни отчете тому же Толстому об управлении ВУО за 1867 год (поданном в МНП незадолго до подкатившей отставки Корнилова в марте 1868-го) он говорил о ликвидации еврейских училищ в ВУО как об осознанной местными властями неотложной задаче, требующей волевого решения и напряжения административных сил[2113]. Почему же он не заговорил об этом непосредственно в ответ на запрос Толстого? Вероятно, для него было важно, оставаясь в рамках служебной субординации, не признать за министерством инициативы в данном деле и провести отмену еврейских училищ по собственному сценарию, в соответствии с местным видением еврейского вопроса[2114]. Письмо Толстого попечителям округов от ноября 1867 года не оставляло сомнений в том, что министр избрал интеграционистский курс: гимназии, где треть или половину учеников составляли евреи, вовсе не казались ему аномалией и удостаивались его публичных похвал[2115]. Он исходил из представления об образовании как наилучшем инструменте «выборочной», но неуклонно расширяющейся интеграции евреев[2116]. Для Корнилова же к 1868 году стала первичной проблемой не необразованность, а изначальная «замкнутость» евреев, понятая в духе брафмановской кагаломании. Ссылаясь на циркуляр Баранова, он писал в отчете за 1867 год, что «в деле полного слияния евреев с прочим населением одной школы недостаточно» – необходимы и другие меры воздействия на «эту грубую и фанатическую массу. …Предположение… графа Баранова о слиянии еврейских обществ с христианскими как нельзя более соответствует осуществлению правительственных целей по отношению к евреям»[2117]. В сущности, Корнилов в этих рассуждениях выходил за пределы должностной и даже ведомственной компетенции, принимая на себя неформальную роль глашатая нового направления в еврейской политике.
Недовоплотившийся призрак: Чиновники начинают бояться еврейского национализма
Перемены умонастроений в начальственных кабинетах Виленского учебного округа происходили в 1867 году параллельно с активизацией работы Комиссии «о преобразовании управления евреями» при генерал-губернаторе. Развернувшиеся в ней летом 1867-го дискуссии о языковой аккультурации евреев отразили в чем-то похожую, а в чем-то отличную от корниловской попытку закрепить за Вильной роль генератора идей в еврейской политике. Как и попечитель ВУО, эксперты генерал-губернатора претендовали на исчерпывающее объяснение тех или иных реакций российского еврейства на правительственную политику. В своих суждениях о языковой ситуации члены комиссии исходили из недопустимости какой бы то ни было поддержки идиша, «жаргона». Незадолго до первого посвященного этой теме заседания (22 мая 1867 года) не раз цитировавшийся выше А. Воль опубликовал в официальной газете «Виленский вестник» статью «Русский язык и евреи», в которой не скупился на самые уничижительные эпитеты по адресу идиша и отказывал ему в толике культурной и исторической самоценности[2118]. Члены комиссии осуждали даже близкие им по духу маскильские публикации на идише, содержащие «насмешки над еврейскими недостатками, бичевание фанатизма и предрассудков». Насмешки и бичевание могли только приветствоваться, но вот «распространение жаргона само по себе есть зло…»[2119]. В то же время комиссия предостерегала против попыток административного запрета идиша и без обиняков заявляла, что годичной давности распоряжение Кауфмана «не имело законного основания» и что «совершенное воспрещение печатать на жаргоне невозможно, так как масса еврейского населения в здешнем крае не знает русского языка»[2120]. Литература на «жаргоне», заключала комиссия, должна остаться «без преследования, но и без поощрений». Впрочем, рекомендованные членами конкретные меры не расходились радикально с начинанием Кауфмана. Предлагалось, во-первых, ограничить ввоз из Германии книг на идише, содействующих «очищению жаргона», т. е. его сближению с немецким[2121], и, во-вторых, указать редакторам и цензорам еврейских изданий, чтобы «недостающие в жаргоне слова для выражения мыслей были пополняемы не из немецкого языка, а из русского». Такое распоряжение цензорам, в подсказанной комиссией формулировке, Баранов вскоре и отдал[2122]. Тем не менее фактическое осуждение комиссией кауфмановской попытки запрета не было лишь словесным декорумом. Эксперты дали понять, что для вытеснения идиша из употребления необходимы позитивные методы языковой политики, охватывающие массу носителей «жаргона». Следовательно, для распространения русского языка требовалась действительно массовая литература.
Обсуждению деятельности правительства в этом направлении комиссия посвятила отдельное заседание. Журнал (протокол) данного заседания – текст весьма незаурядный для документации экспертного совещания, созванного высшим местным начальством как вспомогательное учреждение. Члены комиссии подвергли столичных творцов еврейской политики (хотя и не называя их поименно) принципиальной и откровенной критике, выдержанной в стиле скорее публицистического трактата, нежели служебного меморандума. Впрочем, не была ли эта смелость в своей основе именно бюрократической: эксперты ставили себя чуть ли не в оппозицию центральной администрации под прикрытием той неформальной автономии от Петербурга, которой пользовался институт виленского генерал-губернатора. На дело можно посмотреть и с другой стороны: для высказывания своих взглядов виленские маскилы, входившие в комиссию, сумели инструментализировать традиционное для имперского управления соперничество между генерал-губернаторской и министерской властью.
Основной мишенью для критики стали Министерство народного просвещения и – в той мере, в какой дискуссия касалась административного надзора за иудаизмом, – ДДДИИ, обозначаемые собирательным термином «правительство». В вину им ставилась прежде всего терпимость к немецкому языку в системе образования евреев: «…оно («правительство». – М.Д.) издает еврейские религиозные книги с немецким переводом, оно споспешествует вызову раввинов из Германии и равнодушно слушает, как еврейские проповедники поучают народ на том же немецком языке». МНП заслуживало упрека и за то, что не спешило официально утвердить перемены в программе Виленского раввинского училища, произведенные по инициативе местных деятелей: хотя с 1865 года преподавание еврейских предметов совершается на русском языке, МНП не отменяет прежней, 1853-го, программы, требующей преподавания их на немецком[2123]. В журнале с тревогой упоминались новые веяния в религиозной жизни евреев, в особенности столичных, свидетельствующие об их восприимчивости к протестантской религиозной культуре и, следовательно, сближении с немцами. Так, петербургский главный раввин А. Нейман «вводит новый обряд конфирмования еврейских девиц… и производит им испытание в религиозных предметах на немецком языке; а многие раввины делают попытки усвоить себе при богослужении одежду лютеранских пасторов». Не менее тревожным было то, что, по данным комиссии, участились случаи обращения образованных евреев в лютеранство[2124]. Словом, комиссия предоставляла адресатам своего журнала сделать вывод, что деятельность или, точнее, бездействие центральных ведомств благоприятствует германизации российских евреев.
Комиссия подчеркивала, что невозможно привить русский язык в еврейской среде посредством лишь обучения русской грамоте. Задача виделась гораздо более широкой: «Для того чтобы евреи были бы истинно русскими гражданами, чем они и должны быть, еще недостаточно знать русский язык; нет, язык этот должен сделаться для них таким, на котором бы они говорили в семействе, молились в синагогах, даже мыслили». Этим члены обосновывали свое мнение о необходимости перевода еврейских религиозных книг на русский язык и их распространении «в народе». Стремясь предупредить возражения, так или иначе связанные с позицией Синода, они оговаривались, что русский перевод должен печататься en regard c древнееврейским текстом (дабы отличие от православных изданий бросалось в глаза), но без малейшей примеси «жаргона»[2125].
Аргументация этого пункта предложений вовлекла генерал-губернаторских экспертов в новый раунд полемики – на сей раз с петербургским Обществом для распространения просвещения между евреями (ОПЕ), учрежденным в 1863 году и пользовавшимся поддержкой еврейского банкира и мецената Е.О. Гинцбурга. В чем же состояло разногласие между ними? Лидеры ОПЕ тоже были настроены резко против «жаргона». Еще раньше созыва комиссии в Вильне они ходатайствовали о разрешении перевода Танаха на русский язык. Разделяло же ОПЕ и членов виленской комиссии, в частности, воззрение на функции древнееврейского языка. Знание его, с точки зрения ОПЕ, вовсе не исключало будущего приобщения евреев к русской речи. Уже в начале своей деятельности, в феврале 1864 года, петербургский комитет ОПЕ постановил содействовать популяризации на древнееврейском языке широкого спектра «знаний: естественных, математических, географических, исторических вообще и еврейской истории в особенности, физиологии, гигиены и друг.». Постановка этой цели была созвучна другому программному тезису ОПЕ, а именно: просветительская деятельность будет тем успешнее, чем меньше просветители задевают религиозные чувства единоверцев и нападают «прямо в упор на предрассудки и суеверие». Секулярное, и в особенности естественнонаучное, знание – это «нейтральная почва», где «нет места недоверчивости и подозрительности». С 1864 года ОПЕ выделяло значительные субсидии на научно-популярные издания в области математики, физики, химии, истории и др. Ориентация этих публикаций на широкую публику побудила активистов ОПЕ к размышлениям об оптимальном стиле письма. Они призывали литераторов не подражать архаичному и вычурному библейскому слогу древнееврейского языка и держаться «богатого и гибкого» стиля позднейших богословских сочинений. По их мнению, «раввинский слог» в своем новом, секулярном применении уже был или мог в скором времени стать доступен «массе народа»[2126].






