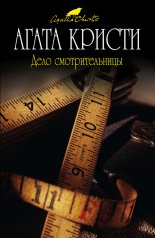Невозможность путешествий Бавильский Дмитрий

Разнобойные, разномастные светофоры
Ни одной библейской святыни
Скобка моря
Сны о доме
2009
Тель-Авив
Шестнадцатая маршрутка (2)
Первой заходит крашеная блондинка не первой молодости с пищащей картонной коробкой, которую она ставит на пол. В коробке прорези для дыхания цыплят. Затем входит, не нагибаясь, глазастый школьник с удивленным взглядом и активной жизненной позицией: с видимым удовольствием он каждый раз включается за процесс передачи сдачи.
На кроссовках у него цепочки. А я представляю, как вечером вся семья этого мальчика соберется за столом. Соберется, ну и все — у этой моей грезы нет морали. Жарко, мозг расслаблен.
Где-то на подъезде к южному Тель-Авиву вваливается ортодокс с пейсами. Белая рубашка, белые носки, черная одежда. Ортодокс утыкается взглядом в лобовое стекло — перед нами едет автобус, на задней стороне которого реклама нижнего белья. Автобус подолгу стоит на светофорах.
На повороте к Левински (значит, большая часть пути уже позади) впархивают две молодые негритоски со стаканчиками пепси.
В маечках. С торчащими в разные стороны сосками. Волосы у них разобраны на мелкие косички; допив газировку, они наливают новую порцию из бутылки, завернутой в бумажный пакет, точно это алкоголь.
Вместе с ними вползает загорелый ашкеназ, похожий на верблюда с пачки «Кемел», который долго устраивается на задах, теряет мелочь, школьник помогает ему собрать монетки, а затем школьника и вовсе пересаживают к «верблюду», так как на очередном перекрестке в маршрутку втискивается громкоголосая бабка, которой хочется сесть поближе к водителю.
Садится. Тут же начинает гортанно горланить, вовлекая в разговор не только водителя в шляпе, постоянно сплевывающего в окно, но и крашеную, слегка пожухшую тетку с цыплятами.
Где-то в середине долгой Левински негритоски, допив пепси, выпархивают, а их место занимает семья, пахнущая индусскими благовониями: маменька и пузатый папенька, оба в шортах, и кудрявая деточка с ангельским личиком.
Затем в маршрутку, где личный состав продолжает меняться, залезает претенциозная тетка с морщинистой кожей в странной полупрозрачной хламиде, многократно прожженной сигаретами; это, вероятно, у нее фан такой, свой способ быть модной. В ее мочках болтаются круги — такие же большие, как и под ее глазами, кажется, худоба ее дурно пахнет. Фея, как я называю ее про себя, начинает громко говорить по телефону, забивая говорливую бабульку с первого сиденья. Общий разговор вянет.
И я обращаю внимание на толстого американца в панаме, вытирающего потную лысину платком.
То, что он из Америки, узнаю из его разговора с маленькой вьетнамкой (скорее всего, она его ассистентка, решаю я). Ассистентка говорит с ним по-английски без какого бы то ни было акцента. У нее звонит трубка, в которую она говорит на непонятном щелкающем наречии, затем, обращаясь к окончательно вспотевшему рохле, вновь переходит на английский, поясняя, что звонила Милла.
А-а-а-а-а, говорит багровая лысина, Милла, как же, знаю, знаю, передавай ей привет.
Американец странно смотрится на фоне тесных азиатских лавок, мелькающих за окном, белых домов, облепленных товарами и людьми, точно муравьями — на фоне всего этого сотворенного антуража, стремящегося стать соприродным. Американец смотрится странно, апострофом, а вьетнамка в картиночке этого мира — как влитая. С ее маленькими наманикюренными (каждый не больше моего мизинца) пальчиками, торчащими из вьетнамок.
На смену фее, вышедшей у поворота на Алленби, вошли интеллигентный ботаник лет двадцати пяти и поджарый эфиоп с сеткой. В сетке продукты.
Теперь, когда море видно в просветы улиц, громче всех говорит длинноногая разбитная деваха. Она тараторит в свою трубку так эмоционально и громко, что кажется, будто в маршрутке стало тесно.
Ее трескотню демонстративно не замечают кудреватая тетка средних лет с замусоленной Торой и девочка-гот.
Потом заходит стриженый парнишка с серьгами на полмочки.
Эфиоп выходит.
Входит неухоженный «строитель» с пышными, неухоженными бакенбардами в поношенном костюмчике, который почему-то садится на пол.
Также хочется упомянуть Иисуса Христа в холщовом хипповом рубище и Марию Магдалину, вошедшую вместе с ним; рыжую конопатую ирландку (звонок на ее мобильном выводил джигу) со связкой воздушных шариков; носатого угрюмого мачо в кипе (он ехал с нами совсем недолго), музыканта с гитарой, напевавшего под нос себе нечто заунывное и, наверное, кого-то еще, хотя дорога заканчивается, упираясь в площадь с фонтанами.
Дальше уже только пляж и море.
Море 2011
II. Существительное
Но менять надо не небо, а душу! Пусть бы ты уехал за широкие моря, пусть бы, как говорит наш Вергилий, «города и берег исчезли», — за тобой везде, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки. То же самое ответил на чей-то вопрос и Сократ: «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя?» — та же причина, что погнала тебя в путь, гонится за тобою. Что толку искать новых мест, впервые видеть города и страны? Сколько ни разъезжай, все пропадет впустую. Ты спросишь, почему тебе невозможно спастись бегством? От себя не убежишь. Надо сбросить с души ее груз, а до того ни одно место тебе не понравится…
Сенека. Из «Нравственных писем к Луцилию»
Места в Чердачинске, напоминающие другие города
Гостиница «Южный Урал», выкрашенная в розовый цвет, — если смотреть на нее от выставочного зала Союза художников на улице Цвиллинга — напоминает венецианское палаццо. Тогда проезжающий мимо красный трамвай усть-катавской сборки — гондола.
Желтый (песчаный) затылок оперного театра — если смотреть на него с середины Кировки (там, где ее пересекает улица Маркса), или, в крайнем случае, от Часового завода — просто «дворец Чаушеску», квинтэссенция помпезной и тупой сталинской архитектуры.
Дорога на чердачинский металлургический завод (ЧМЗ) через промзону («долина смерти») — фильм из далекого и ужасного будущего (а отвалы отходов, по кромке которого спокойно ездят самосвалы, похожи на лунный кратер).
Дом по улице Коммуны с кассами «Аэрофлота», стоящий напротив белого дома с детской библиотекой по улице Пушкина (особенно верхняя его часть), — на пекинские «ласточкины гнезда».
Некоторые аллеи в старой части ЧМЗ и двухэтажная застройка в районе радиозавода — типичный южный курортный городок (так и кажется, что за поворотом вот-вот откроется вид на море).
Полукруглый поворот улицы Цвиллинга (чуть выше кафе «Лакомка» и фотоателье) — если смотреть на него со стороны Первой булочной туда, где окна над аркой и выступающие треугольные эркеры, украшенные ампирной лепниной — это наша Малая (или Новая) Голландия.
Дом на площади Революции со стороны памятника Ленину (среди прочего там — железнодорожное управление), в котором размещен Музей декоративно-прикладного искусства с каслинским литьем — если смотреть на него из нового подземного перехода у входа в Никитинские ряды, он похож на московскую высотку сталинского периода или (если облака поверх него быстро бегут) на «Титаник».
2011
Поселок
Сначала нужно пояснить, что такое «романное пространство» и как оно появилось.
Вообще-то оно может появиться где угодно, стоит только щелкнуть пальцами рук и сказать, что, вот, мол, вот оно, романное пространство, началось.
Щелчок — и все вокруг (и ты сам в том числе) оказывается внутри умозрительно обрамленного пространства; в акватории или кубатуре повышенной семиотической отзывчивости. Все, что ты отныне тут видишь, и все, что отныне с тобой здесь происходит (или не происходит) складывается в умозрительный текст.
Само это понятие — «романное пространство» мы придумали с одним университетским приятелем во время прогулок после занятий.
Филфак наш находится за зданием Теплотехнического института с огромным изображением ордена Победы на фасаде; в него упирается, точнее, от него начинается, главная торговая улица Чердачинска — улица Кирова (и здесь, между прочим, уходит под землю один из самых первых, как по старшинству, так и по стратегической значимости, городских подземных переходов с массой рукавов и выходов), трамвайными путями, протяженной перспективой тянущаяся до площади Революции (если смотреть вдоль Кирова).
Или же, если смотреть вдоль проспекта Победы, то, глядя в сторону Сибири, начинающейся за железнодорожным мостом, можно увидеть Ленинградский мост, чуть погодя упирающийся в железнодорожный мост, стоящий параллельно улице Российской, на которой я прожил какую-то часть своей жизни.
Если же посмотреть в сторону Северо-запада, то не увидишь ничего, кроме холма, исполосованного шоссе, которое скатывается вместе с медленными трамваями к самому началу описываемого перекрестка.
Когда-то Е. В. Александров, главный архитектор советского Чердачинска, озаботился нарастанием в нашем миллионном «промышленном и культурном» центре «кризиса вертикали», из-за чего на вершине плавного холма, ни к селу ни к городу (точнее, спиной к автомобильному училищу, лицом к Сибири) воткнули невзрачную многоэтажку.
Я не знаю, зачем я столько подробно объясняю структуру этого перекрестка, а затем буду пытаться дотошно вложить в голову того, кто читает, карту-схему поселка автоматно-механического завода (АМЗ), но оно так нужно. Тем более если речь идет о пространстве.
Речь о пространстве
Что можно ощущать в обычном городе, лишенном какой бы то ни было культурно-исторической аффектации? Деревни, сгоревшие в истории нынешних кривоногих улиц, ничем таким особенным не отличались и не блистали; Марату Гельману с Чердачинском было бы труднее возиться.
Хотя если вокруг нет ничего, что тянуло бы на туристический пунктум, пунктумом становится, может стать все что угодно — само это вещество повседневности, равномерно (или, напротив, комочками) распространенная каша стадиума.
Кроме того, ты сам становишься пунктумом, сам становишься центром, начиная сплетать вокруг себя стихийную поэму без героя (еще Фуко наглядно показал, как наблюдатель выводит себя за скобки наблюдения и наблюдаемой системы), накапливая эти едва осязаемые (изнанкой затылка) впечатления.
Я убежден, что в эпоху тотальной симулякризации и подмен единственное, что невозможно подделать (единственное, что тебе не изменит) — ощущение и переживание каждого конкретного пространства, в котором ты участвуешь — или же которое участвует в тебе (и тогда ты точно есть).
Время, как сказал Иосиф Бродский, есть голод; им невозможно насытиться; не то что пространством, выигрывающим у кино и театра, а теперь уже даже и у книг.
Пространство — это то единственное, ради чего мы путешествуем (или же сидим дома).
То, что труднее всего описать и еще труднее забрать с собой.
То, что не заменит любые творческие результаты, но подменит их.
То, что все еще непредсказуемо (и, пожалуй, единственное непредсказуемое произведение рук человеческих или их устраненности) и не рассчитано, а потому все еще интересно.
Поэма без героя
А так как мне бумаги не хватило, то я пишу на черновиках чужого пространства (ревматическими трамвайчиками, «икарусами» с подагрой), отутюженного общественным транспортом и изъезженного подержанными иномарками.
Кому принадлежат улицы и переулки?
Площади и перекрестки?
Всем, кто тут ходит, — и никому.
Видите ли, отныне, для того чтобы начать свой «Выбор натуры» или «Путешествие в маленькую страну», мне уже не нужно никуда ездить — все есть здесь, все рядом.
Все там, где ничего нет. Где ничего не видно (глаз замылен) — и где смысл открывается навстречу пытливому взгляду.
Сначала и затем был романтизм с «побегом энтузиаста» в экзотические обстоятельства, потом, соответственно, «экзистенциализм» с бесконечным падением в шахту безвинного «я»; ныне же и вовсе кто в лес, кто по дрова, все личные переживания связываются с вписанностью или невписанностью тебя как тела (тела как тебя) в тот или иной поворот ли, изгиб ли индивидуальной судьбы.
После занятий мы выходили из гуманитарного корпуса, шли к подземному переходу у Теплотеха и, опускаясь ниже уровня земли, словно входили в теплый бассейн всеобщей осмысленности.
Романное пространство включалось едва ли не автоматически, со временем отпала необходимость даже и щелкать пальцами или обмениваться взглядами, мыслями и жестами.
Ты точно плыл вместе с городом навстречу весне и даже лету, которое выглядывало, подобно соседней многоэтажке или реке, скрытой за близлежащим многоквартирником, точно так же, как из-под пятницы выглядывает суббота.
Вот что важно — нынешнее чтение не сильно потворствует беллетристике. Возможно, оттого, что все сюжеты и все инварианты сюжетов вызубрены последним двоечником, возможно, потому, что время ныне такое — не то чтобы бессобытийное, ну уж точно не трагическое. Зря, что ли, трагедии нынче не пишут. И даже драмы, у всех одинаковые, типовые, точно квартиры (порционные), спешат прикидываться мелодрамами.
Читателю скучно следить за сюжетом, он и сам тебе может наворотить такое, что мало не покажется; мысль-то у него, у читателя, вперед фабулы спешит и любое сюжетостроение обгоняет, отвлекаясь на поворотах в сторону себя, своих дел, своего существования.
Вот я и подумал — чем множить сущности искусственные да искусные, не проще ли просто обозначить место для наррации, которое каждый может заполнить героями «по собственному вкусу».
Языковое расширение Чердачинска
Советские города почти никогда не растут естественным образом, без насилия объединения и обобществления окружающего пространства.
Чердачинск, вытянувшийся вдоль дорог, не исключение; однако здесь дороги не объединяют территорию, но разрывают ее на фрагменты. На лоскуты.
Сложные, навороченные остановки общего транспорта, к которым в Чердачинске какая-то особая тяга, схожи со средневековыми крепостями, объединяющими в себе функции защитных сооружений, форпостов цивилизации и общественно доступных трактиров.
Сидя в троллейбусе, спотыкающемся о реконструируемые и перестраиваемые дороги, я почти физически ощущаю, как город мстит насильственному объединению, устраиваясь поудобнее и делясь, четвертуясь на поселки, посады и слободы, улицы и кварталы.
Все эти объединения, вырастающие естественным, органическим путем, ныне, уже в постсоветскую эпоху, вымываются — снос ветхости и деревьев, а также расширение дорог являются косвенным тому свидетельством, лишая Чердачинск последнего вещества уюта, накопленного за годы стабильности и застоя.
Последнего, что держит.
Расширяя дороги, начальство бессознательно чувствует затхлость собственного существования, пытаясь заглушить невротические комплексы судорожными телодвижениями отчаявшегося не утонуть человека (точно так же выглядит и собянинское предложение об удвоении территории Москвы — бежать им всем некуда, а, видно, хочется. Убежать или хотя бы затеряться).
Расширение дорог и зачистка пространства должна как бы способствовать продуванию подведомственной территории, однако власть не понимает, что сквозняк выдувает не только мусор и пыль, но и биологическую основу существования. А возможно, и понимает.
Видимо, по этим расширенным дорогам будут ездить окончательно мутирующие мутанты, а город и дальше продолжит сыпаться — на территории, дольки, фрагменты, куски, щепки, лоскуты; вместо того, чтобы объединяться органическим веществом нормального существования в то, что обычно и подразумевается под словом «город».
Тотальное насилие, унаследованное с советских времен, способно оседлать какую-то часть мира, где, если навалиться всем, может возникнуть кое-что упорядоченное. Наспех нахлобученное поверх естественного рисунка силовых и энергетических полей.
В Чердачинске есть центр, завязанный на проспект Ленина и его окрестности (для точки отсчета поставили специальный памятник «нулевому километру»), которые, в качестве исключения, и являются тем самым городом, построенным по правилам и которого больше нет ни в одном из спальных районов — четыре-пять кварталов вверх от Ленина, четыре-пять вниз, и все. Все прочее — подзагулявшая струганина и обветренный, застывший (остывший) беспорядок, полный брешей и дыр, пустот и беззубости, вне всякой логики нарушаемой разностильными строениями, что отказываются соответствовать друг другу, на каком языке с ними ни говори.
Чердачинск устроен таким образом, что в нем нет никакой нужды ломать старое — разломы между стратами столь велики и ощутимы, что всегда есть пространство для заполнения. Для точечной застройки.
Территории следует не перестраивать или достраивать, но сшивать, пока они окончательно не расползлись по социальным полюсам. Но нет же… Вместо одной дешевой рухляди строится другая рухлядь, на глазах приходящая в негодность.
Центр города чреват почти окончательной упорядоченностью, связывающей по рукам и ногам; систематичность окраины же постепенно сменяется свободным волеизъявлением, встречаясь по дороге не с хаосом, но иным, что ли, более природным, способом устройства. Переходя от надсадной индустриализации и омертвелых пустот зон отчуждения к тонкой полоске одноэтажной жизни. Окраина смотрится более естественной и плавной; вмешательство человека в природу здесь рассеяно и менее систематично — окраине дозволено рубцеваться. Она вся и есть рубец, состоящий из локальных, небольших рубцов, каждый из которых, в свою очередь, исполосован микротрещинами отдельных огородов и садов, одноэтажных хозяйств, огороженных заборами разной степени отвратительности.
В выгребной яме («это наша родина, сынок») есть примитивные, но все же формы жизни — в отличие от колодца, выскобленного многолетним халатным злоупотреблением.
В ней, окраине, больше жизни. Путаной и пыльной, похмельно-запыленной, но живой.
Схема пространства
Собственно, этот текст про поселок начинается (должен был начинаться) здесь. Отсюда.
Чердачинск имеет форму креста, соответственно, поселок лепится к юго-западной его границе, встречаясь там с областью.
Городской бор, возле которого стоит наш дом, устроен по принципу первого тома прустовского «В поисках утраченного времени»: настроение зависит от того, в какую сторону пойдешь, Свана или Германтов.
В сторону Свана — значит, в сторону области, через пять домов улица заканчивается, упираясь в бездыханную зону отчуждения, насыпанную вокруг железной дороги. Там «школа для дураков», непонятные заборы с непонятной начинкой внутри, какие-то трубы, вытащенные из земли наружу и остатки двухэтажных домов с выколотыми глазами; все это разбрелось по поселковой одичалости, заросшей травой в полный рост, которая даже зимой никуда не девается, но стоит под легким наклоном, точно мертвые с косами, особенно отчетливо выделяясь на фоне пористого снега.
Пойти в ту степь, обезображенную неумелым потребительством, означает погрузиться в мучительное прошлое; так детство мое все время смотрело в сторону странных, запущенных и оттого казавшихся повышенно таинственными, территорий.
Там была конечная остановка, детская библиотека и универмаг с игрушками, дальше которого, уже на границе Ойкумены, стоял одноэтажный клуб, служивший главным поселковым кинотеатром (почему-то единственный фильм из всех здесь просмотренных, оставшийся в памяти, — пустая итальянско-французская комедия «Никаких проблем») и местом новогодних утренников.
Клуб и сейчас стоит на изгибе дороги, резко уходящей после него вниз, к берегу Шершневского водохранилища, перламутровой лентой (точно это набросанная кем-то рыбья чешуя), мелькающей поверх одноэтажных домов.
Дальше клуба я никогда не был, даже уже в сознательном возрасте. Даже теперь.
Сторона Германтов, протянувшаяся на другие пять домов (да уж, особенно длинной улицу Печерскую не назовешь) в сторону центра города — это, прежде всего, дома моих поселковых друзей.
Печерская заканчивается четырехэтажной коробкой фабрики для глухонемых, после строительства которой рядом возникает квартал, прозванный в народе «глухарями» — сначала длинная пятиэтажка, затем девятиэтажка, которая даже теперь выглядит необжитой. Третий многоквартирник заселили буквально полгода назад (балконы смотрят сверху вниз на «лоскутики дачных мест, бездонные, точно моря»), и я еще помню, как его строили.
В детстве у меня был пунктик: мне казалось, что на месте этого скучного серого бетонного саркофага должна стоять сторожевая готическая башня, ажурная и черного цвета.
Пока Печерская упиралась в бор (из-за деревьев не было видно «городок» областной психиатрической больницы) оставался шанс, что башня выйдет-таки из сумрака — я ведь был уверен, что она, незримая, действительно там стоит, и когда-нибудь можно будет выкликнуть ее из умозрительных складок, такую загадочную, такую таинственную.
Но после того как сюда воткнули блочную коробку, карма поселка смялась, спутав все направления…
Пространство заполнили пунктумами, точно мебелью заселили, раскидав их по окоему, подобно сказочным испытаниям…
Последняя остановка перед конечной троллейбуса
Поселок городского типа (ПГТ) — компромисс между городом и деревней, натянутый между многоэтажными кварталами, за которыми накапливается город; здесь же, как над театральным партером, висит омут, огромная акустическая яма, внутри которой вызревает автономная жизнь.
Все трудности и сложности поселковой жизни как раз и связаны со смешением жанров и форм: с одной стороны, одноэтажная частнособственническая жизнь с подробным аграрным циклом рассчитана на определенное (неторопливое и уединенное, когда тебя мало что и кто отвлекает) существование, тогда как все уже давным-давно не так — и, с другой стороны, проходимость людей (прохожих, соседей, зевак, солдатиков, чужаков) через эти деревенские улицы вполне себе городская.
Самострой, возникший и распланированный еще до индустриализации, лепился к «градоформирующему предприятию», неспособному обеспечить тружеников жильем, из-за чего хозяйства и стоят здесь с незапамятных времен, практически не сдвинутые с места.
Даже названия улиц не поменялись.
Так и Москва идет-шевелится по следам доисторического посада, однако же там (да и везде, где только можно) на месте изб да засыпных хибар каменные дома выросли, а градус этажности подскочил еще в позапрошлом веке; здесь же все как и раньше, как «тогда». И если бы не амфитеатр многоэтажек (началось все с дома, построенного для глухонемых), постоянно подбирающихся все ближе и ближе к огородам, можно было бы видеть и говорить об исторически достоверном ландшафте бедного уральского поселения.
Никому в голову не придет объявлять этот ландшафт «достоянием человечества» и поручать охранять ЮНЕСКО, ибо, казалось бы, что такого — подумаешь, бездонное небо, годами падающее на низину, расчерченную участками, проливающееся на нее осадками и раскрашивающее хрустальный купол свой переменной облачностью, панорама которой в режиме реального времени — самый что ни на есть естественный кинематограф.
Это же такой пустяк — соразмерность жизни человека и того, что всех окружает.
Поселковое существование, корневое, кулаческое, против всякой советской воли закрепившееся на границах города или на некоторых его улицах, практически исчезло, превратившись в труху, в пыль и теперь мало кому доступно. Нормой ныне повсеместно признаны бетонные квадратные метры, соответственно формирующие соответственного человека. Вот оно, парадоксальное везение русского человека — считать за счастье жизнь в рабочем поселке, степень комфортности которой зависит не от властей, но твоей собственной сноровки и способности провести горячую воду, канализацию. Отстраивались годами, в туалет ходили на улицу, «топтались», как говорила бабушка, накрепко связанные с землей — сезонами, погодой, небом. Между тем жизнь вокруг, то есть за забором нашим менялась, менялась — и изменилась до неузнаваемости.
Вот и к нам в поселок пришла волна «второй индустриализации», имеющей в Чердачинске какие-то особенно уродливые формы: сначала окружили поселок домами, затем срубили лес, отделяющий его от Уфимского тракта…
…И трещит теперь по швам полотно поселковой жизни, давая трещину то там, то здесь — плотно натянутое меж ошметков городского хозяйства, оно все еще выполняет функцию отсутствия внятной (выше человеческого роста) линейности, то есть продолжает ткать неформальность.
Человеку трудно в расчисленном. Даже если он этого и не осознает, влюбленный в привычные маршруты и расписания, жизнь не может сводиться к аппетитам тела — есть же еще и душа. Функцию души внутри города поддерживают (должны) парки и скверы; нужно ли лишний раз обсуждать, в каком они у нас находятся состоянии? Вот почему так важна неправильная поселковая геометрия, подъедаемая со всех сторон логикой бессовестного существования, строй которой так и настроен против всего живого в сторону нарастающего, громыхающего громогласного небытия.
Туман
Точно канализационный вар распустившегося махрами вымокшего аспирина, вдруг стал виден воздух; словно его включили, выключив все вокруг. Нет, не так: все убрали, и все.
Дальше руки время заканчивается (время — это то, что видишь) и начинается пространство (это то, что чувствуешь), словно мир перевоплотился или недовоплотился (или же перевоплощается) в плащевую ткань или в оберточную бумагу, куда ты попросил завернуть цветы (тюльпаны).
Амаркорд возможен только тогда, когда ты уже начал забывать; пока ты все помнишь, прошлое продолжает расти, нарастать щетиной и расчесывать воздух у щек.
Обернувшись, ты разворачиваешься, ах, если бы вглубь, вспять — в возраст не по возрастанию, но убытию, вплоть до фаянса молочных зубов, когда ничего этого (того, что потом появилось вокруг) не было.
Был только этот поселок, прижатый к шершавой столешнице небом как пресс-папье. За тем плавным нижним поворотом влево я всегда предчувствовал море, хотя никогда не видел его. Странное дело, но берег Шершневского водохранилища, огибающий АМЗ, стало видно только тогда, когда точно мухоморы после дождя здесь понатыкали девятиэтажки. Или просто я подрос немного, уровень обзора изменился, и море не только стало видно, но и стало казаться, что оно стало ближе.
Стало, замерзнув.
Встало.
Люди в этом тумане превратились в оводов (эх, жаль, не удалось сфотографировать старушку в черном), машины — в шмелей, а вот дома совсем вочеловечились — мне вдруг показалось, что у старой элитки на Толбухина снесло не крышу, но полчерепа. А потом я словно увидел, что там внутри черепа, но не так, как если бы я туда заглянул и вижу вермишель извилин, — а точно на все, что вокруг, я смотрел изнутри, и волны памяти щекотали мой эпидермис. Другие дома (причем я отчетливо различал среди них мужчин в халатах и даже женщину в чепчике для душа) выходили из теплого влажного конденсата, оперившего деревья, как из ванной; кокетливо отдернув забрызганную занавеску, женщина уже накрутила у себя на голове махровое полотенце, жадно впитывающее ее запах и не способное этим запахом напиться.
Пожалуй, туман не был равномерным, он пульсировал точно музыка и пытался превратить любое усилие в фотобрак: особенно плотный он спустился, когда я забрел на стадион. Возможно, просто на стадионе и был самый сильный туман. Возможно, стадион был центром тумана или же туман тут вырабатывался, точно солярис.
До полной водонепроницаемости.
До северного сияния.
До лунного затмения.
До короткого замыкания.
Я никогда не играл здесь в футбол и не катался на коньках, я делал все это на других стадионах, в других районах Чердачинска, однако ложная память меня вынуждает точно вспомнить, как все тут было. Шерстяные варежки, говорок из репродуктора, сахарный песок над беговой дорожкой, вчерашние и завтрашние мозоли, рука об руку пары по кругу, по кругу…
Я никого не вижу в тумане, кроме мамы; папа ушел на работу, день, одним глотком проглотив вечер, незаметно превратился в ночь, ночь — в этот туман; только ночью не видно не так, как теперь, то есть слепо, но ночью ничего не видно остро.
Улица Печерская
Мне сегодня хотелось убить человека. Точнее, людей, которые продолжали вырубать деревья, остатки густой рощи, напротив поселка, которой больше нет…
Наемники на экскаваторах замахивались и с диким, лопающимся звуком-скрежетом валили деревья, которые я помню с детства и которые были не только в моем детстве, но и в детстве моей мамы.
Высокие и стройные, резко возвышавшиеся над всеми остальными деревьями и поселком, подобно опознавательным знакам, ориентирам, они падали с надломленными, едва ли не человеческими криками, последний раз протягивая ветви к небу, в которое упирались все эти годы.
В городе сегодня солнце и ветер, оставленные в заложниках; живые еще деревья маются, изгибаясь от ужаса собственной участи. Мимо места сноса, как ни в чем ни бывало, сновали соседи, прогуливались дети с леденцами на палочке, вот только что прошли две девушки с чипсами.
Действиями трактористов руководил бригадир, бегающий вокруг территории сноса, с мобилкой у правого уха, которая кажется, приросла там. Понятно, что его наняли, что он человек подневольный, точно так же, как все эти строители и трактористы, закончившие расчистку бывшего леса, раскатавшие пространство в рыжий от песка и глины блин, в котором вырыли фундамент для строительства… Но от этого не легче.
Вот его-то мне и хотелось убить. Выстрелить ему в глаз или в сердце, только чтобы не слышать лязганья гусениц и рева бензопилы, которой деревья расчленяют на фрагменты.
Все началось некоторое время назад, когда весь лес, отделяющий нашу деревню от шумной федеральной трассы, снесли почти подчистую, поставив забор во всю ширину вырубки и оставив узкую полоску деревьев возле крайней к тракту улицы. А сегодня принялись и за нее. За последнюю полоску.
Месяц я наблюдал через свое окно остатки рощи, за густой листвой которой ворочались тракторы и грузовики и все откладывал эту тему; пустить ее в свой текст — все равно как признать, что пустил негодяев под отчую крышу… Ходил мимо, чувствуя укор, и сглатывал обиду за всех сразу и всеобщее же бессилье: против лома нет приема, тем более если земля куплена официально.
В Переделкино, где с благословения патриарха начали рубить деревья, писательская общественность, возможно, и отстоит липовую аллею, бог в помощь. Наш случай совершенно иной.
Когда-то Иосиф Бродский рассказал Соломону Волкову про старика арестанта, ехавшего с ним в одном тюремном вагоне. Про арест поэта, разумеется, с утра и до вечера шумели все вражьи голоса. А тот крестьянин с большими сильными руками, сгинет, понимал Бродский, в государственной мясорубке без следа…
Таков же и наш случай. Сделать ничего нельзя, не пастернаковская аллея, живой щит, хотя бы отчасти спасавший Чердачинск от пыли и шума, выбросов и вбросов, теперь остался лишь на гугловских картах. По краям кое-как заасфальтированных дорог стоят искореженные обрубки.
Самое поразительное в этой истории то, что повсеместно рубят деревья в одном из самых грязных городов страны!
Вид из окна
Я сижу у окна и смотрю, как поднимается солнце. По небу плывут облака, похожие на льдины, иной раз словно бы видно воду, по которой они плывут — почти проталины, а кое-где поток затуманен и уходит вглубь. Из-за воздушной многослойной полистилистики и происходит вскрытие светила.
Для тех в Москве, кто уже забыл, как они (и вскрытие, и светило) выглядят, попытаюсь описать.
Желток, сваренный в чифире или йоде, обернутый золотистой мятой бумагой или же подбитый, набухший глаз, с кровавым подбоем, не дошедшим до состояния кровоподтека, ибо проносящиеся мимо облака облегчают участь, рассасывают сгущение, разносят вираж по всему выцветшему, разорвавшемуся на лоскуты пространству.
Из-за самой большой льдины, что подбила сам глаз, кажется: желток лежит плашмя, нарыв сейчас прорвется, и день пойдет гулять… Ан нет: Уфимский тракт внизу (загороженный сумеречными деревьями) еще пуст, и день не торопится сбыться.
Значит, перед домом проходит дорога номер раз — это улица, улица обычного пригородного поселка, белая, со следами машин, такими продольными, как если бы дорога была тампоном, которым протяжно подтирали промежность; только улица эта односторонняя, нечетной стороны не существует.
Точнее, она существует, но по ту сторону тропинки, разделяющей поселок на две неравные части (с одной стороны психбольница и фабрика глухонемых, с другой, оканчивающейся железнодорожными путями, целый завод, некогда работавший на оборону), окруженные зонами запустения и отчуждения.
Дом выходит на дорогу и на небольшую площадку, некогда бывшую картофельным полем. Когда бабушка и дедушка были еще живы, то здесь, перед забором, между дорогой и рощицей, сажали картошку.
Однако позже, в конце семидесятых, в поселке проложили теплотрассу, и картошку сажать перестали. Странно, но и горячей воды не прибавилось, кажется, и отопления тоже. Отопление появилось еще позже — с газификацией поселка, не имеющего, между прочим, названия.
Но я же смотрю в окно, а не по сторонам. Поскольку я сижу на втором этаже, я не вижу дорогу номер раз и следующие за ней бывшие картофельные поля (какие поля? небольшие площадки не больше площадки для выгула собак), где теперь громоздятся отходы строительства нашего дома, доски, блоки, песок. Все это, и даже голубой гараж, занесено белым снегом.
За бывшими картофельными площадками начинается роща, отделяющая наш поселок от Уфимского тракта — местной Ленинградки и Волоколамки одновременно.
Странная роща, состоящая в основном из кленов, тополей и ясеней, кусок девственного небритого лобка с непроходимой чащей из кустов и упавших деревьев.
В детстве этот участок лобка казался мне зело таинственным, иногда мы играли там во что-то типа пряток (?), теперь мне противно и страшно туда заходить.
Правда, теперь весь этот лосиный остров погнутых в разные стороны деревьев занесен снегом по самые коленные суставы ясеней, из-за чего запущенности меньше и видно, что деревья стоят далеко друг от друга, путаясь лишь кронами с проседью — остатками не пережеванной осенью листвы.
Сразу за этой рощицей (она не больше километра в длину и метро сто в ширину) шумит Уфимский тракт — основная дорога, выводящая машины из города за город; она должна шуметь, но не шумит, просто рано и празднично, даже дуги троллейбусов не сверкают, а может быть, это стеклопакеты отгораживают от шума и холода…
Там в воздухе зимой всегда слегка кисловато-горьковатый привкус, не привкус даже, аромат, амбре, искусственного происхождения, словно нарочно разбрызганное что-то; машинный мускус, пахучая смола ползучего городского предместья… Сжигаемого в печке угля.
А если тракта (он широкий, ровный) не слышно, значит, его и не видно. Сразу за ним в детстве моем был пустырь, а теперь там военная часть, что делает эту местность еще менее родной, еще более отчужденной.
Теперь на троллейбусной остановке, с другой стороны, сразу за высоким армейским забором стоит желтая четырехэтажная казарма, и с крыши валит густой дым: печку они там топят, что ли?
Солнце сейчас поднимается все выше и выше, из-за чего в окнах казармы, похожей на обычный жилой дом, отражаются изломанные и изорванные лучи.
Солнце теперь не лежит плашмя, оно встало, разгладило отекшие члены и подтянулось как на турнике над верхушками древесных путаников, из-за чего ветки словно бы истончились, заточились наподобие зубочисток и стали казаться особенно колючими. Смотреть на светило уже невозможно — его сладостный пуп набух соками жизни, и вот теперь, когда я переношу его энергию в текст, негативы, запечатленные моей сетчаткой, незримо сползают по экрану флатрона.
Итак, я вижу слои, (пропущенный слой) — поселковая дорога (дорога номер раз), сразу за ней еще один пропущенный слой — бывшее картофельное поле — площадка — полоска белой земли, упирающейся в лесок-мысок, за которым на пригорке еще один невидимый слой Уфимского тракта (дорога номер два), на высоком берегу на крутом которого стоит воинская часть. Часть эта торчит из-за деревьев четырехэтажкой, и сразу над ней начинается небо, в котором играют уже свои слои.
Так оказывается (судя по количеству невидимых слоев), я не вижу больше, чем вижу (+ отблеск солнца на алюминии, проложенном между стеклами стеклопакета + отблески солнца на моих очках, из-за чего начинает казаться, будто солнце у меня не впереди, а где-то сзади, где обязательно должно быть еще и невидимое море), однако все это невидимое активно участвует в ландшафте, в моем ощущении этого выученного назубок пейзажа.
Это важно, ибо очень часто я ловлю себя на том, что несу в себе места своего постоянного пребывания — эти или те, московские. Я не вспоминаю про них, не выкликаю, не загружаю в оперативную память, но они длятся параллельно моему существованию в каком-то внутреннем зрении внутренним зрением всегда и время от времени обращают на себя внимание.
Они обращают на себя внимание, и тогда я словно бы делаю их чуть ярче, выделяю, а потом, за ненадобностью, они снова возвращаются на полку, архивируются, так до конца и не пропадая из оперативки.
Важно также, что это не застывший образ (отчего я и не могу назвать его воспоминанием), но какая-то длящаяся параллельно жизнь — вот как эта невидимая со второго этажа дорога, изгвазданная человеческими следами. Впитанное, изображение всего этого живет внутри, живет и развивается, как давно любимый-нелюбимый человек, вошедший в мою кровь вирусом своего существования.
Солнце поднимается еще выше; окончательно распустить космы ему мешает переменная облачность, однако в щелочку я вижу его как пирсинг на пляже у какой-нибудь вертяшки, словно там серьга 585-й пробы, сливочное золото, свет которого смешивается с позывными шоу Малахова, доносящегося с первого этажа — это мама встала, чтобы впустить кошек, да так и закружилась по хозяйству. Вот и утро, вот и светло так, что можно не смотреть в экран окна, но начинать описывать, например, саму комнату. Или дом.
Дом
Дом наш, несколько вытянутый в длину, стоит боками с севера на юг (или же с юга на север, смотря с какой стороны посмотреть), параллельно Уфимскому тракту с востока, отделяя собой поселок АМЗ, что расползается в разные стороны с закатного запада.
Поэтому, когда в темноте идешь, скажем, в туалет, слева от тебя шумит, шелестит полуночное шоссе, справа же полная, если бы не собаки в каждом дворе, тишина.
Слева уже начинается рассвет, и над омоновскими казармами в чернила кто-то добавляет каплю молока и оливкового масла, затем еще и еще, пока баланс темных сил и светлых полутонов не сравняется, придавая очертаниям тракта и котлована между ним и нами необходимую для зрения упругость.
Тогда как справа от дома, несмотря на рассвет у тракта, темно и пусто, как в открытом космосе, и только разбитый градусник, высыпавший ртуть на хребет небесного свода, лениво посверкивает солью на шмате свиного сала, пока и на нем, через какое-то время, не начинают проступать розовые прожилки.
И эта разделенность на «лево» и «право», восток и запад, свет и тьму, шум и тихую ярость, посапывающую под снежной, постепенно нарастающей до какого-то песцового состояния, шапкой, может служить какой угодно метафорой, аллегорией или символом; бери сколько не жалко.
Под Новый год необходим снегопад, оседающий внутри организма повышенной степенью сонливости и внутричерепного давления (точно, он там, где-то внутри нутра идет, а не снаружи), «буря мглою небо кроет», и стрельчатые морозы, подобные готическим башням, выстреливающие сухим порохом, нестрашно пугающие и тут же проходящие. Конец декабря, плавно переползающий в январь без всего этого ассорти, завернутого в неласковую фольгу, немыслим, и крайне важно соответствовать своему предназначению, так сказать, сверить стрелки, которые не отстают и не бегут, но идут по глубокому снегу след в след. Не то что в срединной России, Москве и, тем более, Европе. Чем дальше на Восток, тем природа все менее и менее избалованна. Похожая то ли на нянечку с вишневым вареньем («секрет знали»), то ли на Арину Родионовну, она, видимо, просто не может иначе; постмодернизмы всякие, похожие на катаракту или глаукому, ей, гагаре, недоступны.
Зимние доносы, наконец, добрались от Москвы до Чердачинска, на полдня (точнее, полночи) опоздали, их ждали к полуночи, когда в зоне атмосферного давления возникают пролежни и в котлован подтекает, но снег добрался до столицы Южного Урала лишь к обеду, плотно откушав по дороге творожной массы с изюмом, куриной лапши с яйцом под майонезом, ну и прочей деликатесии.
И разделяем (да?) на процесс и результат, который один только, кажется, и уловим, хотя, разумеется, процесс важнее. Сам посуди: пока падает, объективно не отразишь. Жди конца и собирай поживу.
Все время пытаюсь поймать: чем же, чем все эти обильные осадки столь привлекательны? Радуешься, тревожишься, умиляешься и все равно ведь живешь как-то иначе, не так, как обычно. Как если живешь, неожиданно перебравшись из зимы в лето или наоборот: внутри огромного хронотопа образуется локальный, который, тем не менее, воздействует как огромный… хотя, как в случае с восприятием музыки, конечность снега или же дождя принципиальна, иначе никак не получится притчи про время. В данном случае — про пространство и время, ведь до нас добрел, действительно, московский снегопад. Впрочем, неважно.
Обычно изменения в жизни возникают, если приложить усилия, обливаясь слезами; потом воротишь свою реальность, выкорчевывая пни. А тут точно телевизор включил: изменения, наложенным платежом или же отсроченной справедливостью, сами приходят к тебе домой, находят по неуказанному адресу. Пассивно воспринимая, ты получаешь то, что не заработал и не заслужил: со-природное единение всего со всем, объединение, объединяющего в дырявое, дырчатое брюссельское кружево проститутку и президентов. Когда единственное твое достижение — оказаться в правильное, снежное время в правильном, покрываемом месте.
Хотел сравнить сие с поездкой к морю-океану или на воды, тоже ведь включающие исключение, однако здесь воля и логика приводят тебя к результату; а когда валит валом с неба, потом разберем, само попадало ибо.
Чем выше нарастают крыши у соседских домов, тем, соответственно, тише и теплее жизнь, в этих самых домах затаившаяся, стелющаяся понизу и вырывающаяся паром в небеса. Реальность, весь год копившая психическое напряжение и постоянно накапливавшая его с помощью многочисленных смертей, уравненных стальной поступью календаря, жутких событий из новостных лент, неприятных намерений неприятных людей, да и просто отсутствием неба за окном, будто бы отпустила вожжи.
То есть вся эта какофония звучала, визжала и ухала, все громче и громче, вливаясь через ушные раковины, портила почки, селезенку и даже поджелудочную, а теперь вроде бы как растворилась в белой-белой мгле, осыпающейся на наши дома откуда-то сверху в обмен на пар и дым, поднимающийся вверх; оставляя каждого под этой рыхлой толщей в его собственном, персональном одиночестве его персонального сугроба, внутри которого темно, тепло, а, главное, несложно, отчего и не хочется, совершенно не хочется, вылезать наружу. Ведь вылезти сейчас — точно родиться заново.
Находишься будто бы внутри сувенирного шара; если потрясти его, начинает падать снег. Или же внутри инсталляции Александра Бродского с шарманкой. Разница лишь в том, что музыкальное сопровождение ты себе придумываешь сам, а не заказываешь его вместе с кружением снега.
Выпала, значит, компенсация, остановочка, перекур, когда все оказались позабыты-позаброшены, закинуты далеко в снег; и как же можно было знать об этом заранее, что вот ведь в начале года выйдет всем десятидневный (или сколько его там отпущено) манифест свободы воли, который нужно пережить во имя наполнения полостей иммунитета.
Ничего не остается, кроме сна, размытости переходов от— и в-; так фигуристы скользят по краю, так водомерка широко шагает, не забыв выключить телевизор. Корабли на приколе или заплатки на материи, или же сгрудившийся в сарае садовый инвентарь — лопаты, грабли, шланги и что-то еще, о чем всегда забываешь.
Важно только, что места, то есть, пространства, совсем не осталось, а то, что осталось — оно как магнитофонная пленка оказывается каким-то заезженным и пыльным, сколько бы ты ни убирался. Там что-то особенное, значит, творится с этим пространством, изменяющимся под воздействием времени и всех этих растянутых и незаметных переходов.
Это же как в жару, от которой не скрыться и которая превращает тебя в колокол с огромным молчаливым языком внутри: есть вся эта летняя плывущая куда-то декорация и есть ты, центр мира, внутри которого еще прохладно. Вот и теперь центр мира, похожий на рождественский вертеп или пещеру с парой-другой свечек — это ты, лежащий с книжкой в огромном доме и сопоставляющий ощущения.
Скажем, когда дом многоквартирный, то ощущения этого дома, его расположенности в окружающем пространстве, разделено на всех жителей этого дома, сидящих по своим панельным квадратам, из-за чего ощущения эти мелки и невыразительны; зато если ты в своем доме, не считая родителей и кошки с котятами, практически один с раздутой от мыслей, гипертрофированной головой, то ощущение того, как стоит этот дом, слегка вытянутый с севера на юг и поддерживающий линию домов на этой улице, оказывается сильным и крайне воздействующим. Тем более что ты лежишь, вытянувшись ровно по ходу этого отсутствующего движения, качающегося на отсутствующих волнах, прирастающих не снизу, но сверху.
В сторону области (завода, железной дороги, библиотеки и конечной остановки). Школа для дураков
Все странным образом рифмовалось, но не буквами, а цифрами.
Вдруг мама рассказывает, что сначала номер у ее школы был 89 (точно такой же, как у школы совсем на другом конце города, в котором, вечность сбоку, учились мы с сестрой Леной); затем, когда в ней уже училась моя мама, она носила номер 97 — тот самый номер, что ныне носит другая, уже снесенная школа на другой стороне той же улицы, которая называлась…
Улица называлась Калининградской. Калининградской она называется и сейчас, а вот школа снова была переименована…
Когда в ней уже училась, еще будучи маленькой, моя мама, отдельную боковую комнатку на первом этаже (та освободилась, когда директриса Ксения Иннокентьевна получила квартиру), заняла Мария Епифановна, бывшая фронтовичка небольшого росточка, с вечной папиросой в углу рта. Она собирала в бывших директорских апартаментах детей с задержкой в умственном развитии, выявляемом по итогам то ли третьего, то ли четвертого класса, и занималась тем, что сейчас называется «социальной реабилитацией»: помимо пары общеобразовательных предметов, она учила девочек шить, а мальчиков — сапожному делу.
Почему-то таких детей становилось все больше, их начинали свозить сюда со всех концов окоема, из-за чего школу пересчитали на понижение номера, сделав ее 83-й, тогда как все «нормальные» дети вместе со своим привычным номером 97 переехали на другую сторону Калининградской, поближе к гастроному. Теперь старый корпус 97-й разрушен, новый отдали детскому садику, а здесь оставили только тех детей, кто в этом нуждался.
Одним из первых учеников Марьи Епифановны был Таракан — наш сосед по подъезду на Куйбышева-Просторной, высокий, усатый мужик с четвертого этажа. Поселковые бараки сносили, всех с южной и юго-западной окраины переселяли на северо-запад. Мы там получили квартиру на первом этаже, но когда район был уже обжитым, переехали туда с Лебединского. Мама сразу узнала Таракана, а он ее, думаю, нет; уже тогда крепко пил, смотрел на мир мутным, хотя и внимательным взором.
Но самое случайное и оттого подозрительно-поразительное то, что школа, стоявшая по соседству с нашим новым местом проживания, которую я благополучно и закончил (а затем, семь лет спустя, по моим следам, ее закончила и сестра Лена) числилась 89-й.
Таким образом, круг-то и замкнулся.
У меня же с этими территориями в детстве были связаны свои планы.