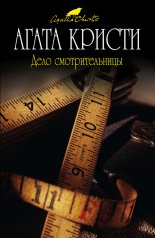Невозможность путешествий Бавильский Дмитрий

9. Девяточка
Сегодня Ян снова мне иглой снизу подбородка тыкал, третий раз уже, получается, а все как в первый — ноги начинают дрыгаться, как в афазии, голова тянется вверх, вслед за направлением иглы, протыкающей (сегодня я это особенно четко почувствовал, когда спичечка-спица по резцу скользнула) плоть.
Объясняя сегодняшнюю стратегию, Ян не зовет переводчицу, ему достаточно самому знать, что к чему. У нас, мол, самообслуживание, желаешь знать — зови сам.
Я позвал, девочка совсем, переводит, а самой смотреть страшно. Былинкой трепещет в дверях. Подбадривает.
— Хорошо держитесь, — говорит, — некоторые пациенты в обмороки падают, некоторые плакать начинают, а один мужчина даже доктора укусил.
Мысль все-таки важнее боли. С одной стороны, она заставляет держать себя в руках, так как мне привычно смотреть на себя со стороны (представишь, что это выглядит «сценой с удушением», так и замрешь, каменея, несмотря ни на что), с другой — вслед за иголкой ощупывать «полость рта», понимая, что особой опасности прокол не представляет.
Перед тем как воткнуть первую спицу, Ян, точно слепой, ощупывает мне щеку-остров, щеку-сушу, объясняя на своем, чирикающем, что область выздоровления идет именно от этой территории, взятой им, уже который раз, в блокаду.
Вот отчего он сегодня выбирал для прокола совсем новые места над верхней губой, там, где центровая бороздочка, а также вновь вспомнил про вторую руку (последние сеансы он делал укол мне лишь в правый бугорок мускула возле большого пальца).
Тело помнит… и там, где Ян уже колол, нерв воспринимает вторжение «шомпола» легко, осмысленно, а когда китаец находит новую площадку, жди очередной потери болевой невинности; зря, что ли, говорится про большие глаза у страха? Теперь я представляю, каково это — делать пирсинг…
Начертив иглами письмена на лице, оставив меня сушиться гербарием, Ян ушел сестричек кадрить. Слышу, как они его русским словам обучают. «Спаси-бо». «Пожалуйста» «Пока-пока».
Русский с китайцем — братья навек. Слышу как переводчица, та, что меня подбадривала (стараясь при этом рядом не стоять, держать дистанцию, точно корчи мои прыгучи или заразны) подружке жалуется, что «а Доктор Янь сказал мне, что я потолстела».
Ну, доктор врать не будет, сколько с китайцами ни общаюсь, вижу — простые они совсем и, несмотря на стереотип, стараются обходиться без церемоний. А глаз у него — алмаз и основа профессии.
Пока меня кололи, на город спустилась новогодняя мгла, температура воздуха понизилась чуть ли не в два раза, окружающее больницу пространство снова стало обжигающим. Представляю уличную пустоту, пока до остановки через четыре (!) светофора дойдешь, случайные дома разбросаны как игральные камни — что выпало, то и выпало. Неуютно. В Москве пустота означает снос, нарушение застройки, выбитые зубы инфраструктуры; в Чердачинске же на месте пустыря никогда ничего не существовало.
Изгвазданная первозданность и пустопорожнее, без какого бы то ни было смысла или же намерения, искривление геометрии.
Ни грана плана, как вышло — так и вышло, про людей и про завтра (тем более, послезавтра) никто не подумал. Важней всего людям жилье дать, бараки расселить, тепло к жилищам подвести, а что в конечном счете это не город получился, а растянутый на город-миллионник поселок городского типа, мало кого волнует, и что самое неприятное (безнадежное), не только начальство, но и жителей этих, в теплые комнаты без всякого плана расселенных.
Это в мое лицо, все еще чем-то становящееся, во что-то все еще превращающееся, Ян втыкает спицы по своей, китайской, но логике, а Чердачинск — он даже и не китайский, не караван-сарай или площадка для кочевья. Больше всего он похож на сплошную строительную площадку, где, правда, уже давным-давно не строят, лишь время от времени втыкая в воспаленные участки суши новые высотки. Именно поэтому здесь так много домов, обозначенных буквами; нигде я столько букв в адресах не встречал; ибо изначальная, какая-никакая, улица наживулена четной или нечетной пагинацией, а дальнейшее стремление пространство раздвинуть приводит к окончательной путанице.
Ну а пространства много, вагонами, причем его столько же и осталось, никуда оно не переводится, как и характер уральский, особый, подовый, этими самыми прогонами и продувами пустоты закаленный (пока ветер всю округу, засыпанную битым льдом не обойдет, озверев по краям от осколочных ранений, обжиг кожи не успокоится).
Мы ж тут все как хуторяне себя чувствуем (ощущаем, живем, ведем, проявляемся) — дома стоят друг от друга на расстоянии, всяк сам по себе; вот и люди себя точно так же (каждый в свою особость повернут) чувствуют. Оттого никому даже мысли такой, в подъезде столкнувшись, не придет — поздороваться или место уступить.
Каким бы тесным или старорежимным подъезд ни был, главное ведь даже не мебель, но чтобы гроб проходил.
Вот отчего в маршрутках я и чувствую новую процессуальность, и для меня эти «божьи коровки», набитые усталыми людьми, засыпающими в преждевременном тепле, важнее столичных митингов и прочей гражданственности, заточенной на результат. Мне почему-то важно, что машины тут, в одном отдельно взятом ПГТ, еще неокончательно победили «мясные машины» и победа все же будет за нами.
10. Десять дней одного кода
На прощание Ян вколол, если можно так сказать, двойную дозу — дело не в количестве иголок (сегодня их было десять, не на много более обычного), но в силе и расположении ударов, вбивающих спицы.
Некоторым иглам он позволил выйти концом наружу; две иглы споткнулись внутри моей щеки друг о друга, завибрировали. Верхняя, вошедшая в лицо над верхним веком, прижала мышцу, ответственную за моргание, из-за чего глаз потек, прекратив на время закрываться.
Промокнуть его платком я не мог, так как самые болезненные спицы Ян, комментируя действия гортанными, клокочущими звуками, похожими на гусиный гогот, воткнул мне в подушечки возле пальцев (они и сейчас, вспухшие, болят, мешая печатать, любое движение рук преодолевает внутреннюю зажатость мускула, словно бы собранного в единый нервный узел металлической скобой).
Другой болезненный штрих пришелся на заднюю (под ухом) точку смычки челюстей, из-за чего стало больно глотать и приходилось все 15 минут, пока длился сеанс, делать это как бы бессознательно, на полуавтомате, помогая сводам внутренней пещеры быть не только осязаемыми, но и зримыми. Каждый раз, вгоняя очередную иголку, Ян вольно или невольно привлекал мое внимание к боли, отстраивающей сознание в струнку, разглаживая таким образом мысленные мысли, вытесняя информационную шелуху, точнее, спрессовывая ее, загоняя куда-то вбок. Ну да, боль как раз и вызывает медитацию, так как тело становится особенно чувствительным и, значит, проницаемым. Проницательным.
Пустота — единственное, что может с болью если и не бороться, то перекрывать ее собственными волнами беззвучного и обездвиженного зубовного скрежета. Сижу, пригвожденный, и слышу за стенкой собачий скулеж с подвыванием — так обычно собаки за хозяйское внимание борются. Когда непонятно, радуется песик или плачет.
Вот, значит, какой ты, цветочек аленький: вот, оказывается, как это слышится со стороны, когда тебе металлические спицы в тело вкручивают…
…а потом, соответственно, выкручивают, оставляя бонусом ощущение инородного тела, продолжающего по памяти ныть где-то возле центра принятия решений с такой силой, что я уточняю у сестрички: «Вы точно все иголки вытащили?» А то мне самому, по упадку сил, непонятно: каждый выход металла уносит из тебя частичку, ну, будем думать, болезни, а не чего-то иного.
— Точно-точно, — отзывается Леночка. С печальной преданностью в глазах.
После процедур первым делом бежишь в туалет, только бы появилась возможность закрыться изнутри и перестать напрягать лицо «официальной гримасой»; расслабить его, пока никто не видит, пару минут разглядывая узоры на плитке… Затем натягиваешь старое выражение, отстраненно-деловое, равнодушно-потухшее и выходишь в свет. К людям.
На улице сегодня яркий яблочный сок; кажется, что солнце не одно, их несколько, что позволяет светить со всех сторон одновременно; щуришься, на ходу прикладываешь носовой платок к уголкам глаз, автоматически отмечая и точно опуская в умозрительную копилку каждый пустой рекламный билборд.
Кажется, свободных рекламных плоскостей в Чердачинске все больше и больше. Оно, разумеется, понятно почему — кризис и все такое, но с мокрых глаз хочется думать, что таким, стихийным, образом город борется за дополнительную осмысленность обжитых территорий, отторгая максимум возможных лозунгов, слоганов и мотто. Жаль, эти билборды к тексту не подошьешь, не приколешь — кажется, что рядом с их пустыми экранами (какие-то из них более фундаментальны и покрашены белым, другие сколочены из листов древесины) образуются зоны покоя, и привычная городская турбулентность не то отступает, не то затихает, съеживается.
Точно волны расходятся, уступая место отливу всего, что тут обычно бывает — людей, звуков, машин, олеографических привкусов и расцветок; кажется, даже ветра и морозного покалывания кожи становится меньше. Точно ты не здесь, но на острове, пусть слегка обитаемом, но далеком и всеми заброшенном; тебе тепло и скучно, ты понимаешь, что окончательно свободен.
То есть пока тебя кололи, ты был при деле и — буквально и метафорически — подколот к занятию, определявшему последние две, что ли, недели; а теперь все, китаец сделал свое дело, и ты остался один, совсем один. Принадлежа лишь себе и болезни.
Можешь куда угодно идти, что угодно делать, поскольку план исчерпан и тебя уже ничего тут не держит.
Еще неизвестно, что лучше.
Смородина
Бал манекенов
Расскажу вам, почему я не был в чердачинских драматических театрах с того самого дня, когда уволился с должности завлита из тогда еще Цвиллинговского театра.
Постоянных трупп в городе наберется с десяток: именно театральное искусство является квинтэссенцией духа этого места. И потому, что любой спектакль — это всегда местные тела, оформленные местными бутафорами; и потому, что месседж, посылаемый в зал, адресован сугубо местной (чужие здесь не ходят) аудитории.
Свои — для своих, теми средствами и силами, на какие способны.
В кино и в телевизоре можно показывать закупленное на стороне, картины и гравюры можно срисовывать в интернете или вывозить с пленэра в других городах. Книги и вовсе пишутся в параллельном измерении, подчас мало зависящем от локуса.
И только психофизика конкретных людей, с их неповторимыми интонациями, извивами биографий и ежедневным рационом (вплоть до прогулочных маршрутов), наложенными на возможности местных режиссеров-сценографов, бутафорских (и прочих) цехов выдают то, что я бы назвал центром эпистемы того или иного конкретного места.
Советские театры на главных площадях областных и районных центров, некие пантеоны, оказываются главными хранителями неуловимого вещества, местного identity, которое только здесь, в залах без окон, и сохраняется. Улицы перестраивают, дороги расширяют, деревья рубят — а здесь свой хронотоп неизбывности.
Схожим продуктом для внутреннего употребления также являются местные теленовости, их, однако, прессуют и форматируют, да и конкуренция велика, не сравнить с театральной, тут же, внутри «зданий с колоннами», загустевает, заболачивается «океан вещества — вещество…». Оттого только про театр и можно сказать, что вот оно, зримо явленное, ничуть себя не стесняющееся и само себя не познающее коллективное бессознательное per se.
На моей памяти с литературой и другими искусствами, так или иначе, в городе был швах. И только театры цвели, объявляя премьеру за премьерой, проводя фестивали и смотры-конкурсы, привлекая к себе пристальное внимание городской общественности. То, что Чердачинск — театральный город, признавалось как очевидный, не требующий доказательств, факт.
У нас любят пичкать себя странными, непонятно откуда взявшимися мифологемами, вспухающими от хронического голода, что-то типа «зато у нас самое вкусное мороженое» (ударение здесь, вероятно, падает на «зато») или «у нас самые красивые озера, уральская Швейцария».
Так и с театрами: сам факт их бесперебойной работы обеспечивает алиби «крупному промышленному и культурному центру», обслуживая потребности не только интеллектуальных запросов, но и светской жизни (новое платье есть куда надеть).
Это ведь и есть «суровый стиль» в действии; если вспомнить советскую живопись, картины Попкова и Коржева, то можно (приблизительно, конечно) почувствовать и ту обобщенную манеру, в которой существует южноуральский театр вне зависимости от принадлежности к той или иной труппе. И не то чтобы разлив был из одной и той же бочки, хотя натуру, конечно, не переделать: гений места накладывает неизгладимый отпечаток на все, даже на «способ существования».
Суровый стиль, царивший в живописи застоя, смог, казалось бы, невозможное — без каких бы то ни было содержательных или пластических уступок он соединил официальную советскую идеологию и свободолюбивые (читай: предельно субъективные) модернистские поиски, соцреализм с меланхоличным миксом сезанизма (с легким налетом кубизма), умеренного фигуративного авангарда первых советских десятилетий, итальянского неореализма и условностей (эмблематичных, иероглифических) плакатного искусства.
Николай Андронов и Таир Салахов, Виктор Попков и Гелий Коржев тоже ведь делали вид, что взаимодействуют с реальностью, то ли описывают, то ли дублируют ее, имея в виду (подключая к изображению советского быта) всю историю культуры и изобразительного искусства — с неявными, а то даже и очень легко считываемыми отсылками, ну, например, к ренессансным фрескам.
Фига в кармане по отношению к официальной идеологии была театральным просто необходима: пафос — главное топливо провинциального творца, вот уж точно существующего вопреки сонному окоему, которому ничего не нужно, кроме (в лучшем случае) кроссворда и телепрограммы («а нас здесь неплохо кормят»).
Тем более что любые выше среднего потребности, коли они возникают, удовлетворяются импортом столичных артефактов. Или же командировками в другие города.
Нестоличный театр демонстративно стационарен (гастрольные бригады, кочующие по деревням и селам, не в счет), совсем как ренессансные фрески, неотделимые от родных стен; выцветающие, со временем осыпающиеся, хотя и продолжающие Антеем стойко держаться за родимую землю.
Долгое время мне казалось, что местные декорации в местных театрах принципиально строят из пыльных и заветренных материалов: серой дерюги, крошащегося гипсокартона, крупнозернистого пенопласта…
Работая в театре, время от времени я залезал в хранилища, плотно заполнявшие боковые отсеки по краям сцены, прицельно изучая «вещный мир» бутафории; хм, странно, вблизи она не такая грубая и очевидная, как это выглядит из зала.
Почему?
Тут ведь, на самом-то деле, важнее всего не качество игры или сценографических придумок, музыки или света, все проще; регулярность — вот что в наших театральных делах главнее главного.
Провинциальная культурная среда не знает плотности; это не «сто лиц», способные держать ландшафт, создавать накопительный культурный слой — когда людей вокруг мало, то все усилия уходят в песок.
Искусство (как и многое другое) здесь возникает усилиями одиноких энтузиастов, вместе с ними проявляя и исчерпывая собственные ниши. Здесь каждый наперечет и каждый сам себе институция; поразительно, но «люди творческих процессий», занимающиеся примерно одним и тем же, живущие в одном не самом большом городе, не видят и не слышат друг друга десятилетиями, встречаясь гораздо реже москвичей или питерцев.
Страна обитания вынужденно делает их интровертными, завернутыми на свой дом, внутри которого есть нычка, в которую можно спрятаться (в худшем случае), или же интернет (в лучшем), а антропологической смородины им и в троллейбусе хватает. Казалось бы, не до театра, но, тем не менее, если не театр, то что же? Играешь ведь по правилам: материализуешь заявленное и как бы всем очевидное: если говорят про «театральную общественность», то где она? В чем ее роль?
Будучи завлитом и используя «служебное положение», я попытался привлечь ее и сплотить, поставить на службу театру, затевал пресс-конференции и круглые столы, «обсуждение в печати».
Без толку! Стоит отпустить вожжи — все мгновенно расползается в стороны. Никому ничего не нужно. Никому. Разве что актерам, что готовы убивать все свободное время с любым режиссером и в любой пьесе, слепо веря всем, кто верит в них. Так дети верят в Деда Мороза, делающего их жизнь более-менее осмысленной.
Так, кстати, и понимаешь (начинаешь понимать), что театральные — особый антропологический тип, в котором главное даже не лицедейство, но активная жизненная позиция, помноженная на несовершенство жизни (театр и своей, и чужой бедой живет), обрекающей актеров на эти стены. Существование театра как фабрики искусства, работающей каждый день (то, что «губит» или снижает пафос и иммунитет жизнедеятельности многих коллективов), театру, напротив, позволяет выживать. В крупном областном или районном центре просто нет иных регулярных, ежедневно работающих институций (библиотеки не в счет: в библиотеки не наряжаются).
У меня однажды случился спор с Татьяной Ильиничной Сельвинской, ставившей в Цвиллинговском спектакль «Чума на оба ваши дома» (в основу оформления она положила распиленную на отдельные доски-скамейки фреску Учелло): спасаться лучше в одиночку или гуртом?
Для меня-то ответ очевидно склонялся в сторону предельного индивидуализма, тогда как мэтр отечественной сценографии твердила, сжав зубы: «Только сообща…»
Чердачинские театры обречены на отставание, так устроена их инфраструктура, так организован их «творческий процесс», из-за чего им как бы совершенно нечего сказать: сегодня даже газеты отстают от информационных потоков, а у академической драмы или ТЮЗа, не говоря уже о «Манекене» или «Камерном», просто нет современных способов существования на сцене.
А я ведь еще помню времена, когда ходили на актеров — на В. Милосердова и Л. Варфоломеева, Б. Петрова и Ю. Цапника, П. Конопчук и Н. Кутасову, Т. Каменеву и Л. Чибиреву…
И помню, как билеты на «Бал манекенов» Ежи Яроцкого обменивали на какой-то иной дефицит…
Спектакль этот я смотрел еще в старом здании Цвиллинговского театра (сейчас в этом помещении ТЮЗ, а уникальную фамилию «Цвиллинг» в названии главного театра южного Урала бездумно заменили на фамилию «Орлов», точно вся труппа в один миг поменяла прописку), с переполненного балкона. И не помню в своей зрительской практике момента более сильного, чем тот, когда бутафорская голова Юрия Цапника, игравшего в «Бале манекенов» главную роль, выкатывалась из-за кулис.
Кажется, именно тогда во мне что-то и перещелкнуло, заставив поверить, что в этом пылевом облаке и сокровенной темноте, обнимающей края сцены, заваривается нечто настоящее.
Я очень хорошо помню момент, когда и как я разлюбил театр.
Я тогда только-только поступил на службу завлитом в академический театр драмы именно для того, чтобы разобраться в своем отношении к этому виду искусства.
Тогда я не знал еще, что театр интересен мне не сам по себе (поскольку сильные чувства игра актеров вызывала во мне, только если выпить коньяку в буфете), но как место встречи людей, имеющих художественные или фантазийные амбиции («а я сны гениальные вижу…»). Как гетто людей, вываливающихся из провинциальной усредненности.
Так геи идут в стилисты и в парикмахеры, а мечтательные, бледные юноши — в театр, что подобно кораблю дураков привечает всех людей со странностями.
Я был когда-то странным, подающим надежды то ли критиком, то ли писателем, всячески искал среду, в которую бы захотелось вписаться; а театр приманивал иллюзией такой возможности.
Свои журналистские связи я использовал тогда в хвост и в гриву для рекламы нового места работы с легкостью и естественностью необыкновенной.
На очередной день рождения труппы или же на день театра (не помню точно) я решил провести блиц-опрос работников театра, дабы сконструировать из этого красивую мозаику. Придумал — и побежал по нашим круглым этажам, по дороге встречая все больше и больше недоумения. Оказалось, что люди не просто не хотели выражать своего мнения, некоторые из них и вовсе не желали светиться. А ведь мои вопросы были самыми невинными!
Да-да, я вдруг столкнулся с тем, что актеры и прочие рабочие творческого фронта отказывались проявлять минимальную инициативу (у них ее просто не было) и боялись малейшей ответственности. И это в театре! В том самом заповеднике, где случаются (должны случаться) чудеса со-творчества!
Стремясь переложить ответственность даже не друг на друга (проницаемость стен и общий корпоративный дух требуют понимания положения соседа как своего собственного), но на руководящий состав, еще точнее, на худрука.
На какого-то дядю.
9.
Наш главный дядя, Наум Юрьевич Орлов, руководил Цвиллинговским академическим с 1974 года, был, безусловно, самых честных правил…
…Устраиваясь на работу в литчасть, я ставил перед собой несколько задач; важнейшая из них была привить дичок современной драмы к пышному академическому древу.
Первое время я, точно заводной, носился с пьесами Владимира Сорокина, систематически утомляя начальство «Пельменями» и «Деморфоманией», предлагал инсценировку «Очереди».
Приходилось объяснять с нуля, вербатим и драмаДок находились тогда в зачаточном состоянии, о них вообще мало кто знал. Впрочем, о Сорокине тогда тоже мало кто слышал.
Мои лекции не проходили даром; режиссеры (главный и неглавный) внимательно выслушивали вопли о необходимости актуальных спектаклей (хотя бы в качестве эксперимента и на малой сцене), однако в сухом остатке это приводило к каким-то чудовищно компромиссным решениям, типа идеи возобновления «Смотрите, кто пришел» Арро или «Моего вишневого садика» Слаповского…
Я долго бился с этой, как мне казалось, чудовищной отсталостью, пока не понял, что сознание у типичных театральных устроено странным образом: оно не приемлет актуального. Они его не понимают и боятся.
Боятся и не понимают. Не понимают, и оттого боятся.
В сознании таких людей закрепляются сюжеты и имена, бывшие актуальными в дни их интеллектуальной молодости, события, принесшие когда-то видимый успех («Как меня в Харькове принимали!»). Все это, подобно фрейдовской травме, закрепляется в виде недвижимости и блокирует любые подходы к современности.
Эти люди, конечно, смотрят телевизор и бесконечно травмированы им, следят за новостями, даже, может быть, юзают интернет (теперь), четко при этом разделяя сферу реальной жизни и сферу театра, который Наум Юрьевич называл хутором. Объясняя мне информационную политику, которой должен придерживаться завлит, он говорил, что театр — это хуторок в степи, когда до следующего такого же хутора — километры; и все, что творится за забором, касается лишь тех, кто за этим забором живет.
Журналистов он считал чуть ли не шпионами (разрушающими целостность восприятия «храма искусств»), чьи задачи и амбиции едва ли не противоположны нашим.
Я был начинающим журналистом, а в свободное от работы время сочинял театральный роман, чтобы разобраться в своем отношении к театру. Зарплата завлита выживать не позволяла, и я принялся работать сразу на несколько московских газет, систематически сочиняя книжные, театральные и выставочные рецензии.
Никогда — ни до и ни после — о спектаклях Цвиллинговского театра не писали в столичной прессе так часто и так положительно; я как мог использовал свои возможности и связи для пропаганды южноуральского искусства. Тогда же стал сначала победителем всероссийского конкурса газеты «Культура», а затем ее «собкором по Уралу», вложил много сил для участия родной труппы в конкурсе «Окно в Россию». И — о чудо! Театр наш становится лауреатом этой премии, худрука торжественно награждают неподъемной статуэткой; пир и пиар на весь мир!
Однако это не спасает завлита театра-лауреата от систематических столкновений с директором театра Владимиром Макаровым, мощь и сила которого поддерживалась его второй, параллельной, должностью — министра культуры Чердачинской области…
Каждый раз, когда розовощекий завлит публикует что-то, расходящееся с пониманием министра культуры, тот кричит на него, багровея и дрызгая слюной, после чего завлит пишет очередное заявление по собственному желанию. А Наум Юрьевич, уговаривая остаться, объясняет: «Пока ты работаешь в театре, ты не имеешь права на личное высказывание, любой твой текст воспринимается как публичное выражение официальной позиции конкретного учреждения культуры…».
Да, Орлов говорил со мной ласково, как с неразумным и балованным дитятей, не понимающим, как устроен мир.
Впрочем, он со всеми был ласков и подчеркнуто внимателен. Это обезоруживало. Поддавшись, я уточнил:
— Так что ж мне делать? Больше ничего не писать?
— Ты действительно хочешь, чтобы я тебе запретил? — Не без иронии ответил Наум Юрьевич, ценивший свою репутацию демократа (тогда слова «либерал» еще не употребляли), отлично знавший, что я пишу свой театральный роман (и, кстати, он одобрял его основную идею). И добавил: «Я же тебе не Макаров…»
Через год Орлов умер.
Последним его спектаклем в Цвиллинговском театре оказались «Последние» Горького, роскошно оформленные Олегом Петровым. Пока шли репетиции, я не раз просил Орлова сменить название. Однако мне было неловко объяснять главному, почему (предполагалось, что он сам понимает) я настаиваю на перемене, поэтому переубедить его оказалось невозможным. С каким-то странным упорством, точно зная свою судьбу или же поддавшись гибельной ее логике, Наум Юрьевич упорствовал, хотя некоторое время мы мусолили вариант, им самим предложенный (чужого он и не принял бы), но категорически не нравившийся мне — «Что дальше?»
Да как что дальше?
Конечно, тишина.
Написав «Ангелов на первом месте», я наконец разобрался со своим отношением к театру и со спокойной совестью уехал в Москву; а издав этот роман отдельной книгой, отрезал любую возможность возвращения.
Я не был в театре десять лет, хотя, разумеется, следил издалека за тем, что происходит на этой сцене и за кулисами, в каждый из своих приездов узнавая о каких-то смертях, о сменах главных режиссеров, ни один из которых не мог прижиться в орловском театре.
Суровый стиль уральского модернизма мутировал в телевизионную байку про «суровых уральских мужиков» и «красные труселя», хотя постмодерном в этих краях, кажется, еще и не пахнет.
Недавно изучал репертуар, вывешенный к началу нового сезона; кажется, в нем не осталось спектаклей Орлова. Зато на стене дома, куда я неоднократно заходил к нему (не в гости, конечно же, а по казенной надобе), висит мемориальная доска.
В камне Наум Юрьевич мало похож на самого себя.
Если верить славянской языческой мифологии, Смородина — это река, отделяющая мир живых от мира мертвых. Сама родится. Сама родит.
Я и сам так долго думал, пока Татьяна Толстая (спасибо ей за вечную филологическую настырность) не подсказала:
— Смородина имеет тот же корень, что «смрад». Смород, смрад. То есть сильный (необязательно неприятный) запах…
(Это я так подбираюсь к запаху кулис.)
Собственно, что к нему подбираться: кулисы пахнут пылью.
Пылью да затхлостью. Запустением, которое они загораживают.
Да, кстати, «Ангелам на первом месте» я предпослал эпиграф из Льва Шестова:
«Ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь сплошь покрыт глазами… Бывает так, что ангел смерти, явившись за душой, убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души, даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми глазами, что-то совсем новое…»
2013
III. Список кораблей
Когда я думаю о многих людях, чьи глаза наблюдают за мной, я предвижу, что, если у меня ничего не выйдет, они поймут, в чем дело, и не станут осыпать меня мелочными упреками, но, будучи искушенны и опытны во всем, что хорошо, честно и справедливо, всем своим видом скажут: «Мы помогали тебе и были для тебя светочем; мы сделали для тебя все, что могли. В полную ли меру своих сил ты трудился?»
Из письма Ван Гога брату Тео, Амстердам, 30 мая 1877
От Карамзина до Битова
I. «Письма русского путешественника» Н. Карамзина
Инсайд случается, когда Карамзин после Риги («город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие домы…») въезжает в Кенигсберг, замирая от восторга («один из больших городов в Европе…»)
Тут же ловишь себя на мысли, понятно какой — ведь Кенигсберг у нас с кем связан? Правильно, с Кантом. Вот ты и, моделируя логику шествующего путем, слегка вперед забегаешь, мысленно ему делегируя: «А не навестить ли нам могилу Канта»? Ибо что должен делать турист в бывшей прусской столице? Конечно, ломануться немедленно к Канту.
И Карамзин, точно услышав ваш внутренний шепот, немедленно устремляется к Канту.
«Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика, который опровергает и Малебранша, и Лейбница, и Юма и Боннета, — Канта, которого иудейский Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл как der alles zermalmende Kant, то есть всесокрушающий Кант. Я не имел к нему писем, но смелость города берет, — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленький, худенький старичок, отменно белый и нежный…»
Вот тут-то тебя и вставляет — когда ты понимаешь, что картонная реальность твоих грез, высыпающих с изнанки лобной кости, не имеет ничего общего с той реальностью, в которой путешествовал Карамзин или Чехов, напророчивший в «Сахалине» будущий «Архипелаг Гулаг». И что тебе никогда не понять, что же на самом деле чувствовал автор «Писем», тем более что, как объясняет Лотман, чувствовал он совсем не то, что писал…
Вообще, следует сказать, что перед чтением «Писем русского путешественника» необходимо прочесть лотмановский роман-реконструкцию «Сотворение Карамзина», где автор более чем убедительно доказывает: самым важным для Карамзина было не писать правду, но скрывать ее. Лотман, привлекая попутные документы и свидетельства, вскрывает и делает явными умолчания и намеренные лакуны (связанные с тайными свиданиями с друзьями-масонами и самоцензурой в местах описания Французской буржуазной революции), из-за чего текст Карамзина сам по себе достаточно пустой и водянистый, начинает играть едва ли не борхесианскими красками.
И действительно ведь пустой и водянистый. Двух описаний, Риги и Кенигсберга, разве недостаточно, чтобы понять, что никаких живых картин в читательском умозрении после таких строк не возникает?
Смешнее всего выглядит посещение Дрездена и галереи в Дрездене, когда в сносках Карамзин дает биографические справки о Рафаэле, Микель-Анджеро (так у автора — Д.Б.), Караччи и многих других, демонстрируя — что? То же самое, что он обнаруживает и в письмах из Парижа, где революционная ситуация царила не только в кафе, но и в театрах. Не будучи театралом, Карамзин, тем не менее, едва ли не каждый вечер посещает спектакли, по ходу пьесы разрабатывая жанр «рецензии-репортажа».
Да, неразработанность искусствоведческого дискурса, зачаточность экфрасиса, заставлявшие путешественника продвигаться не столько вглубь Европы (установлено, что «Письма» были написаны Карамзиным по возвращении в Россию, в Москве), сколько вглубь литературы, введения в литературоведение.
Лотман, опровергая устойчивую репутацию Карамзина как «охранителя» и делая из него едва ли не карбонария, категорически против того, чтобы двадцатипятилетнего Карамзина приняли за нынешнего туриста, расставляющего галочки по всем-всем святым местам. Вот он пишет, чтобы чуть ниже опровергнуть: «Создается образ настойчивого, но не очень вдумчивого и неразборчивого в средствах собирателя впечатлений. Приходят на память сегодняшние коллекционеры автографов. Нечто неприятно-туристическое начинает мелькать для современного читателя в образе карамзинского путешественника…».
И я едва ли не на следующей странице «Писем русского путешественника» читаю о том, как покинув столицу Пруссии, Карамзин проезжает через небольшой городок Фрауенберг:
— Здесь жил и умер Коперник, — сказал мне капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко.
— Итак, это Фрауенберг?
— Точно.
Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный математик и астроном и где он, по своим наблюдениям и вычетам, определил движение земли вокруг ее оси и солнца…
Такого там дальше много. В Веймаре Карамзин напрашивается в гости к Виланду, холодно его встретившему, дважды гостит у Гердера и успокаивается, увидев Гете стоявшим у окна своего дома: галочки раскиданы.
Между тем, реконструктор перегибает палку, говоря уверенным тоном то, что документально подтвердить невозможно, мешая правду и намеренную неправду («не очень вдумчивого и неразборчивого…»), которую чуть позже весьма легко будет самому же и опровергнуть (риторический прием такой).
Однако же важной у Лотмана кажется фраза о том, что заранее подготовленный ко всем этим встречам (и оттого вдумчивый, вдумчивый!), Карамзин «отправляясь в путь… уже знал Европу. Надо было выяснить, можно ли ей верить».
Если важнее скрывать, чем описывать, а описания дырявы, то что тогда остается?
Парфюмированная розовая вода, составляющая суть того, что называлось тогда и называется теперь «сентиментализмом», янтарь без мушки, рама картины, на которой ничего не изображено, кроме смутного, но, тем не менее, отчетливого духа времени, слезы младенца, вещества жизни и вещества ожидания, неожиданно выпадающих в осадок при виде Марата, Мирабо и Робеспьера.
Вычетом да причетом нужно вычистить, вычесть, вычесать все до копеечки, дабы сделать текст окончательно прозрачным, стеклянным (едва ли не главным в описании Данцига являются мытые окна ратуши: «Огромнейшее здание в городе есть ратуша. Вообще все дома в пять этажей. Отменная чистота стекла украшает вид их…».)
И вообще все это было бы чистейшей прелести «Лошади едят овес и сено» (если бы не правописание XVIII века, если бы не устаревшая грамматика), но осталось главное — пустота зеркал, намеренно отразивших время то, что в будущем произойдет и с нашей эпохой тоже.
Когда она окончательно утонет.
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева
Не стал бы читать книгу Радищева, тяжелую по преждевременно устаревшему стилю допушкинского периода, если бы не нашел у себя книжку, изданную моим приятелем и милейшим парнем Владом Феркелем в 1998 году «на правах рукописи» с переводом «Путешествия» с русского на русский.
Подобно Радищеву, названному Лотманом в книге о культуре дворянского быта «энциклопедистом» и просветителем, Феркель осуществил этот труд не ради корысти или славы (тираж сто экземпляров, имя переводчика указано только после предисловия), но для того, чтобы приблизить эту, одну из самых загадочных русских книг, намертво погребенную в школьной программе, к потребностям современного читателя.
Радищевское «Путешествие» — это ведь не только календарный, но и литературный XVIII век во всей его сложной диалектической переходности от барокко к сентиментализму, черты которого принято открыто перечислять у литературоведов; тогда как барочному постмодернизму книга Радищева обязана еще сильнее. Не зря Веселовский писал о прямом влиянии здесь Стерна, а новейший исследователь Е. Вильк, рассматривающий в «НЛО» эту книгу в контексте мистической литературы того времени, расшифровывает структуру книги как масонское трехступенчатое продвижение к Истине.
Интересна так же версия В. Кантора, считающего, что поездка из имперской столицы в старорежимную (допетровскую) Москву должна восприниматься символом возвращения в додворянскую, дореформенную Россию, более близкую к идеальному общественному устройству, чем то, что породили Петровы усилия. (Именно поэтому книга заканчивается биографическим очерком трудов и дней Ломоносова.) Радищев пишет-де свою книгу как записочку Императрице, постоянно подмигивая ей — и как энциклопедист просветителю, и намекая на всевозможные тайные обстоятельства, ныне не слишком считываемые (что повышает суггестию текста в разы): Радищев не против царизма, он против крепостного права, чрезмерного угнетения человека человеком и прочих несправедливостей. Вольность для него рифмуется не с равенством, но справедливостью, а путешествие выходит весьма умозрительным и далеким от реальности, почти везде и во всем сочиненным; метафорическим и символическим, несмотря на то, что Радищев не только рассказывает, но и показывает картинки, зарисовки из подорожного быта.
Хотя кто сказал, что травелог не может быть и таким?!
«Путешествие в Арзрум» А. С. Пушкина
По сути, это то, что сейчас называется «гонзо-журналистика», субъективный репортаж, написанный человеком, побывавшим в незнакомых (экзотических) местах и присутствующий при военных действиях. Самое интересное теперь — следить за логикой Пушкина, человека, жившего пару веков назад, но обладающего (таков стереотип) нашим современным сознанием, выраженным, прежде всего, в стиле и в интонации.
Написаны путевые заметки нарочито безыскусно, никакой нынешней редактуры в поисках лучшего стиля не видно: соседние фразы содержат порой одни и те же словоформы, хотя очевидно, что замена синонимами могла бы их несколько преобразить. Но чу! Пушкин же!
Простые предложения, чередуются со сложными, но не затемняют мысли и описания, словно бы каждый раз возвращают повествование к невидимому началу — эмоциональному состоянию пишущего.
Возникает ощущение постоянно развивающейся целостности. Отстраненная интонация взгляда со стороны, ровного повествования, лишенного нарочитых эмоций, даже когда Пушкин описывает пограничные ситуации — встречу с братом, бой и погибших казаков, трупы турков… Наконец, встречу с гробом Грибоедова (в этом случае позволяя себе небольшое отступление в биографию своего полного тезки, рассказанную, опять же, без экзальтации и, на мой вкус, являющуюся идеальным некрологом). Все это описывается тем же тоном, что этнографические детали, горы или горные реки, задавая важный для non-fiction стандарт.
Среди современников Пушкина существовала ведь масса литераторов, любивших пышные и вычурные литературные формы, избыток тропов; поэтому очевидно, что демонстративная простота (ничего лишнего) и отстраненность — осознанный выбор рассказчика, возможный, впрочем, тогда, когда картинка постоянно меняется и события, сменяя друг дружку, сыплются как из рога изобилия.
Путешествие увлекает непредсказуемостью, поэтому описания идут вовне, а не изнутри, как это водится у современных странствующих прозаиков. Вот почему можно не обращать особого внимания на стиль и не злоупотреблять метафорами (недавно прочитанный «Остров» В. Голованова оказывается прямой дискурсивной противоположностью «Путешествия в Арзрум» — банальные перемещения современного человека по современному Северу, лишенному даже намека на потенциальную опасность или непредсказуемость, заставляют автора демонизировать обычные бытовые неудобства и наматывать на текст бесконечную космогонию выбора-без-выбора).
А вот Пушкина читаешь — и не оторваться. Работа мысли остается в подтексте, в тексте же — что вижу, то и пою. Тут, конечно, невозможно отрешиться от того, что Кавказ дан пушкинскими глазами, то есть зрением человека, про которого нам много что известно. Именно это делает картинку более цветной и более объемной; ты не только додумываешь, но и досматриваешь за Пушкина, держа в голове не только школьную и университетскую программы, но и усилия многих поколений пушкинистов, которые покрыли наш культурный контекст ровным слоем пушкинского пепла.
С одной стороны, Пушкин воспринимается современным человеком, фантастическим образом попавшим в начало XIX века и ведущего оттуда репортаж для какого-нибудь глянцевого журнала; с другой — ты же все равно понимаешь ограниченность той эпистемы в сравнении с современным знанием, накопившим много чего такого — как про Пушкина, так и про Кавказ, про войны, жестокости и прочее.
Вся дальнейшая история развития России и нашей общей цивилизации работает на то, чтобы восприятие текста выходило все более полным и объемным.
Короче, читаешь не про то, что написано, видишь не то, что изображено, но разные планы, как в контурных картах, совмещаются, накладываясь на жизненный, исторический, эстетический и какой угодно опыт.
Да и в «Путешествии» полно каких-то побочных потенциальных сюжетов, которыми мог бы заняться какой-нибудь «русский Борхес», если бы захотел. Какие-то встречи с армянами и осетинами, чьими глазами можно было бы показать «наше все». История Артемки, которого Пушкин соблазняет поехать на войну, по сути радикально меняя ему всю жизнь, а потом случайно встречает его, гордо гарцующим, в военном лагере. Не говоря уже о взаимоотношениях с генералами, которые принимали его радушно не только потому, что Бенкендорф требовал слежки, но и еще оттого, что втайне надеялись быть описанными «первым поэтом России».
«Фрегат Паллада» И. Гончарова
Да это же практически «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии» Лоренса Стерна, наш ответ автору «Жизни и мнений Тристрама Шенди, джентльмена», а Гончаров — вылитый Стерн. Важно иной раз делать шаги в сторону от привычной колеи для того чтобы убедиться, как прекрасна наша Москва литература, как непредсказуема.
«Записки охотника» И. Тургенева
Главное, на мой вкус, в книге Тургенева, значительно повлиявшей, по легенде, на монаршие умонастроения, приведшие к отмене крепостного права, это история перемены оптики, которая меняется на всех уровнях — и в первую очередь на сюжетном.
Фабульные особенности небольших текстов, составивших сборник, объясняются жанром «записок», который позволяет считать законченными и самодостаточными подорожные зарисовки, сделанные во время блужданий барина по окрестным деревням, лугам и лесам в поисках вальдшнепов или коростелей («…я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо…»).
Этюды эти, начинающиеся с промежуточного «пошел туда-то», затем живописуют ту или иную, чаще случайно подсмотренную (заваливаясь в чужие дома или же в компании, как в очерке «Бежин луг», Тургенев любит прикинуться спящим, а сам слушает разговоры, которые стенографирует с прилежностью Лидии Гинзбург) сценку, которая ничем не заканчивается и ни к чему особенному не приводит.
Классическая нарративная схема, таким образом, оказывается отменена — охотничьи записки позволяют Тургеневу особо не трудиться над композицией или драматическим развитием, строение этих текстов, непредсказуемо и нелинейно, как и ландшафт, описываемый Тургеневым, как и сама жизнь, развивающаяся в этом ландшафте.
Оказывается, очерк или же зарисовка может состоять из описаний природы и обрывков диалогов, а также людей, появляющихся и исчезающих без какой бы то ни было логики участия в сюжете.
Оказывается, изящная словесность не обязана бежать и развиваться сюжетом, в прозе может и не происходить ничего существенного, приводящего к необратимым изменениям. Тогда фон и выходит на первое место, переставая быть фоном, оказываясь целью, поводом и главным событием.
Тургенев путешествует по сопредельным Тульской, Орловской и Курской губерниям (с различий между двумя последними и открывается дебютный очерк «Хорь и Калиныч», вспомнили?), лесоповалам, выселкам и барским домам, сравнивая два мира — крестьянский и господский, что само по себе является для Тургенева сюжетом.
Крестьян писатель изображает сочувственно, дворян и помещиков иронично, даже язвительно, однако вмешиваться себе Тургенев позволяет только в мир диких птиц. Это обеспечивает ему статус соглядатая.
Наблюдая голод и бесправие, Тургенев ни во что не влипает — лишь констатирует, переводя курсор с одного впечатления на другое; при нем двурушные баре разбираются со своими крепостными, как правило, не считая их за людей; при нем, например, пухнет от голода слепоглухой старик из «конторы», нужный Тургеневу для зачина («он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки…»).
Благорасположенность барина никак не влияет на изменение судеб описываемых людей (документальный статус жанра заостряет ощущение реальности, все здесь показанные — не вымышленные, но настоящие люди), что делает Ивана Сергеевича и его позицию малосимпатичными.
Он видит в крестьянах забавных людей, тогда как другие баре этого еще не видят, поскольку не доросли в своем развитии до идеи человеческого равенства. А, скажем, карлик Касьян по прозвищу Блоха («Касьян с Красивой Мечи») дорос в своем развитии до понимания греховности охоты, когда даже не из-за голода, но ради одной только забавы, убивают свободных птиц. Нисколько не смутившись, Тургенев ехидничает, мол, курицу или гуся тоже, поди, есть не надо, на что Касьян отвечает: «Та птица богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела…»
Тургенев описывает Касьяна как чудака, в качестве еще одной русской диковины, хотя оптика Блохи значительно ближе ощущениям современного человека, нежели точка зрения прогрессивного писателя. Именно «Касьян с Красивой Мечи», а не самые знаменитые очерки книги типа «Гамлета Щигровского уезда» или уже упоминавшегося «Бежина луга» оказываются точкой вскрытия приема, тем самым проколом или же, если воспользоваться фотографической терминологией, пунктумом, задающим, начинающим задавать новую систему оценки самого Тургенева.
Очерк начинается с того, что у тележки, на которой Иван Сергеевич возвращался с охоты, «перегорело» колесо — ось сломалась.
Писатель, по привычке, в которой для него нет ничего особенного, вламывается в ближайший двор, где и находит похмельного Касьяна, который отказывается помогать незнакомым людям даже за деньги.
«— Что надо? — спросил он меня опять.
Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.
— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.
— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.
— Охотники.
— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?»
После некоторого препирательства Касьян теряет интерес к пришельцам, но Тургенев едва ли не насильно вытягивает из него помощь, в полновластии ощущения двойного господства: Касьян-Блоха обязан ему помогать и как холоп, и как персонаж, которого он с удовольствием поместит в свой писательский гербарий.
«— Послушай, старик, — заговорил я, коснувшись до его плеча, — сделай одолжение, помоги.
— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил, — сказал он мне и потащил себе армяк на голову.
— Да сделай же одолжение, — продолжал я, — я… я заплачу.
— Не надо мне твоей платы.
— Да пожалуйста, старик…»
И, разумеется, вынудил Блоху к помощи, совершенно уверенный в непогрешимости своего охотничьего и барского статуса (почему-то кажется, впрочем, не настаиваю, что обломавшись, Тургенев писать о Блохе не стал бы). Потребительское отношение Тургенева к животным ничем не отличается от потребительского отношения к крепостным; весьма интересно было бы проанализировать психологические и лексические дубли, возникающие у охотника, скажем, в отношении своих собак. Или же детей: самым точным замечанием по поводу подростковых разговоров в «Бежином луге» Иван Сергеевич посчитал реплику Дудышкина, заметившего, что дети у Тургенева говорят как взрослые…
Оптика Тургенева кажется прогрессивной лишь до тех пор, пока он не встречает еще более прогрессивного человека, чем он, пока текст сам по себе не проговаривается о переоценке окружающих писателя общественных отношений и простых человеческих связей.
Эта непредумышленная правда самописца, вылезающая из текста «Записок» во многих местах, пожалуй, самое ценное, что может дать книга: смена ценностей обнажает многие смыслы, бывшие незаметными во время написания.
Порой возникает ощущение, что писались они (а ведь судя по некоторым подписям, сочинял Тургенев не по горячим следам, но проживая за границей, что говорит о том, что мы имеем дело с фантазмами) человеком, как бы надиктовывающим текст «от лица собственной маски». Или даже от лица нескольких масок. Так, одну из них можно назвать «охотник», другую — «русский», третью — «русский барин»; жонглирование этими разными дискурсами с обязательным каждый раз переключением оптики и составляет ключевой аттракцион этой странной книги.
Письма Н. Гоголя
Помня, какую важную роль в жизни Гоголя играл жанр писем, даже при жизни выделенный самим писателем в отдельную, официальную книгу, я решил перечитать переписку Николая Васильевича периода его заграничных вояжей. И если вытащить наружу зашитую в последних томах книгу, то вся она будет про «творческое горение» и «писательскую одержимость», а не про то, где Гоголь был, что видел и что ел. Тот случай, когда человек полностью ушел в одну, всепоглощающую страсть, превратившись в конечном счете в столпника и носителя этой страсти.
Так бывает, когда личность подчиняется одной, всепожирающей, специализации, полезной для «конечного результата» и «продукта», но которая сводит на нет, едва ли не буквально изничтожая, саму эту жизнь. Самого этого человека. И здесь невозможно со стороны решить, что лучше, — сохранить себя или выжать себя в «кусок дымящейся совести», каждый это решает для себя сам, однако же важно при этом заметить, что человек, обуянный своим предельным субъективизмом, не в состоянии увидеть и оценить то, что с ним происходит на самом деле; он, подобно слепцу, или, если быть более точным, наркоману (ибо страсти свойственно выстраивать внутри систем организма параллельную структуру, паразитирующую на природной, естественно-органической, и со временем подменять ее).
Для чего, собственно, и нужно, а подчас просто необходимо читать чужие письма.
Начало поездки (именно с точки зрения путешествующего повествования) кажется многообещающим. Из Женевы (27.09.1836) Гоголь пишет Н. Я. Прокоповичу о посещении усадьбы Вольтера, о котором, впрочем, он пишет как о живом: