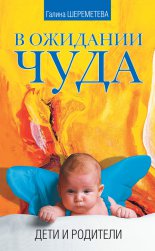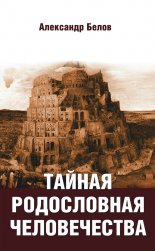Париж в 1814-1848 годах. Повседневная жизнь Мильчина Вера
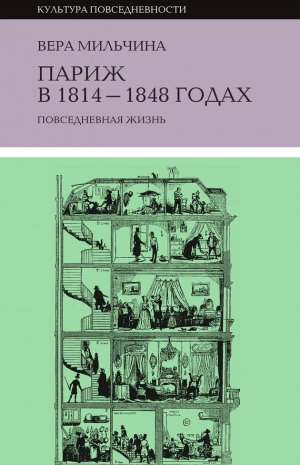
Одним словом, светский житель Парижа мог проводить здесь время в свое удовольствие, а отсутствие женщин сообщало этому времяпрепровождению особую непринужденность.
Другой клуб, основанный в 1833 году, носил не совсем обычное для светского сообщества название «Сельскохозяйственный кружок» (злые языки именовали его просто «Картошкой»). В него входили представители аристократических родов, интересующиеся экономикой и сельским хозяйством. В стенах клуба, расположенного в Нельском особняке на набережной Вольтера, устраивались лекции, посвященные научным, экономическим и художественным проблемам, – от производства сахара и улучшения железных дорог до судеб классической трагедии и выступлений актрисы Рашель. Но члены «Сельскохозяйственного кружка» собирались не только для того, чтобы слушать лекции: они читали газеты, играли в карты, беседовали.
Пожалуй, наиболее знаменитым парижским «кружком» был Жокей-клуб, основанный в июне 1834 года и располагавшийся в самом сердце модного Парижа – в районе бульваров. Первые два года клуб находился в доме на пересечении бульвара Итальянцев и Гельдерской улицы, а затем переехал в особняк на углу Монмартрского бульвара и улицы Друо (тогда – улицы Гранж Бательер), где оставался до 1857 года. Жокей-клуб изначально насчитывал шестьдесят членов, каждый из которых должен был заплатить вступительный взнос 150 франков, а затем платить ежегодно по 300 франков членских взносов. Из этой суммы 200 франков шло самому клубу, а 100 – в пользу основанного годом раньше Общества соревнователей улучшения конских пород во Франции. В это Общество входили не только посетители скачек, но и коннозаводчики, и любители верховой езды. Таких практиков в парижском светском кругу было не слишком много, зато желающих проводить время за разговорами о фешенебельном конном спорте нашлось немало, так что новых членов приходилось выбирать очень придирчиво. Чтобы вступить в Жокей-клуб, требовалось представить три рекомендации, а затем не менее шести членов клуба должны были единогласно высказаться в пользу кандидата. С помощью этих ограничений члены клуба старались сохранить его элитарный характер. В Жокей-клуб принимали людей разных политических взглядов – лишь бы они вели блестящий светский образ жизни. А вот писателя Альфреда де Мюссе в этот клуб не приняли – под тем предлогом, что он не ездит верхом.
Несмотря на жесткий отбор, число членов Жокей-клуба постоянно увеличивалось: в одном только 1838 году оно выросло на целую сотню человек. Парижане стремились вступить в Жокей-клуб, так как здесь они могли за сравнительно небольшую плату провести время с большой приятностью: поесть не хуже, чем в самых роскошных ресторанах Парижа, поиграть на бильярде и в карты (эту возможность они сохранили даже после 1837 года, в конце которого все игорные дома в Париже были официально закрыты). На обед надо было записываться с утра, а подавать его начинали с шести часов вечера, так что гости могли потом отправиться в театр или на бал; по окончании спектаклей они зачастую вновь возвращались в клуб.
Пристрастие мужчин к проведению досуга в клубах отнюдь не означало, что они чуждаются женского общества. Просто-напросто когда посетители клубов хотели провести время в обществе дам, они предпочитали более веселое и менее обязывающее общество дам легкого поведения.
Когда светскими людьми перестали считаться исключительно аристократы, принятые при дворе, в салонах стали блистать новые знаменитости – денди и «львы».
Парижский фат. Худ. П. Гаварни, 1841
Парижские денди 1830-х годов – это не просто элегантные молодые люди, тратящие огромные суммы на одежду, лошадей и экипажи, театр и рестораны. Это те, кто вводил самих себя в моду, превращая собственный внешний облик и поведение в образцы для подражания. О денди судили не по его происхождению и не по его занятиям, а исключительно по тому, как он преподносил себя окружающим, по его образу жизни и манерам. Для того чтобы выглядеть модно и элегантно, парижскому денди требовались большие деньги – в конце 1830-х около ста тысяч франков в год. Для сравнения скажем, что прославленная певица Малибран получала в год 75 тысяч, а годовое жалованье средней модистки не превышало тысячи франков. Публикация в газете «Антракт» от 10 января 1839 года позволяет судить о расходах парижского денди. 14 тысяч франков ему требовались для того, чтобы нанять квартиру с конюшней в модном квартале – на улице Риволи или на улице Горы Фавор. 20 тысяч франков уходили на покупку и содержание трех караковых жеребцов (для утренних прогулок) и еще одной лошади – для вечерних прогулок в экипаже. В 18 тысяч франков обходились услуги ювелира, снабжавшего денди часами и цепочками, камеями и кольцами, портсигарами и запонками. 5 тысяч франков денди отдавал портному, который шил ему фраки и рединготы, костюмы для верховой езды и для охоты; столько же поступало в карман сапожника; 4 тысячи франков стоили сорочки, 3 тысячи – шляпы, полторы тысячи – перчатки (ежедневно требовались две пары новых), одну тысячу – трости и хлысты (которые в театрах приходилось сдавать в гардероб, тоже за деньги); 800 франков в год уходили на духи. Недешево обходилась и многочисленная челядь, без которой денди обойтись не мог; 7,5 тысячи франков он платил слугам: 3 тысячи – камердинеру, который его брил и завивал, 2,5 тысячи – кучеру, 2 тысячи – мальчику-груму, который сопровождал хозяина во время поездок в город. 4 тысячи франков денди тратил на еду, 3 тысячи – на посещение театров (плюс еще 200 франков на лорнеты и зрительные трубки), 1200 франков – на цветы. Около 6 тысяч в год уходило на чаевые, уплату карточных долгов и проигранные пари.
Впрочем, денди важно было не просто потратить деньги, но сделать это так, чтобы обратить на себя внимание. Например, журналист Сен-Шарль Лотур-Мезере заслужил в 1830 году прозвище «кавалера с камелиями», поскольку первым стал носить в петлице этот цветок, который стоил целых 5 франков (столько же, сколько обед в неплохом ресторане). Денди-журналиста дороговизна не смущала: порой он менял цветок даже два раза в день. Впрочем, Лотуру-Мезере не суждено было навеки связать свое имя с «фешенебельным» цветком: в 1848 году Александр Дюма-сын выпустил свой роман «Дама с камелиями», и «дама» вытеснила «кавалера» из умов светской публики.
От денди отличались «львы» – люди, возбуждавшие всеобщее любопытство не просто своим внешним видом, но какими-либо свершениями. В 1830–1840-е годы «львами» называли тех, кого сейчас назвали бы «звездами». К числу таких «львов» относились бесстрашные путешественники, побывавшие в Африке или в Персии, а также приезжие из экзотических стран. Когда посол тунисского бея прибыл в Париж вместе с восемью женами, его страстно захотели увидеть в своих гостиных все дамы квартала Шоссе д’Антен, и африканец на время сделался парижским «львом». Роль «львов» могли играть прославленные музыканты или авторы нашумевших книг. При этом все денди мечтали хоть на несколько дней сделаться «львами», то есть привлечь к себе всеобщее внимание. Согласно афоризму Дельфины де Жирарден, «денди – это тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, а лев – тот, на кого все хотят смотреть». Писательница приводит в пример представление «Дочь эмира», которое с большим успехом давалось в 1839 году в театре «У ворот Сен-Мартен». В нем американский дрессировщик Ван Амбург изображал араба, отданного на растерзание хищникам; американец выходил на сцену в обществе самых настоящих тигров и львов, но оставался целым и невредимым; больше того, целым оставался и ягненок, которого Ван Амбург запускал в клетку с хищниками. Дельфина де Жирарден задает вопрос: кого из выступающих в этом спектакле можно назвать «львом»? И отвечает: не хищника и не ягненка, а только дрессировщика.
В 1840-х годах в Париже появились не только «львы», но и «львицы». Так называли не «дам полусвета» (как во второй половине XІX века), а светских женщин, которые стремились выделиться с помощью «мужских» рекордов. «Львицы» принимали участие в скачках с препятствиями, стреляли из пистолета и ездили на охоту, а прогуливаясь в колясках по Булонскому лесу или Елисейским Полям, курили настоящие гаванские сигары.
Глава девятая
Парижские кварталы. городское жилье
Сен-Жерменское предместье. Квартал Маре. Квартал Шоссе д’Антен. Предместье Сент-Оноре. Пале-Руаяль. Бульвары. Многоэтажные дома. Жилье для приезжих: гостиницы, семейные пансионы, меблированные комнаты, наемные квартиры
И французы, и иностранцы регулярно отмечали, что Париж есть не что иное, как «собрание нескольких разных городов под одним именем» (леди Морган), а обитатели каждого квартала «представляют собой самостоятельную нацию» (слова Этьенна де Жуи, публиковавшего в середине 1810-х годов нравоописательные очерки под псевдонимом «Пустынник с улицы Шоссе д’Антен»).
Другой нравоописатель, Л. Монтиньи, утверждал в 1825 году, что даже места для прогулок у парижан строго связаны с их сословной принадлежностью. Так, элегантная дама ни за что не согласится дышать воздухом в Люксембургском или в Ботаническом саду, потому что эти места считаются совершенно не аристократическими: в первом гуляют в основном няньки с детьми, рантье и студенты, во втором – иностранцы, а из парижан – лишь люди незнатные. «Фешенебельный» (от английского fashion – мода) молодой человек изберет для прогулок бульвар Итальянцев, причем прогуливаться будет только по одному-единственному участку северной стороны этого бульвара (от кафе Риша на углу улицы Ле Пелетье до «Парижского кафе» на углу улицы Тебу). Единственным местом, где разные разряды гуляющих парижан могут совпасть в одном пространстве, Монтиньи называет сад Тюильри.
Как уже было сказано в пятой главе, Париж в эпоху Реставрации и при Июльской монархии был поделен на 12 округов и 48 кварталов. Однако помимо административного существовало еще и другое, неформальное деление: разные части города имели различную репутацию.
Один из русских путешественников, В.М. Строев, лаконично сформулировал эти различия: «Тюилери, Вандомская площадь и Елисейские Поля – жилище короля и место гулянья; Шоссе д’Антен, Пале-Рояль и предместие Монмартрское – жилище богатых негоциантов и людей, живущих доходами; Пуассоньерское предместие с окрестностями – здесь живут небогатые семейства, ищущие не веселости, а дешевизны; Лувр и улица Сент-Оноре – убежище среднего класса; Сен-Денисское и Сен-Мартенское предместия – здесь живут рабочие и ремесленники; квартал Тампля – самый дешевый; кварталы Сент-Авуа и Арсис отдалены от шума и движения парижского; в Маре (на Болоте) живут старики и старухи, а в Сент-Антуанском предместии черный народ; остров св. Лудовика не похож на другие части Парижа по своему уединению и бесшумию; Сен-Жерменское предместие – жилище благородных герцогов, перов и всяких аристократов, по рождению, по богатству и по таланту; Латинский квартал – Сорбонна, Медицинская академия и студенты с своими гризетками; Ботанический сад и Обсерватория, предместия Сен-Марсель и Сен-Жак – тут живут ученые и самый простой народ, работающий поденно на фабриках».
Сен-Жерменское предместье. Худ. А. Монье, 1828
Некоторые районы Парижа сохранили свою «специализацию» и по сей день: так, Латинский квартал (на левом берегу Сены) по-прежнему остается студенческим, а остров Сен-Луи (у Строева «св. Лудовика») по-прежнему тих, однако в целом репутация кварталов за полтора столетия изменилась, причем в некоторых случаях весьма радикально.
Например, остров Сите в первой половине XIX века, до грандиозной перестройки Парижа, произведенной префектом Оссманом, выглядел совсем иначе, чем сейчас, когда здесь толпятся туристы. Знаменитый роман Эжена Сю «Парижские тайны», действие которого начинается в ноябре 1838 года, открывается описанием «лабиринта темных, узких, извилистых улочек Сите – прибежища и места встречи всех парижских злоумышленников». Сите глазами Эжена Сю – это «грязная вода, текущая посреди покрытой слякотью мостовой»; «обшарпанные дома с немногими окнами в трухлявых рамах почти без стекол»; «темные крытые проходы, ведущие к еще более темным, вонючим лестницам»; «лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалявшегося мяса»; гулящие девицы, которые в ожидании клиентов прячутся в «крытых арочных входах – сумрачных и глубоких, как пещеры». Это изображение Сите – вовсе не художественное преувеличение романиста, о чем свидетельствует отзыв русского дипломата Д.Н. Свербеева, которого пятнадцатью годами раньше тоже неприятно поразили «теснота, духота, безобразная нечистота, особливо того квартала, в котором находилась церковь Notre-Dame».
Репутация разных кварталов города имела для его жителей огромное значение. Для парижанина 1820–1840-х годов сказать о человеке, что он житель Сен-Жерменского предместья или обитатель Маре, значило дать едва ли не исчерпывающую характеристику его политических убеждений и бытовых пристрастий, его манеры обставлять дом и одеваться. Примерно так же мы сейчас рисуем обобщенный портрет человека, сказав, что он живет на Рублевском шоссе или, напротив, в Южном Бутове.
Пожалуй, самым знаменитым из всех парижских кварталов было Сен-Жерменское предместье. Недаром его иногда называли просто Предместьем (с заглавной буквы). Впрочем, такое именование в XIX веке уже было анахронизмом, так как Сен-Жерменское предместье давно находилось в черте города. Оно располагалось на левом берегу Сены; с востока его ограничивала улица Святых Отцов, с запада – Дом инвалидов, с севера – набережная Сены, с юга – ограда семинарии Иностранных миссий. В состав Предместья входили пять длинных улиц: Бурбонская (с 1830 года – Лилльская), Университетская, Гренельская, Вареннская и Святого Доминика.
С середины XVIII века квартал был заселен аристократами, которые чередовали жизнь в городе с пребыванием в Версале, близ королевского двора. Во время Революции многие жители Сен-Жерменского предместья отправились в эмиграцию, а не успевшие бежать погибли на эшафоте; имущество тех и других было национализировано и распродано. Однако с 1796 года бывшим владельцам начали постепенно возвращать их собственность, а в 1825 году был принят закон о частичной компенсации аристократам стоимости потерянного имущества – «закон о миллиарде для эмигрантов». Полученные средства позволили некоторым семьям отремонтировать свои особняки, и к концу эпохи Реставрации Сен-Жерменское предместье вновь оказалось полностью заселенным. Жизнь в особняке постепенно становилась признаком принадлежности к старинной аристократии (тогда как представители крупной буржуазии предпочитали жить в роскошно обставленных просторных квартирах многоэтажных домов). Одна лишь улица Святого Доминика насчитывала двадцать пять особняков, построенных в XVIII, а то и в XVII веке.
Сен-Жерменское предместье отличалось от других районов французской столицы и манерами своих обитателей, и внешним видом улиц и домов. Английский денди, заглавный герой романа Э. Бульвер-Литтона «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), признается: «Я люблю этот квартал. Если только мне доведется еще раз посетить Париж, я непременно поселюсь там. Это особый мирок, совершенно не похожий на те, хорошо знакомые англичанам улицы и переулки, где они по преимуществу обитают. В этом предместье вы действительно находитесь среди французов – среди окаменелых остатков старого строя; вас поражает унылое, но освященное веками величие зданий – там вам нигде не попадется сверкающий белизной, выстроенный в самом модном стиле дворец какого-нибудь nouveau riche [нового богача]. Все, даже неровные булыжники мостовой, дышит надменным презрением к новшествам; стоит вам только перейти один из многочисленных мостов, и вы мгновенно переноситесь в другую эпоху, вдыхаете воздух иного века. <…> Старинные особняки с их угрюмыми фронтонами и горделивым презрением к комфорту; лавки – такие, какими они, по всей вероятности, были в аристократические дни Людовика XIV, прежде чем под влиянием вульгарных британцев лавочники обнаглели, а товары подорожали; общественные здания, по сей день красноречиво свидетельствующие о великой щедрости прославленного grand monarque [великого монарха]; кареты с расписными украшениями и внушительным кузовом; могучие лошади нормандской породы с огромными неподрезанными хвостами; слегка надменные, хоть и весьма учтивые люди, на которых Революция как будто не наложила печати демократического плебейства, – все это оставляет смутное, неясное впечатление седой старины. Даже к веселью там примешивается нечто торжественное, а в роскоши сквозит обветшалость. Там вы видите великий французский народ не изменившимся, не запятнанным общением с ордами тех кочующих многоязычных иноплеменников, что стекаются на великую парижскую ярмарку наслаждений».
Слова «Сен-Жерменское предместье» обозначали не только определенное место на карте Парижа, но и особый стиль жизни, старинное изящество языка и манер. Под Сен-Жерменским предместьем подразумевали те двести-триста парижских семейств, которые могли похвастать древностью рода и дворянских титулов, а также близостью к королевскому двору. Настоящие герцоги и графы из Сен-Жерменского предместья не считали ровней себе не только нуворишей-буржуа, но и представителей имперской знати (которые тоже владели особняками в этом районе Парижа).
После падения Наполеона старые аристократы, при Империи не желавшие служить «узурпатору», вернулись на королевскую службу. Сен-Жерменское предместье располагалось очень удобно для них – прямо напротив Тюильри, так что придворным было достаточно пересечь мост через Сену, чтобы попасть во дворец.
Принадлежать к Сен-Жерменскому предместью значило исповедовать монархистские убеждения, противиться революционным и имперским новациям, иметь за своей спиной множество поколений родовитых предков, возрождать обычаи и стиль жизни Старого порядка. Конечно, особняки, где «дышал дух Сен-Жерменского предместья», встречались и вне этого парижского квартала, так что «человеком Сен-Жерменского предместья» мог оказаться и тот, кто жил в другом районе города. Важен был не адрес, а социальное происхождение. Сен-Жерменское предместье отторгало чужаков, даже если они весьма высоко поднялись по служебной лестнице. Так, богатейший банкир Антуан Руа (состояние которого доходило до 40 миллионов франков), получивший титул графа и звание пэра от Людовика XVIII, в январе 1829 года решил устроить большой бал. Руа, в это время занимавший пост министра финансов, пригласил в свой особняк на улице Риволи, на правом берегу Сены, всю знать Сен-Жерменского предместья, всех придворных. Однако не явился никто из аристократов – за исключением князя де Полиньяка, который казался в доме нувориша «иностранцем, изучающим обычаи и нравы далекой страны».
При Июльской монархии символический смысл выражения «Сен-Жерменское предместье» сделался еще более очевидным. Теперь людьми Сен-Жерменского предместья стали считаться все легитимисты – то есть те аристократы, которые сохранили верность старшей ветви Бурбонов и последовательно бойкотировали власть «узурпатора» Луи-Филиппа. Жители Предместья признавали своими государями только изгнанного короля Карла X и его внука герцога Бордоского. Поэтому, продолжая играть значительную роль в культурной, общественной и даже политической жизни страны, легитимисты порвали с королевским двором: они никогда не присутствовали на балах в Тюильри и не занимали придворных должностей. Дельфина де Жирарден придумала для их жизненной позиции определение, которому было суждено большое будущее в ХХ веке, – «внутренняя эмиграция».
Квартал Маре. Худ. А. Монье, 1828
Сен-Жерменское предместье было кварталом благородным, но не современным. Был на парижской карте и другой квартал, который тоже казался крайне старомодным, но совсем на другой лад. Это квартал Маре. Некогда, в XVII веке, этот район Парижа, окружавший заложенную Генрихом IV Королевскую площадь, слыл новым и модным. Однако в начале XIX века Маре превратился в глухую провинцию внутри Парижа, и столичные щеголи притворялись, что вообще не знают о его существовании.
Англичанка леди Морган в своей второй книге о Франции (1830) отмечает, что «квартал Маре не известен ни фешенебельным дипломатам, ни завсегдатаям Тюильри», а сочинитель «Физиологии провинциала в Париже» (1842) Пьер Дюран (псевдоним Эжена Гино) пишет: «Маре – отдельная провинция, которая не имеет ничего общего с Парижем; жители Маре, как правило, разбираются в парижской жизни даже меньше, чем жители Кемперле или Кастельнодари [провинциальные французские городки]».
Излюбленной темой нравоописательных очерков было отставание квартала Маре от моды. «Пустынник с улицы Шоссе д’Антен» вкладывает в уста «литератора из Маре» такую характеристику своего квартала: «Конечно, моды квартала Шоссе д’Антен становятся известны в Маре не так быстро, как в Вене, Берлине или Петербурге, но в конце концов, по прошествии жалких шести месяцев, знакомимся с ними и мы. Мы с вами просто-напросто проживаем в разных полушариях, а экватором нам служит улица Сен-Дени. Мы – ваши антиподы, а мода – наше общее солнце; оно светит нам не одновременно, но будьте уверены, что рано или поздно его лучи доходят и до нас».
После этого следует перечисление экстравагантных новинок, уже вышедших из моды в более передовых кварталах, но попавших в большой фавор у жителей Маре. Модные новинки доходили до Маре в последнюю очередь и зачастую здесь не приживались. Рядом с кварталом Маре (на бульваре Тампля) располагалось «Турецкое кафе», которое удовлетворяло всем требованиям самого взыскательного и современного вкуса. Однако Л. Монтиньи замечает: «Для такого прекрасного заведения потребна соответствующая публика, между тем у здешних посетителей на лбу написано, что они выросли в Маре; стоит увидеть хотя бы, как они с разинутым ртом восторгаются красотами “Турецкого кафе”. Восторг этот граничит с тупостью, а наряды их, головные уборы и прически не имеют ничего общего с нынешними временами: кажется, будто перед наблюдателем проходит смотр всех фасонов, бывших в моде с 1789 года до наших дней… Это, можно сказать, настоящие пирамиды квартала Маре, его египетские мумии».
Квартал Шоссе д’Антен. Худ. А. Монье, 1828
Выражение «житель Маре» обладало не меньшим символическим смыслом, чем слова «житель Сен-Жерменского предместья»; «жителями Маре» именовали узколобых ханжей и скряг. У Бальзака есть повесть «Побочная семья» (1830), главный герой которой, прокурор Гранвиль, женившись на набожной провинциалке, поселяется в Маре. Он «хоронит себя» в этой глуши по воле жены, однако собственные пристрастия влекут его в другие районы Парижа. Поэтому для своей любовницы Гранвиль снимает квартиру в квартале Шоссе д’Антен, где «все молодо и полно жизни, где моды являются во всей своей новизне, где по бульварам гуляет элегантная публика, а до театров и прочих развлекательных заведений рукой подать».
«Молодой» квартал Шоссе д’Антен располагался на правом берегу Сены, между бульваром Итальянцев и улицей Сен-Лазар. На востоке границей квартала служили улицы Монмартского Предместья и Мучеников, на западе – улицы Аркады и Утеса. Еще в начале XVIII столетия на этом месте (в ту пору район носил название Поршероны) располагался большой лесной массив, принадлежавший частично откупщикам, а частично – аббатству Монмартрских Дам. В 1720 году все эти земли разделили на участки для продажи и начали застраивать; постепенно новый квартал начали именовать Шоссе д’Антен (по названию его главной улицы). Финансисты и художники охотно селились здесь еще со второй половины XVIII века, однако пора активной застройки квартала Шоссе д’Антен наступила только в эпоху Реставрации.
Предприниматель Лаперьер, главный сборщик налогов департамента Сена, вместе с архитектором Константеном застроил Белую улицу, улицы Пигаля, Башни Монмартрских Дам, Ларошфуко, Сен-Лазар и Тебу. Чтобы привлечь покупателей, Лаперьер в начале 1820-х годов придумал для части нового квартала, располагавшейся между улицами Ларошфуко и Башни Монмартрских Дам с одной стороны и улицами Белой и Сен-Лазар с другой, название «Новые Афины». Лаперьер обыграл симпатии своих соотечественников и к современным грекам, восставшим против турецкого ига, и к древнегреческой культуре: парижанам XIX века лестно было чувствовать себя преемниками древних афинян. Застройкой соседней части квартала Шоссе д’Антен, получившей название Сен-Жорж (между улицами Ларошфуко и Мучеников), занимался биржевой маклер Алексис-Андре Дон (с 1833 года тесть Адольфа Тьера – политического деятеля, который при Июльской монархии дважды, в 1836 и 1840 годах, возглавлял кабинет министров).
Среди обстоятельств, привлекавших парижан в квартал Шоссе д’Антен, самым существенным была близость Бульваров, которые к этому времени превратились в коммерческий и развлекательный центр Парижа, причем Парижа нового. Русский дипломат Г.-Т. Фабер в своем «Взгляде на состояние общественного мнения во Франции в 1829 году» очень точно выразил то ощущение, которое испытывал путешественник, очутившийся в квартале Шоссе д’Антен: «В течение одного вечера, переместившись из Сен-Жерменского предместья в квартал Шоссе д’Антен, попадаешь из пятнадцатого или шестнадцатого века в год 1789-й. Достаточно пересечь Сену по мосту, чтобы очутиться у антиподов».
Новый квартал населяли, во-первых, богатые банкиры и промышленники, а во-вторых, люди искусства. На улице Артуа в особняке, принадлежавшем до Революции откупщику Лаборду, жил банкир Жак Лаффит; в 1830 году он активно поддержал Июльскую монархию, и потому улица получила его имя (которое носит и поныне). По соседству с Лаффитом с середины 1830-х годов жили в собственных особняках банкиры братья Ротшильд (Джеймс и Соломон), а также управляющий Французского банка Жозеф Перье (брат премьер-министра Казимира Перье). Среди именитых жителей квартала Шоссе д’Антен следует назвать промышленников Давилье и Бенжамена Делессера (брата префекта полиции, о котором шла речь в главе пятой), банкиров Оттингера, Боше и Агуадо, биржевых маклеров Татте и Бурдона де Ватри. Наконец, упомянутый выше Адольф Тьер выстроил на площади Сен-Жорж особняк для своего семейства и для родителей своей жены.
Список творческих людей, живших в квартале Шоссе д’Антен, состоит из имен еще более славных: художники Делакруа, Жерико, Орас Верне, Поль Деларош, Ари Шеффер, актеры Тальма и Арналь, актрисы мадемуазель Марс и мадемуазель Дюшенуа, певица Полина Виардо и танцовщица Тальони, певцы Дюпре и Роже, писательница Жорж Санд и композитор Шопен. Некоторые из «артистических» домов в этом квартале пользовались особенно шумной известностью. Например, мадемуазель Марс в 1824 году приобрела особняк на углу улицы Башни Монмартрских Дам и улицы Ларошфуко. 21 марта 1827 года она устроила в нем бал-маскарад, который стал заметным событием светской жизни Парижа и даже удостоился отчетов в прессе. Свыше тысячи гостей танцевали в залах и прогуливались по галерее, которая вела «в элегантную теплицу, где в любое время года можно насладиться благоуханием цветов и экзотических растений» (газета «Пандора»). К услугам гостей были разнообразные буфеты и стол на 25 персон, на котором в течение ночи постоянно обновлялись кушанья и приборы. Актеры, литераторы и художники веселились бок о бок с аристократами и финансистами, причем все гости были одеты в самые живописные костюмы – тирольские и неаполитанские, турецкие и китайские, и даже в наряды олимпийских богов.
Таким образом, квартал Шоссе д’Антен был богатым и модным; переезжая сюда, человек демонстрировал всему Парижу, что высоко поднялся по социальной лестнице и живет «наравне с веком». Характерная зарисовка дана в одном из очерков «Пустынника с улицы Шоссе д’Антен»: у молодой жены богатого банкира есть все: «шалей целые сундуки, платья – счету нет, головной убор что ни день, то новый». Бытописатель продолжает: «Чего же, кажется, недоставало ей? Но при пышном туалете, в обществе людей, на балах, в опере и на гуляньях причудница скучает! Судорожное движение нервов и припадки истерики мучат ее. Какая же всему этому причина? Тщеславие! Ей стыдно стало жить в прекрасном доме, на прекрасной улице, но в соседстве с портным!.. И вот она до тех пор больна тоскою, пока муж не купит ей дом на Шоссе д’Антен» (перевод Ф.Н. Глинки).
Однако для некоторых жителей квартала Шоссе д’Антен он вовсе не был пределом мечтаний. Одна из героинь романа Бальзака «Отец Горио» (1835), Дельфина де Нусинген, «готова вылизать всю грязь из луж от улицы Сен-Лазар до Гренельской улицы», лишь бы ее приняла живущая на этой улице виконтесса де Босеан. Чтобы понять эту фразу, нужно знать социальную и символическую географию Парижа. Дельфина – дочь фабриканта вермишели Горио, вышедшая замуж за банкира Нусингена. Она живет на улице Сен-Лазар, в богатом квартале Шоссе д’Антен, но ей этого мало; ее мечта – быть принятой в аристократическом Сен-Жерменском предместье.
Предместье Сент-Оноре. Худ. А. Монье, 1828
Бальзаковская героиня была далеко не единственной, кого посещали подобные желания. Поэтому в Париже часто заключались взаимовыгодные браки между жителями разных кварталов: знатные, но бедные невесты выходили за богатых, но неродовитых женихов, а невесты состоятельные, но рожденные в буржуазных семьях, – за женихов родовитых, но небогатых. Ситуация эта была такой распространенной, что нашла отражение в литературе. В 1827 году на сцене Французского театра комедии с успехом шла пьеса «Три квартала», первый акт которой происходит в доме торговца из Маре, второй – у банкира из квартала Шоссе д’Антен, а третий – у маркизы из Сен-Жерменского предместья. В каждом из этих домов есть девушка на выданье, причем все три невесты воспитывались вместе в одном и том же монастыре. Судьбы их, однако, складываются по-разному: дочь торговца выходит замуж за приказчика своего отца и остается в родном Маре, сестра банкира выходит за знатного, но бедного виконта, обитателя Сен-Жерменского предместья, а племянница маркиза – за банкира из квартала Шоссе д’Антен.
Еще один квартал, который современники воспринимали как единое целое, хотя он и не имел столь ярко выраженной репутации, как Сен-Жерменское предместье или Шоссе д’Антен, – это предместье Сент-Оноре. Как и Сен-Жерменское предместье, оно располагалось в самом центре города, но не на левом, а на правом берегу Сены. Границами этого квартала служили Вандомская площадь и бульвар Мадлен, улицы Предместья Сент-Оноре, Анжуйская Сент-Оноре и Королевская Сент-Оноре. В предместье Сент-Оноре жили представители той либеральной аристократии, которая не стремилась восстановить старые, дореволюционные порядки, а в 1830–1840-е годы охотно сотрудничала с «июльским» режимом. Кроме того, здесь проживали дипломаты и богатые иностранцы, такие как княгиня Багратион, или дочь английского адмирала Кейта, вышедшая за графа Шарля де Флао (побочного сына Талейрана), или итальянка, покровительница художников и музыкантов, княгиня Бельджойозо. Здесь же обитали прославленные французские политики – дипломат Талейран и «герой Старого и Нового Света», участник американской Войны за независимость и двух французских революций (1789 и 1830 годов) генерал де Лафайет.
Существовали в Париже и такие кварталы, которые были почти полностью отданы индустрии развлечений. Два из них достойны отдельного рассказа – Пале-Руаяль и парижские Бульвары.
О Пале-Руаяле русский путешественник Н.С. Всеволожский сказал: «это целый город, и город богатый, роскошный, составившийся и существующий в сердце Парижа».
Пале-Руаяль (Palais-Royal, то есть Королевский дворец) вначале назывался Palais-Cardinal (Кардинальский дворец), так как был построен в 1629–1633 годах для кардинала Ришелье, но по завещанию первого владельца, умершего в 1642 году, перешел во владение короля Людовика XIII и его прямых наследников. В 1692 году Людовик XIV подарил Пале-Руаяль своему брату Филиппу, герцогу Орлеанскому, и с тех пор дворец принадлежал Орлеанской династии. В начале 1780-х годов потомок и тезка герцога Филиппа Орлеанского выстроил по трем сторонам сада, прилегающего к дворцу, галереи с аркадами; в честь сыновей герцога они получили название Валуа (с восточной стороны сада), Божоле (с северной) и Монпансье (с западной). Чтобы расплатиться с долгами, 60 помещений в этих галереях герцог продал, и с тех пор Пале-Руаяль (или Пале-Рояль, как называли его русские мемуаристы XIX века) сделался одним из центров парижской торговли и индустрии развлечений. Здесь, «в средоточие шума, бегания, девок, новостей, роскоши, нищеты, разврата» (К.Н. Батюшков), располагались лавки, кафе, рестораны, игорные дома и даже бордели. Каждое заведение занимало одну, а самые богатые – несколько аркад.
В 1784 году из-за недостатка средств с южной стороны сада была возведена галерея не каменная, а деревянная (парижане прозвали ее «Татарским лагерем»). Она пользовалась дурной славой, поскольку здесь было немало притонов, где посетители имели особенно много шансов стать жертвой воров и жуликов. Впрочем, в XIX веке здесь же размещались и заведения более чем почтенные, например лавка известного книгопродавца Дантю и продуктовая лавка г-жи Шеве, куда из разных концов света доставлялись деликатесы, способные удовлетворить самого взыскательного гурмана.
Конфискованный во время Революции, дворец Пале-Руаяль уже 18 мая 1814 года был возвращен законному владельцу. Луи-Филипп пригласил архитектора Фонтена, который в течение восемнадцати лет приводил в порядок и перестраивал дворец. Кроме того, в 1826–1828 годах Деревянная галерея, насквозь проеденная крысами, была снесена, и на ее месте в течение 1829–1831 годов выстроена галерея, получившая название Орлеанской. Тогда же префект Дебеллем принудил торговцев удалить с фасадов своих заведений вывески, фонари и прочие украшения, заслонявшие аркады.
Представление о том, как выглядела Деревянная галерея Пале-Руаяля в начале 1820-х годов (когда ее реконструкция еще не началась), можно получить по отрывку из романа Бальзака «Утраченные иллюзии»: «Это бараки или, точнее, дощатые лачуги, неряшливо крытые, скудно освещенные слабым светом, пробивающимся со стороны двора и сада сквозь щели, именуемые окнами, но более похожие на грязные отдушины харчевен за парижскими заставами. Лавки образовывали две галереи высотою около двенадцати футов. <…> И со стороны двора, и со стороны сада вид этого причудливого дворца являл самый наглядный образец парижской неопрятности: облезшая клеевая краска, отвалившаяся штукатурка, ветхие вывески, фантастические объявления. Наконец, парижская публика немилосердно пачкала зеленые решетки как до дворе, так и в саду. <…> Прекрасная каменная галерея, ведущая к Французскому театру, представляла в ту пору узкий проход, чрезвычайно высокий и с плохим перекрытием, не защищавшим от дождя. Она называлась Стеклянной галереей, в отличие от галереи Деревянной. Кровля над этими вертепами находилась в столь плохом состоянии, что против Орлеанов был возбужден процесс известным торговцем кашемировыми шалями и тканями, у которого в одну ночь было испорчено товаров на значительную сумму. Торговец выиграл тяжбу. Просмоленный холст, натянутый в два ряда, местами заменял крышу. В Деревянной галерее, так же как и в галерее Стеклянной, полом служила натуральная парижская почва, удобренная слоем земли, занесенной на сапогах и башмаках прохожих. Тут люди поминутно проваливались в ямы, спотыкались о бугры затверделой грязи, без устали подчищаемой торговцами, и от новичка требовалась известная сноровка, чтобы не упасть. <…> В продолжение двадцати лет биржа собиралась напротив, в нижнем этаже дворца. Стало быть, здесь составлялось общественное мнение, создавались и рушились репутации, заключались политические и финансовые сделки. <…> Там были только книжные лавки, поэзия, политика, проза, модистки, а вечером там появлялись публичные женщины. Там процветали новости моды и книги, новые и старые светила, заговоры Трибуны и выдумки книжной торговли. Там продавались новинки, и парижане упорно желали их покупать только здесь. <…> Так как отопить помещение было невозможно, торговцы пользовались жаровнями, и каждый представлял сам себе пожарную охрану, ибо при малейшей неосторожности в четверть часа могло сгореть все это царство досок, высушенных солнцем и как бы накаленных пламенем проституции, наполненных газом, муслином, бумагами, обвеваемых сквозным ветром. Модные лавки ломились от непостижимых шляпок: сотнями выставленные на металлических стержнях, увенчанных грибом, созданные, казалось, скорее для витрин, чем для продажи, они оживляли галереи радугою красок. В течение двадцати лет прохожие спрашивали себя: на чьих головах эти пропитанные пылью шляпы окончат свое жизненное поприще? <…> Книгопродавцы и модистки жили в добром согласии. В пассаже, пышно именуемом Стеклянной галереей, гнездились самые своеобразные промыслы. Там обосновались чревовещатели, всякого рода шарлатаны, зрелища, где нечего было смотреть, и зрелища, где вам показывали весь мир. <…> Лишь только собиралась публика, молодые люди, безденежные, изголодавшиеся по литературе, приступали к дармовому чтению книг, выставленных у дверей книжных лавок. Приказчики, обязанные оберегать лотки с книгами, милосердно дозволяли бедным людям перелистывать страницы. <…> Великими и единодушными сожалениями сопровождалось разрушение этих отвратительных дощатых бараков».
Галерея Пале-Руаяля. Худ. О. Пюжен, 1831
После Революции 1830 года Луи-Филипп, провозглашенный королем французов, вынужден был перебраться из родового гнезда во дворец Тюильри, более подобающий королю, но дворец и сад Пале-Руаяля все равно остались его собственностью. «Одно только право сдать внаем стулья в саду приносит королю-гражданину 32 000 франков в год», – сообщает в 1832 году Э. Рош в очерке из сборника «Париж, или Книга ста и одного автора». Стулья получали за небольшую плату те, кому не хватало бесплатных мест на каменных скамейках, расположенных вдоль аллей. В летнее время на лужайке в центре сада были расставлены круглые столики с мороженым, которое пользовалось у посетителей большим спросом. Право торговать в саду напитками и мороженым имел только владелец кафе Фуа в галерее Монпансье, причем первоначально ему не разрешено было ставить в саду столики, и вместо них использовались стулья. В саду Пале-Руаяля находился также полукруглый павильон с колоннами под названием «Ротонда», который был возведен владельцем кафе «Погребок», расположенного в галерее Божоле. Здесь же, в саду, стояли еще три небольших павильона: в двух можно было за небольшую плату получить для прочтения свежие газеты, третий же, состоявший из восьми кабинок, предназначался для удовлетворения нужд менее возвышенных; впрочем, появился он здесь не раньше 1830-х годов.
Кафе, рестораны и магазины Пале-Руаяля славились не только среди парижан, но и среди иностранцев, охотно посещавших здешние галереи. Из заведений Пале-Руаяля особенно широкую известность имели рестораны Вери, Вефура и Провансальских братьев, кофейня «Тысяча колонн», кофейни Фуа, Ламблена, Валуа, «деликатесные» продуктовые лавки Корселле и Шеве.
Здесь же к услугам любителей рисковать были игорные заведения, а до начала 1830-х годов в Деревянной галерее функционировало множество публичных домов разного класса и уровня. Однако при «июльском» режиме «нимф радости, которых бесстыдство превышает всё» (как писал о них русский поэт Батюшков) отсюда удалили, что придало Пале-Руаялю вид гораздо более пристойный и буржуазный.
Л. Монтиньи в 1825 году писал: «Если Париж, как неоднократно утверждали, есть столица мира, то квартал Пале-Руаяля есть повторение Парижа в миниатюре». Местоположение квартала давало ему огромные преимущества. Монтиньи уточнял: «Поблизости раскинулся прекрасный парк Тюильри; неподалеку пролегают прекраснейшие из бульваров; в Пале-Руаяле работают пять театров: Французский театр, Королевская академия музыки [Французская опера], Комическая опера, Итальянская опера и малый театр Водевиля, а шестой, театр Варьете, располагается поблизости [на Монмартрском бульваре, дом 7]; главнейшие заведения столицы: Биржа, Библиотека, Банк, Казначейство и Почта – также находятся по соседству. В этом же квартале имеют свои станции главные почтовые конторы, а по меньшей мере три пятых всех домов превращены в меблированные квартиры».
Хотя к 1830-м годам у Пале-Руаяля появились конкуренты (прежде всего Бульвары, о которых речь пойдет чуть ниже), его слава не померкла. Больше того, в эту пору Пале-Руаяль воссиял не только в переносном, но и в прямом смысле. Э. Рош замечает в 1831 году, что с тех пор, «как был изобретен способ проводить газ по трубам, словно воду из Сены», более двухсот светильников стали проливать свет на сад и аркады галерей. Магазины после введения газового освещения (о котором подробнее говорится в главе десятой) засияли ярче прежнего, причем все продаваемые там сокровища – золото и сталь, серебро и хрусталь, шелк и драгоценные камни – отражались в бесчисленных зеркалах.
Пале-Руаяль был предназначен для приятного времяпрепровождения и для торговли предметами роскоши. Русский мемуарист Н.С. Всеволожский замечает: «Пале-Рояль сосредоточивает в себе всю роскошь, все наслаждения, все прихоти, какие только можно пожелать». А французский литератор Э. Рош пишет: «Потрясенный иностранец задается вопросом, не представляет ли собою весь Пале-Руаяль не что иное, как огромный базар, или, может быть, где-то здесь прячется тайное, невидимое обычному взгляду пространство, в котором жители могли бы наслаждаться покоем и сном. Нет, такого пространства в Пале-Руаяле не существует; промышленность захватила его весь целиком: на первом этаже расположились магазины; над ними к услугам посетителей бани, игорные дома, рестораны, бильярдные залы, кофейные заведения, кабинеты для чтения, выставки; а верхние этажи отданы артистам всякого рода: художникам, граверам, дантистам, парикмахерам и проч., а также некоторому числу султанш, которым суровая полиция предписывает в течение дня обозревать театр своих предполагаемых побед лишь из окошек. Семьи простых буржуа не могут поселиться в Пале-Руаяле, как поселились бы они в любом другом уголке Парижа; здесь селятся только торговцы, только те, для кого вся жизнь сводится к торговле; всякий, кто избирает Пале-Руаяль местом жительства, лишает себя тем самым возможности наслаждаться домашним уютом, отказывается раз и навсегда от радостей отдыха в семейном кругу; напротив, он обрекает себя на необходимость постоянно иметь дело с посетителями, с публикой, ему приходится тесниться, уступая место товарам и покупателям; в Пале-Руаяле живут не для того, чтобы жить, а для того, чтобы торговать. <…> Взгляд наблюдателя узнает здесь приезжих из самых разных стран, провинциалов из самых разных департаментов, холостяков, студентов, изгнанников, политических смутьянов, наконец, авантюристов, надеющихся на счастливый случай, который позволит им поесть, побывать в театре или вкусить иных удовольствий».
День в Пале-Руаяле, как и во всем Париже, подчинялся определенному ритму, и одни группы посетителей сменяли другие по заведенному порядку. Самым ранним утром, до десяти часов, сад принадлежал школьникам и нянькам с детьми. Около десяти утра являлись читатели газет, к услугам которых были павильоны, торгующие периодическими изданиями или, за меньшую плату, предоставляющие их для чтения здесь же в саду. Затем заполнялись залы кофеен, ибо у парижан уже в 1820-е годы появилась привычка плотно завтракать в этих заведениях. В полдень раздавался выстрел пушки, установленной в саду Пале-Руаяля, и по нему парижане сверяли часы. К этому времени сад заполнялся как праздными фланерами, так и прохожими, идущими по делам. К пяти наступало время обеда в ресторациях, а отобедав, посетители отправлялись в театры.
Мало кто мог устоять перед соблазнами Пале-Руаяля. Ф.Н. Глинка свидетельствовал в «Письмах русского офицера»: «В сем-то Пале-Рояле человек может найти все, что нравится благородному и низкому вкусу, все, что крепит и разрушает здоровье, все, что украшает и зарезывает время и наконец, все, что питает развратные склонности и выманивает из сердца добрые навыки, а из кошелька – деньги! <…> Войдем в славные здешние галереи. Они очень длинны и очень нешироки. Тут вечная ярмарка!.. Люди всякого состояния, всяких лет и всяких народов шумными толпами теснятся взад и вперед. Тысяч по двадцати выходит ежечасно, и в течение года весь миллион парижских жителей верно тут побывает. <…> Тут всегда множество людей едят и пьют всех родов прохладительные, а другое множество гуляет в саду. Во втором этаже залы наполнены всеми средствами терять деньги, преимущественное из всех есть игра в рулетку. Тут же, подле, заемный банк. В одну минуту можно занять и разбогатеть, в другую проиграть и обеднеть». Два десятка лет спустя те же ощущения испытал Н.С. Всеволожский: «Под арками и перед лавками знаменитое гулянье, куда сбираются ежедневно праздные и деловые жители Парижа; первые зевают на лавки и смотрят сквозь стекла на все сокровища, в них разложенные: тут галантерейные и модные магазины, там собрания редкостей, книжные лавки; тут съестные припасы, лакомые и дорогие у Шеве, у Корселя [Корселле]; невольно заглядишься и промотаешь что-нибудь, то есть купишь по большей части не нужное».
В 1814 году, когда войска антинаполеоновской коалиции вошли в Париж, лавки и в особенности игорные заведения Пале-Руаяля пользовались огромной популярностью среди русских, прусских, английских военных. Маршал Блюхер, по легенде, однажды проиграл за вечер в игорном заведении галереи Валуа полтора миллиона франков. Это дало злым языкам повод говорить, что союзники оставляют во французских игорных домах и домах терпимости суммы куда большие, чем те, какие получили в виде контрибуции от французского правительства (на самом деле, разумеется, контрибуция была куда значительнее: ее общая сумма равнялась 700 миллионам).
Таков был Пале-Руаяль до запрещения азартных игр и до вынесения публичных домов на окраину города. Однако к концу 1830-х годов обстановка здесь изменилась. В.М. Строев, побывавший в Париже в 1838–1839 годах, свидетельствует: «Недавно еще Пале-Рояль считался первым местом в Париже для прогулки, веселья, пиров. Теперь он стал спокойнее, смирнее. Игорные домы, перед которыми толпились тысячи искателей счастия и богатства, закрыты. Прелестницы, выставлявшие себе напоказ и привлекавшие приезжих, выгнаны. Пале-Рояль очищен от разбоя игры и сладострастия. Если он потерял в многолюдстве, то стал чище, опрятнее, пристойнее. Теперь можно гулять по его красивым галереям с женою и дочерью; можно пустить в Пале-Рояль молодого человека, не боясь, что он проиграется в пух и не воротится домой. Бывали примеры, что несчастные игроки стрелялись у дверей самих игорных домов. Бывали случаи, что отцы семейств живали по месяцам в приютах неги и сладострастия, забывая жен и детей, и выходили из Пале-Рояля без кошелька, без часов, в долгах. Теперь нет ни заманчивых карт, ни приманчивой красоты: в Пале-Рояле ходишь свободно, безопасно; ничто и никто не поджигает страстей. Но парижанам не понравилось изгнание карт и разврата; они оставили Пале-Рояль и ищут развлечения на бульварах, куда переселились красавицы, и в домишках, где скрывается картежная игра под непроницаемою тайною. <…> Одни иностранцы и приезжие платят дань Пале-Роялю. Нельзя же, приехав в Париж, не посмотреть на хваленое чудо; а придя в Пале-Рояль, нельзя не соблазниться, не купить миленьких вещиц, выставленных хазовою [выигрышной] стороною и с ослепительным блеском. Французы, гуляющие в Пале-Рояле, смеются над приезжими провинциями и путешественниками, а торговцы набивают карманы, и слава Пале-Рояля цветет по-прежнему, хотя он уже не похож сам на себя».
Помимо Пале-Руаяля было еще одно место, которое всякий современник, описывавший Париж эпохи Реставрации и Июльской монархии, непременно упоминал наряду с отдельными улицами и площадями, пассажами и набережными. Это Бульвары. Репутация Бульваров к этому времени уже сложилась: они воспринимались как центр роскоши и развлечений, как одно из самых модных торговых и веселых мест в городе.
Наименование Большие бульвары закрепилось за улицами, о которых здесь пойдет речь, лишь во второй половине XIX века, после того как в 1860 году в состав Парижа были включены так называемые внешние бульвары. В первой половине XIX века такой оговорки не требовалось: участок правобережного Парижа, идущий от площади Бастилии до площади Мадлен, назывался просто Бульварами.
Строго говоря, кольцо бульваров проходило и по левому берегу. Там располагались «южные» бульвары: Больничный, Монпарнасский, Сен-Жак. Они были задуманы Людовиком XIV еще в начале XVIII века, а проложены в 1760-е годы. Однако если парижанин или приезжий говорил, что собирается на Бульвар или только что вернулся с Бульвара (по-французски это слово употреблялось в единственном числе), никому и в голову бы не пришло, что он имеет в виду какой-нибудь из левобережных бульваров. Под Бульваром или Бульварами (с большой буквы) подразумевалось совсем другое, совершенно особенное место, предназначенное для приятного времяпрепровождения.
Возникли Бульвары во второй половине XVII века, когда на месте разрушенной крепостной стены были устроены широкие (шириной около 36 метров) аллеи для прогулок, обсаженные несколькими рядами деревьев. Они обозначали официальную границу Парижа на правом берегу; за ними начинались предместья (faubourgs), которые до 1702 года не входили в состав Парижа, хотя были тесно с ним связаны (в отличие от самостоятельных поселений – bourgs). Поэтому улицы, шедшие из центра города, при пересечении Бульваров меняли свои названия: улица Сен-Дени превращалась в улицу Предместья Сен-Дени, улица Тампля – в улицу Предместья Тампля и т. д. Бульвары начинались от площади Бастилии и продолжались до нынешней площади Мадлен. В состав этого полукольца входили следующие участки: бульвар Дев Голгофы, бульвар Тампля, бульвары Сен-Мартен, Сен-Дени, Благой Вести, Рыбный, Монмартрский, Итальянцев, Капуцинок, Мадлен.
До конца XVIII века Бульвары были почти деревенской окраиной Парижа, и посещали их только любители прогулок на свежем воздухе. В отличие от узких и темных улочек центра Парижа, Бульвары были широкими и светлыми. Постепенно здесь стали появляться развлекательные заведения: панорамы (на углу Монмартрского бульвара и только что проложенного пассажа, который так и назвали: пассаж Панорам), кабинет восковых фигур Курция, театры марионеток и канатоходцев. В театрах на Бульварах вообще не было недостатка: на одном только бульваре Тампля в середине 1830-х годов работали два драматических театра, один цирк (в ту эпоху приравнивавшийся к театру) и два театра мимов и канатоходцев. На бульваре Сен-Мартен находились театры «Амбигю комик» и «У ворот Сен-Мартен», на бульваре Благой Вести – «Драматическая гимназия», на Монмартрском бульваре – театр «Варьете», и это далеко не полный список. Многие театры закрывались, а потом открывались вновь, и жизнь на бульварах кипела.
Рядом с театрами на Бульварах открывались кофейни и кабачки, тут же появлялись модные лавки, и постепенно Бульвары стали самым «шикарным» местом в Париже. Впрочем, не все их участки имели одинаково блестящую репутацию, не все считались одинаково модными. Вдобавок репутация эта менялась со временем: вначале в моде была юго-восточная часть Бульваров, а затем центр «фешенебельности» постепенно сместился на северо-запад. О том, как это происходило, рассказал Бальзак в очерке «История и физиология парижских бульваров» (1845): «У Бульвара своя собственная судьба. Нельзя было и предположить, чем он станет к 1800 году. Из района, находящегося между Предместьем Тампля и улицей Шарло, где кишел весь Париж, жизнь ушла в 1815 году на бульвар, где располагались Панорамы [Монмартрский бульвар]. В 1820 году она сосредоточилась на Гентском бульваре, а теперь поднимается выше, к церкви Мадлен».
Бальзак даже достаточно точно предсказал будущее, разглядев в Елисейских Полях (которые в ту пору еще только начинали застраиваться) грядущего грозного конкурента Бульваров.
Каждый бульвар имел не только особую репутацию, но и своих завсегдатаев: бульвар Итальянцев был самым роскошным, Рыбный бульвар и бульвар Благой Вести предназначались для более скромной публики. Именно эту специфику разных участков Бульваров точно охарактеризовал Бальзак:
«Начиная от Монмартрской улицы и вплоть до улицы Сен-Дени физиономия бульваров резко меняется, несмотря на здания, не лишенные своеобразия. <…> Уже не заметно изящества у прохожих, хорошо одетые дамы здесь чувствуют себя неловко, художник и светский лев не отважатся показаться в этих местах. С улиц, прилегающих к воротам Сен-Дени, из Предместья Тампля, улицы Сен-Мартен приходит сюда множество людей провинциального вида, совсем не элегантных, плохо обутых, похожих на торгашей; появляются старики домовладельцы, буржуа, удалившиеся от дел; словом, здесь вы попадаете в совсем иной мир!.. В Париже достаточно перейти с одного бульвара на другой, и все меняется. Уже нет смелости в убранстве магазинов, нет роскоши в мелочах, нет богатых витрин, нет всего того, что придает поэтичность бульварам между улицей Мира и Монмартрской улицей. Совсем иные здесь и товары; нахальная лавка, продающая все по двадцати пяти су, выставляет свое недолговечное добро; уже ничто не подстрекает вашего воображения, которое за несколько шагов отсюда непрестанно находилось в возбужденном состоянии. Контраст столь разительный, что ум не в силах с ним справиться; мысли ваши переменяются, и если у вас имеются пятифранковые монеты, вы спокойно оставляете их у себя в кармане».
На бульварах Сен-Дени и Сен-Мартен царили мелкие буржуа, наконец, бульвар Тампля был отдан простонародью и являл собою «пеструю картину блуз, рваной одежды, крестьян, рабочих, тележек – толпы, среди которой чистое платье кажется чем-то нелепым и даже предосудительным». Сделав это замечание, Бальзак продолжает описание той части бульваров, которая начиналась возле театра «У ворот Сен-Мартен»: «Эта зона для простонародья – то же, что и бульвар Итальянцев для хорошего общества. Но она оживляется только по вечерам, ибо утром все здесь уныло, бездеятельно, безжизненно, бесцветно. Зато вечером какое здесь оживление! Восемь театров наперебой приглашают зрителей. Пятьдесят торговок продают с лотков съестное, поставляя пищу народу, который ассигнует два су на хлеб и двадцать су на зрелища. Только здесь вы услышите парижские уличные крики, увидите, как кишмя кишит народ, встретите лохмотья, способные изумить живописца, и взгляды, способные испугать собственника!»
Правда, и на бульваре Тампля работали два заведения, куда случалось заходить даже самым взыскательным парижским гурманам, – «Турецкое кафе» и ресторан «Синий циферблат».
Наконец, участок Бульваров, примыкающий к площади Бастилии, в 1820-е годы был просто-напросто тихой улицей, обсаженной деревьями; здесь прогуливались по преимуществу жители «старомодного» квартала Маре, а фешенебельные парижане забредали сюда лишь случайно. Однако позже этот бульвар (названный в 1831 году именем Бомарше) стал более оживленным: множество парижан стремилось взглянуть на то, как на площади Бастилии в память о Революции 1830 года воздвигают Июльскую колонну (работы шли с 1833 по 1840 год).
Свою особую репутацию имели даже отдельные участки некоторых Бульваров. Самой фешенебельной улицей Парижа считалась та часть северной стороны бульвара Итальянцев, которая начиналась у кафе Риша (на углу улицы Ле Пелетье, то есть у дома 16) и заканчивалась у «Парижского кафе» (на углу улицы Тебу, то есть у дома 24); в эпоху Реставрации она именовалась Гентским бульваром – по названию того бельгийского города, где Людовик XVIII и его двор провели Сто дней правления Наполеона. Именно на Гентском бульваре располагались такие прославленные заведения, как «Парижское кафе», кафе Тортони, Арди и Риша; отсюда начинался пассаж Оперы, ведущий к театру на улице Ле Пелетье. Такова была северная сторона бульвара Итальянцев; напротив, по его южной стороне «никто не ходил, другими словами она не имела никакой цены, ее магазины не привлекали ни арендаторов, ни покупателей, в них торговали без блеска, без чувства собственного достоинства» (Бальзак).
До тех пор, пока обе стороны этого бульвара не сравнялись в глазах парижан в модности и элегантности, разница между ними была для «посвященных» настолько разительной, что современник сравнил ее с разницей между двумя берегами Рейна в Страсбурге: на одном берегу Франция, а на другом – уже Германия.
Не все современники безоговорочно превозносили Гентский бульвар. Л. Монтиньи характеризует его более иронично: «Это короткий участок улицы, куда хороший тон предписывает являться летним вечером, с восьми до десяти часов, дабы глотать пыль, которой многочисленные экипажи, проезжающие по бульварам, одаряют пешеходов с отменной щедростью». Замечание автора относится к 1825 году, когда бульвар еще не имел ни мостовой, ни тротуаров и представлял собой песчаную аллею (плитами вулканического происхождения его вымостили лишь в конце 1820-х годов). Впрочем, ни пыль, ни теснота из-за обилия народа и расставленных вдоль улицы стульев не смущали любителей прогулок. Правда, привычка парижан расставлять стулья на улицах, превращая их в своеобразный зрительный зал, весьма удивляла приезжих иностранцев. Англичанка леди Морган писала в вниге 1817 года: «В Париже стулья приготовлены не только для посетителей городских садов и парков, но и для тех людей, кто просто прогуливается по городу; на улицах, вдоль самых модных бульваров, перед кофейнями и кабачками расставлены стулья, которые можно взять внаем за весьма умеренную цену. Вот вам и вся прогулка модных парижан – посидеть на свежем воздухе».
Китайские бани на бульваре Итальянцев. Худ. Л.-А. Баклер д’Альб, 1822
Стоит отметить, что сдача внаем стульев играла немаловажную роль в формировании парижского городского бюджете: в 1816 году муниципалитет выручил на этом 6650 франков, в 1825 году – свыше 10 000.
На бульварах была особенно заметна склонность парижан к «ротозейству» (к которой мы еще вернемся в главе семнадцатой); писатель Жуи сетовал: «Горе тому, кого неотложные дела вынуждают пройти по бульвару на склоне дня! На каждом шагу ход ему будут преграждать группы горожан: одни взирают, разинув рот, на мальчугана, который кувыркается между двумя горящими свечами, другие толпятся вокруг продавца кельнской воды, третьи слушают шарманку, которая, страшно фальшивя, играет мелодию из “Золушки”, четвертые внимают гадалке, готовой раскинуть карты и нагадать много любви, счастья и денег всякому, кто заплатит ей два су; наконец, пятые любуются девицей, которая, укутав голову грязным покрывалом, поет “Страждет мое сердце…”, сопровождая пение игрой на гитаре. Взгляните внимательно на всю эту толпу, и вы без труда опознаете среди сотни бездельников, которые стремятся развеять скуку, трех-четырех воришек, которые почитают наилучшим способом выяснить точное время кражу чужих часов; между тем десятка два торопливых прохожих поначалу бранят зевак, преграждающих им путь, но в конце концов останавливаются поглазеть вместе с ними».
Название «Гентский бульвар» ушло в прошлое вместе с окончанием эпохи Реставрации, но бульвар Итальянцев (обязанный своим названием, полученным в 1783 году, «Итальянцам», то есть Итальянской опере, располагавшейся в ту пору по соседству, в зале Фавара – там, где ныне располагается опера Комическая) продолжал оставаться местом в высшей степени модным и полным соблазнов. Бальзак пишет: «Как только вы ступили сюда, ваш день потерян, если вы мыслитель. Здесь царствует золотой сон, неотступно влекущий к себе. В одно и то же время вы наедине с самим собой и на людях. Гравюры в магазинах эстампов, дневные спектакли, лакомства различных кафе, брильянты в витринах ювелиров – все пьянит вас и возбуждает. Здесь перед вами самые дорогие и изысканные товары Парижа: драгоценности, ткани, гравюры, книги. <…> С биржевого поля битвы к ресторанам движутся люди, переходя от пожирания фондовых ценностей к поглощению пищи. Кафе Тортони не является ли одновременно и предисловием к бирже, и ее развязкой? Почти все парижские клубы расположены в этих местах; прославившиеся художники, известные богачи и тысячи ножек, имеющих отношение к Опере, проходят здесь; во всех кафе сказочный блеск. Десять театров, включая театр Кнта, блистают неподалеку огнями. Этот парижский район нанес смертельный удар Пале-Руаялю. Здесь считаешь себя богачом, здесь самого себя признаешь умником, так как трешься среди умных людей. Здесь столько проезжает экипажей, что минутами кажется, будто и ты уже не идешь пешком. Головокружительное движение захватывает тебя…»
Бульвары были не только развлекательным, но и торговым центром Парижа. Здесь располагались большие магазины (называвшиеся в первой половине XIX века «базарами»): «Большой базар французской промышленности» на Рыбном бульваре, «Базар Буффле» на бульваре Итальянцев, «Базар Благой Вести» на одноименном бульваре. Если в эпоху Реставрации торговля предметами роскоши была сосредоточена в основном в Пале-Руаяле, то при Июльской монархии она переместилась на Бульвары. У Сюсса в пассаже Панорам продавали безделушки, ювелирные изделия, фарфор и картины; у Жиру на улице Петуха Сент-Оноре торговали игрушками, бронзовыми статуэтками, роскошными писчебумажными товарами, кожаной галантерей… Именно возле этих магазинов толпилась состоятельная публика перед Рождеством, когда наступало время покупать подарки.
Русские путешественники оставили колоритные описания парижских Бульваров. Например, В.П. Боткин пишет о Париже 1835 года: «Под густыми, высокими вязами, отеняющими обе стороны улицы, бесконечною, светлою цепью тянутся магазины, лавки, кофейные, ресторации, театры; и все это полно народом, кипит жизнью. Зелень, освещенная ярким газом, переливается какими-то серебристыми отливами; местами цепь магазинов и кофейных прерывается, но прелесть картины увеличивается тогда: в этой тени все веселее, смех громче, остроты вольнее, это придает колориту картины еще больше жизни».
Боткину вторит В.М. Строев, приехавший в Париж тремя годами позже: «Бульвары опоясывают Париж, так что следуя по ним, можно обойти кругом столицы. Начиная от собора Св. Магдалины и до самой Бастилии тянутся самые блестящие бульвары, Капуцинов [так у Строева; правильно – Капуцинок], Италиянский, Монмартрский и пр. Это Невский проспект Парижа. Здесь промышленность раскинула свои палатки, богатые магазины; гастрономия усеяла обе стороны улицы тысячью кафе и ресторатёров, мода выводит сюда ежедневно всех гуляк, всех франтов и франтих. Куда бы ни пошел парижанин, он всегда пройдет по Италиянскому бульвару. Самые лучшие, многолюдные улицы, Ришелье, Вивьенн, Монмартр, Лафитт, Шоссе д’Антен впадают в бульвар, как реки в море. Утром видишь на бульварах людей деловых, занятых, с бумагами, портфелями, связками. В пять часов во всех окнах в кафе движение невообразимое. Вечером, с 9-ти часов, начинается гулянье; на тротуаре ставят стулья и садятся глядеть на проходящих; другие прохаживаются и посматривают на сидящих. Толпы спешат в театры, в оперу, в Варьете, в Сен-Мартен, в Водевиль; на бульварах двенадцать театров, которые наполняются народом каждый вечер. Освещение бульваров походит на иллюминацию; все нижние этажи заняты магазинами; в каждом окне горит газ и освещает шелковые материи, шали, золото, бронзу, выставленные в окнах. <…> Разнообразие магазинных выставок, пестрота толпы, беспрерывные истории, открытие интриг, воровства, самые смешные сцены завлекают внимание и заставляют ходить в продолжение нескольких часов без малейшего утомления».
Самое вдохновенное описание Бульваров как символического центра Парижа оставил Бальзак в уже упоминавшемся очерке:
«У каждого столичного города есть своя поэма, которая выражает его, передает его сущность и своеобразие. Бульвары теперь играют ту же роль в Париже, какую когда-то играл Канале-Гранде в Венеции, какую теперь играют Корсо в Риме, Невский проспект (подражание нашим бульварам) – в Петербурге, Унтер-ден-Линден – в Берлине. <…> Ни в какую эпоху, ни у одной нации не было таких видов, таких прогулок и зрелищ, какие дает нам кольцо бульваров, которое начинается у Аустерлицкого моста, доходит до Зоологического сада и кончается у площади Мадлен, а затем ведет к площади Согласия и к Елисейским Полям. <…> Поезжайте верхом на английской лошади, крупной рысью, от площади Согласия до Аустерлицкого моста, и вы за четверть часа прочтете поэму о Париже, начиная с Триумфальной арки на площади Звезды, где оживут в вашей памяти три тысячи солдат, и кончая убежищем Сальпетриер, где живут три тысячи сумасшедших женщин; от Королевской кладовой [на площади Согласия] до Музея [Лувра], от эшафота Людовика XVI, одетого египетским гранитом [т. е. от Луксорского обелиска на площади Согласия], до первого выстрела революции, огонь которого вспыхнул на глазах у Бомарше, убивавшего своими остротами за десять лет до того, как раздался первый ружейный выстрел [дом Бомарше на бульваре, ныне носящем его имя, находился подле площади Бастилии] <…> Вся история Франции, особенно ее последние страницы, записаны на парижских бульварах».
Бульвары сыграли важнейшую роль в формировании новой культурной среды Парижа. Если в эпоху Реставрации в состав светского общества входили прежде всего люди, принятые при дворе, то в 1830-е годы это понятие постепенно приобрело новый смысл: теперь светскими считались те люди, которые проводили время на Бульварах. Журналист Ипполит де Вильмессан писал в 1840 году: «Все, что не было светским, не существовало. А все, что существовало в Париже, каждый день, около пяти часов, имело обыкновение стекаться к Тортони; двумя часами позже те, кто не ужинал в своем клубе или дома, уже сидели за столиками “Парижского кафе”; наконец от полуночи до половины второго отрезок бульвара между Гельдерской улицей и улицей Ле Пелетье был полон людьми, которые порой вращались в разных кругах, но непременно обладали одинаковыми вкусами, знали друг друга, говорили на одном языке и имели общую привычку встречаться друг с другом каждый вечер».
Парижский дом в разрезе. Иллюстрация из книги «Бес в Париже». Худ. Берталь, 1845
Стиль жизни светского общества Бульваров резко отличался от того, который был принят в придворных кругах или аристократических салонах Сен-Жерменского предместья. Бульвар соединял людей разного происхождения: здесь прирожденные аристократы сближались с законодателями мод или людьми, прославившимися на театральном или журналистском поприще.
В 1830–1840-е годы журналист, широко тратящий деньги на развлечения, имел больше шансов стать парижской знаменитостью, чем аристократ, проводивший вечера исключительно в великосветских салонах. И хотя понятие «полусвет», как мы уже упоминали, вошло в обиход позже, во второй половине XIX века, многие завсегдатаи бульваров вели жизнь в этом самом «полусвете», то есть в обществе актрис-куртизанок, уже в 1840-е годы. Чтобы стать «звездами», им не нужны были ни титулы, ни придворные должности; достаточно было одеваться по моде (а порой эту моду создавать), покорять женщин – от светских дам до танцовщиц, печататься в эфемерных литературно-театральных журналах и обедать в роскошных клубах.
При этом многие из «звезд Бульвара» жили вовсе не в аристократических особняках, а в многоэтажных домах, как большинство парижан. Н.С. Всеволожский, попавший в Париж осенью 1836 года, замечает: «Я думаю, нет в свете города, где бы так высоко строили домы, как в Париже: в 6, 7, 8 этажей, и это почти обыкновенно. Заметьте еще, что наш первый этаж называют здесь rez-de-chausse, а первым называется бельэтаж. Мне случилось, около улицы Святого Антония, насчитать в одном доме 12 этажей! Это чрезвычайно неудобно для бедных людей, живущих обыкновенно в самом верху, где квартиры дешевле. За водою и дровами они должны несколько раз в день взлезать на 200 и 300 ступеней. Каково же это старикам и слабым женщинам? К тому же улицы вообще узки, и солнц никогда не проникает в них от этих колоссальных домов, следственно, и грязь вечная».
Разумеется, в Париже того времени, и в аристократическом Сен-Жерменском предместье на левом берегу Сены, и в модном квартале Шоссе д’Антен на правом берегу, оставалось немало особняков. Однако многие старинные городские усадьбы (особняки с окружавшими их большими садами) уже к 1820-м годам были разделены на участки и распроданы предпринимателям, а те на их месте проложили новые улицы и выстроили многоэтажные дома, которые так любили описывать французские литераторы 1830–1840-х годов.
Дело в том, что представители разных сословий и профессий обычно селились на разных этажах одного и того же дома, который благодаря этому превращался в нечто вроде модели общества в целом. Каждый этаж имел свою репутацию и своих традиционных обитателей. Чем выше располагалась квартира, тем ниже был социальный уровень и благосостояние жильца. Бальзак в романе «Феррагус» (1833) сформулировал это так: «чердаки Парижа – это мозг, блещущий знанием и талантом; вторые этажи – сытый желудок; лавки в нижних этажах – настоящие ноги, здесь толпятся люди гуляющие и люди деловые».
А Поль де Мюссе в сборнике рассказов «Ночной столик» (1832) уподобляет большой парижский дом маленькому провинциальному городку:
«Первый и второй этаж – это своего рода аристократический квартал; именно для аристократов чаще всего отворяются ворота; именно поджидая их возращения, привратник бодрствует полночи. На первом этаже в ходу лайковые перчатки, шелковые чулки и элегантные башмачки. Если во дворе появляются прачка, белошвейка или модный портной, можно быть уверенным, что они явились к жителям первого и второго этажа. <…> Третий и четвертый этаж отданы буржуазии. Здесь лестница метена не так тщательно; здесь к пяти часам пополудни воздух наполняется не слишком аппетитными запахами стряпни; здесь едят на тарелках из фаянса. <…> Жители третьего и четвертого этажей без устали сплетничают о жителях второго и первого. Что же до обитателей пятого этажа и мансард, они злословят обо всех остальных обитателях дома; они пожимают руку привратнику, кланяются горничным, а лакеев именуют “господами”. Они никогда не упустят случая заглянуть в полуоткрытую дверь, они составляют ту болтливую и грубую публику, которая собирается вечерами в неопрятной привратницкой – бирже, куда каждый приносит свои известия, чтобы обменяться слухами с остальными сплетниками».
Привратница, обитающая в каморке на первом этаже, была важнейшим персонажем многоэтажного дома: она знала жизненные обстоятельства всех жильцов; она по собственной инициативе командовала кухарками и слугами, которые обычно жили на верхних этажах; она первой просматривала газеты, которые доставлялись подписчикам.
Это «демократическое» соседство разных сословий и разных бытовых условий, характерное для Парижа, поражало иностранных путешественников. Например, леди Морган в своей книге 1817 года пишет: «Обычай сдавать внаем квартиры даже в особняках, принадлежащих благороднейшим семействам Франции, распространился ныне повсеместно. Сапожник может жить в седьмом этаже того же самого дома, в нижнем этаже которого обитает князь; я своими глазами видела, как высокородная дама, владелица прекрасного особняка на улице Сент-Оноре, выезжает в одном экипаже с буржуа, нанимающим квартиру в ее доме, и они вместе едут ко двору».
Впрочем, уже в эпоху Реставрации эта привычная ситуация начала тяготить парижан. В конце 1820-х годов застройщики предпочитали строить дома не выше трех этажей; заселять более высокие дома становилось затруднительно, потому что богачи с нижних этажей больше не желали жить под одной крышей с неимущими обитателями этажей верхних.
Наличие в многоэтажном доме привратника (портье) также воспринималось приезжими как проявление демократизма парижской жизни и удостаивалось весьма высоких оценок. В 1847 году Герцен писал:
«Парижские квартиры чрезвычайно удобны, в какую цену ни возьмите – от 1000 франков в месяц до 500 в год. Везде зеркала, занавески, мебель, посуда, мраморный камин, столовые часы, кровати с пологом <…> в каждой комнате висит непременно шнурок. Шнурок идет в ложу консьержа, или портье. Портье и вся семья его вечно готовы к услугам постояльцев; в больших домах у них есть помощники. Портье чистит вам платье и сапоги, портье натирает паркет, обтирает пыль, моет окна, портье ходит за табаком, за вином, за бифстексом и котлетами; портье получает ваши письма, в его ложу бросают ваши журналы, ему отдают визитные карточки; портье освещает лестницу в начале вечера и запирает наружную дверь, портье отпирает ее, в какое бы время вы ни пришли, у него горит свеча, вы берете свой ключ, зажигаете ночник и идете спокойно, зная, что вас не ждут. Как портье успевает? <…> Где он спит, когда отдыхает – это тайна; дело в том, что он с своей семьей или с помощником так ловко улаживает свою службу, что он везде, и притом ложа никогда пуста не бывает. Но не опасно ли ему отдать ключ, можно ли положиться на него? – Как на каменную стену».
Проблема жилья была насущной не только для постоянных жителей Парижа, но и для приезжих (как провинциалов-французов, так и иностранцев). На каждого путешественника, прибывшего на станцию дилижансов (а в более позднюю эпоху – на железнодорожную станцию), сразу обрушивались десятки носильщиков и посыльных, которые предлагали «прекраснейшие апартаменты во всем Париже», «превосходнейшие комнаты» и почти насильно вручали приезжему карточки с адресами гостиниц. Впрочем, приезжие, как правило, старались заранее узнать адрес жилья, подходящего именно для них.
По закону и французам, и иностранцам, приезжающим в Париж больше чем на две недели, нужно было оформлять «вид на жительство». В 1821 году французам было выдано почти 22 000 таких документов, а иностранцам – около 12 000; в 1823 году французам – более 30 000, а иностранцам – 16 661. Однако полиция следила за регистрацией не слишком строго (вдобавок полицейские строгости касались скорее бедных рабочих, чем богатых и знатных путешественников), так что в реальности приезжих было, разумеется, гораздо больше.
Л. Монтиньи утверждал в книге 1825 года, что все живущие в меблированных комнатах или гостиницах Парижа пользуются небывалой свободой: если в провинциальном городке всякий новый человек вызывает повышенный интерес, в столице до приезжих никому, включая полицию, никакого дела нет. Постояльцам достаточно записать свое имя и звание в книгу, которую никто не читает, да и запись может быть совсем неразборчивой. «Выполните эту формальность, и вы сможете разгуливать по Парижу днем и ночью, не испытывая ни малейших затруднений до тех пор, пока не кончатся деньги в кошельке».
Авторы «Новых картин Парижа» (1828) утверждают, что в Париже той эпохи насчитывалось около пяти сотен гостиниц; кроме того, в трех сотнях домов к услугам всех желающих имелись квартиры или комнаты (на неделю или на одну ночь). Полицейская статистика дает цифры более внушительные: по данным на начало 1825 года, в Париже имелась 821 гостиница и 2694 заведения с меблированными комнатами; в них могли разместиться одновременно около 50 000 человек. В течение года заведениями такого рода пользовались сотни тысяч приезжих (в 1826 году их было 384 000, а в 1827 году – 342 000). При Июльской монархии число меблированных комнат достигло без малого четырех тысяч, а число людей, живших в них, – примерно 60 000.
Цена меблированных комнат и гостиничных апартаментов зависела от их удобства и величины, от этажа, на котором они располагались, и, наконец, от квартала. В окрестностях Пале-Руаяля всем желающим предлагалось съемное жилье любого качества. В гостиницах на улицах Мира и Гранж Бательер, Риволи и Ришелье обстановка была самой роскошной: мягкие ковры на полу, шелковые и муслиновые драпировки на окнах, огромные зеркала на стенах, чисто выметенные лестницы и предупредительные слуги. Зато и цена на такие апартаменты доходила до тысячи франков в месяц. В гостиницах рангом пониже просторные апартаменты стоили от 250 до 300 франков в месяц. Чем выше располагалось жилье, тем меньше оно стоило. За комнату под крышей постояльцы обычно платили не больше 100 франков в месяц. В пристойной гостинице в районе Пале-Руаяля или Тюильри в середине 1820-х годов брали три-четыре франка за одну ночь.
Холостяки, ограниченные в средствах, селились в пансионах, где получали не только кров, но и стол. Устройство и быт такого «семейного пансиона» во всех подробностях описаны в романе Бальзака «Отец Горио»: семь жильцов знаменитого заведения вдовы Воке платили по-разному: лучшие квартиры (на втором этаже) стоили 180 франков в месяц, самые дешевые – 45; за эти деньги постояльцев еще и кормили.
Более дешевое жилье можно было найти на левом берегу Сены, в Латинском квартале, где бедные студенты, будущие медики или правоведы, снимали комнату за 15–20 франков в месяц. Именно в такой комнате, на пятом этаже гостиницы, расположенной на улице Клюни, поселился герой бальзаковских «Утраченных иллюзий» Люсьен де Рюбампре. Особенно много дешевых заведений с меблированными комнатами было в окрестностях Сорбонны; например, в 1827 году, согласно докладу местного комиссара полиции, их насчитывалось полторы сотни.
Наконец, на низшем уровне находились такие «меблированные» комнаты, где вся мебель состояла из одной-единственной кровати. Другим вариантом была комната с множеством кроватей, где за 50–60 сантимов можно было провести ночь в обществе таких же нетребовательных посетителей – «чуть удобнее, чем под открытым небом или в префектуре полиции» (Л. Монтиньи). Таких «общежитий» было особенно много в рабочих кварталах, например в Рульском предместье, в предместье Сен-Дени, а также в районе Ратуши и в квартале Арси (нынешний третий округ). За 10 франков в месяц целая семья, в том числе многодетная, получала здесь в свое распоряжение душную и зловонную каморку со старой кроватью, тремя шаткими стульями и трухлявым столом. Холостяки платили еще меньше: 6 франков в месяц; но и получали они за это всего лишь кровать в общей спальне (причем число таких жильцов доходило до тридцати-сорока в одной комнате). Вот свидетельство бедного мастерового, который прибыл в Париж в 1830 году и поселился на четвертом этаже дома по улице Ткачества: «В комнате этой имелось шесть кроватей и двенадцать постояльцев. Теснота там была такая, что проход между кроватями шириной не превышал полуметра… Единственный нужник во всем доме, где проживало шесть десятков человек, располагался как раз на нашей лестничной площадке; попасть туда было нелегко, а когда мои соседи по спальне разувались, чтобы улечься в постель, то, уверяю вас, требовалась большая выдержка для того, чтобы не заткнуть себе нос».
Если комната не отапливалась, она стоила еще дешевле, но зато зимой у ее обитателей не попадал зуб на зуб. Более того, даже наличие кроватей постояльцам таких, выражаясь современным языком, «общежитий» было гарантировано далеко не всегда: порой они спали просто на соломе. Подобное жилье было сконцентрировано в кварталах бедноты; разумеется, в квартале Шоссе д’Антен или в Сен-Жерменском предместье эти страшные клоаки были немыслимы.
Впрочем, мастеровым, приехавшим в Париж на заработки, такое жилье сулило и некоторые преимущества; земляки, поселившись рядом, поддерживали друг друга в чужом городе и нередко за те же деньги добивались от хозяина дополнительных услуг, например стирки рубашек раз в неделю, кормежки горячим супом каждый вечер.
Состоятельные путешественники, планировавшие остаться в Париже на долгий срок, нанимали квартиры; к услугам приезжих были как роскошные апартаменты на втором этаже с видом на бульвары, так и крохотные комнаты в пятом этаже на узкой грязной улочке. В придачу к элегантно обставленным квартирам в фешенебельном районе (например, на улице Риволи) полагались лакей, горничная, экипаж с кучером. Жильцы могли договориться с соседним ресторатором о доставке им завтраков и обедов по фиксированной цене, причем еда доставлялась теплой. Знаменитый американский романист Фенимор Купер платил 3000 франков в год за меблированную квартиру на третьем этаже дома на улице Сен-Мор в Сен-Жерменском предместье; эта квартира состояла из передней, столовой, гостиной, кабинета, двух спален и кухни. Писатель считал, что ему очень повезло, поскольку знал людей, которые за такую же сумму получали в свое распоряжение квартирку всего из трех комнат. А с одной американской путешественницы за просторную квартиру с тремя спальнями, столовой, гостиной и двумя комнатами для горничных в верхнем этаже дома на улице Святого Августина запросили сначала 400 франков в месяц, а затем повысили цену еще на 100 франков. Причем на этом ее траты не закончились, поскольку еще 30 франков в месяц пришлось платить привратнику и его жене за уборку квартиры, а 15 франков – слуге, который приносил обеды из соседнего ресторана.
У богатых иностранцев были в Париже свои любимые гостиницы. Поль де Жюльвекур, автор романа «Русские в Париже» (1843), называет три района, которые привлекали русских аристократов своей «фешенебельностью»: улица Риволи, бульвар Итальянцев и улица Мира. Владельцы гостиниц прекрасно знали об этом пристрастии русских путешественников и нещадно обирали приезжих «бояр». В числе гостиниц, где особенно охотно останавливались приезжие из России, Жюльвекур называет отель Мёриса (улица Риволи, дом 228; здесь любили останавливаться также богатые англичане и состоятельные американцы), отель «Виндзорский» (улица Риволи, дом 226), отель «Монморанси» (улица Ла Мишодьера, неподалеку от бульвара Капуцинок), а также гостиницу Террасы, Ваграмскую гостиницу (на улице Мира) и проч.
Именно в Ваграмской гостинице поселился в 1842 году, сразу по приезде в Париж, секретарь русского посольства Виктор Балабин. Он занял три комнаты в пятом этаже, за которые с него взяли 50 франков в неделю; вдобавок к этому ему пришлось нанять камердинера за 100 франков в месяц.
Рассказов о том, как русские люди нанимали себе жилье в Париже, сохранилось немало. Ф.Н. Глинка в «Письмах русского офицера» вспоминает: «Мы въехали в старинные ворота Сен-Мартен. Дилижанс остановился в обыкновенном своем заездном доме. Нас высадили. <…> “Что вам угодно, милостивые государи! господа путешественники! что вам угодно?” – кричали со всех сторон прислужники за деньги. Нам надобен фиакр (карета) – и фиакр явился. Мы положили свои чемоданы и велели везти себя в улицу Ришелье, в Отель де Валуа, что против Пале-Рояля. <…> За три великолепно убранные комнаты, со всеми выгодами, с постелью, диванами, люстрами и зеркалами с нас берут 15 руб. в сутки [около 50 франков]. Это дорого, но так берут только с русских. Французы в обыкновенное время платят за такие квартиры вдвое меньше: и тогда это дешево! нас проводили в комнаты и забыли про нас! <…> В немецких трактирах иначе: трактирные служители входят очень часто к приезжему, предлагают свои услуги, спрашивают, не надобно ль кофе, пуншу и проч. и проч. Тут опять совсем другое: в доме, где отдают покои внаем, ничего не держат. За кушаньем, кофе и проч. посылать надобно своего человека в ресторации, кофейные дома и проч., а для всего этого и необходимо иметь лон-лакея [лакея из местных]».
А вот воспоминание дипломата Д.Н. Свербеева о его первом приезде в Париж летом 1822 года: «Из всех парижских гостиниц, нам по дороге предлагаемых, Норов [приятель мемуариста] решил остановиться в одной из самых дорогих, правду сказать, удобной по местоположению, в улице Риволи, против Тюльерийского сада. <…> Нас повели в роскошный апартамент rez de chausse [на первом этаже] с великолепными коврами и бронзами и, не спрося о цене, Норов взял для себя гостиную, кабинет и спальню…» Но эта квартира оказалась для Свербеева слишком дорогой, и на следующий день он нашел в отеле «Испания» на улице Ришелье, против Королевской библиотеки, большую комнату во втором этаже, «очень удовлетворительно убранную, с альковом и небольшой уборной». Дипломат поселился в ней за 120 франков в месяц, а вскоре в тот же отель перебрался и его приятель Норов.
Н.С. Всеволожский приехал в Париж в сентябре 1836 года и сначала остановился в загородном доме своего зятя, француза Поля де Жюльвекура, а затем нанял «очень хорошенькую квартирку» на улице Кастильоне. Русскй путешественник пишет: «Но домашние мои нашли, что окошки наши были под аркадами и оттого мало свету в комнатах. Итак, мы переехали на другую квартиру, в прекраснейшую часть города, близ нового храма Святой Марии Магдалины, в Королевской улице (rue Royale), близ бульвара, Тюльерийского дворца и площади Людовика XV, ныне Площади Согласия».
Андрей Николаевич Карамзин 22 декабря 1836/3 января 1837 года докладывал родным о своем опыте найма жилья в Париже: «Мы сперва хотели остановиться в htel Mirabeau rue de la Paix, но не нашли места и прибегнули к htel d’Orlans rue Richelieu, который рекомендовал мне Соллогуб». Через несколько дней Карамзин с приятелем «взяли квартиру» в доме 29 на улице Шоссе д’Антен, «в двух шагах от бульваров» (Карамзин называет эту улицу так, как она именовалась до 1816 года, – улица Монблана). Об этом жилье сын историографа пишет: «У каждого из нас по две комнаты и по одной для человека (слуги), и каждый сам по себе, что также приятно. У Долгорукого пышнее, и он платит 250 франков в месяц, у меня скромные, и я плачу только 120, что по здешним ценам очень дешево. Смирновы платят 1100, Полуектовы в третьем этаже 1400 франков в месяц!»
Что же касается упомянутой в письме Любови Федоровны Полуектовой (свояченицы П.А. Вяземского), то она, как мы знаем и по другим источникам, при выборе жилья в Париже действительно не скупилась. 11 декабря 1837 года А.И. Тургенев писал П.А. Вяземскому: «Вчера был у Полуектовой. <…> Она нанимает дорогую квартиру и платит 1100 франков в месяц! При всем том вход нечистый, темный, узкий, со двора, но комнатки уютные, светлые, теплые. Улица похожа на переулок, но вблизи Риволи и Тюльери. Дорог – квартал».
Иначе говоря, в сфере найма квартир, как и во всех прочих областях парижского производства и потребления, все зависело от того, в каком квартале города происходит дело.
Глава десятая
Благоустройство города.
Парижские памятники
Источники финансирования. Крепостная стена Откупщиков. Заставы. Крепостная стена Тьера. Благоустройство улиц. Новые тротуары и мостовые. Строительный бум. Освещение города. Каналы и мосты. Судьба памятников. Изменения топонимов
В эпоху Реставрации и Июльской монархии средства на благоустройство Парижа поступали сразу из нескольких источников. Дополнением к государственному и городскому бюджетам служили займы, а также уступка подряда на выполнение некоторых видов общественных работ (прокладка улиц в новых районах, строительство мостов, водоснабжение и газовое освещение) частным компаниям. Большим подспорьем служили также деньги, которые платили городу владельцы игорных заведений; впрочем, с 1838 года этот источник иссяк, поскольку в конце 1837 года парижские власти запретили в столице азартные игры.
Самой существенной статьей дохода была, как уже говорилось, пошлина на ввозимые в город продукты (octroi), прежде всего вино, водку (виноградный спирт), мясо и масло. Поэтому городские власти уделяли особое внимание ремонту крепостной стены Откупщиков, построенной в 1784–1787 годах. Она опоясывала Париж и закрывала доступ контрабандистам, которые желали доставлять в город товары, не платя пошлин. Именно в этой стене были проделаны ворота и возле них устроены заставы, где как раз и взималась пошлина за ввоз. Первоначально их было 54, в 1818–1855 годах восемь из них были закрыты, но зато открылись 9 новых.
Каменная стена Откупщиков длиной 24 километра и высотой 3,3 метра высилась там, где сегодня проходят бульвары Вокзальный, Огюста Бланки, Сен-Жак, Распая, Эдгара Кине, Вожирарский, Пастера, Гарибальди, Гренельский, улицы Ленотра и Франклина, проспект Клебера, улицы Лаперуза, Пресбургская и Тильзитская, Ваграмский проспект, бульвары Курсельский, Батиньольский, Клиши, Рошешуар, Ла Шапель, Ла Виллет, Бельвильский, Менильмонтанский, Шароннский, Пикпюс, Рёйи и Берси. С внутренней стороны вдоль стены шел «дозорный путь» шириной 12 метров, с внешней стороны – бульвар шириной 60 метров. Строить дома с внешней стороны ближе чем в ста метрах от стены было запрещено.
За четверть века, прошедшие со времени постройки стены Откупщиков, многие ее участки пришли в аварийное состояние: каменную кладку местами заменяли простые доски, некоторые павильоны на заставах были не достроены, другие разрушились. В течение эпохи Реставрации все эти изъяны постепенно были исправлены. Разрушенные павильоны застав, построенных в XVIII веке архитектором Леду, были заменены более скромными и функциональными постройками, провалы в стене заделаны. В ноябре 1829 года префект департамента Сена Шаброль докладывал Генеральному совету о результатах проделанной работы: «Крепостная стена окружает Париж единым кольцом. Взоры путешественников более не оскорбляет зрелище полуразрушенных застав, напоминавшее о днях бедствий и смут; теперь тех, кто въезжает в столицу, встречают не грубо сколоченные постройки, а прекрасные узорчатые ворота».
Особенно значительные работы были произведены в районе нынешнего Аустерлицкого вокзала: территория, на которой располагались деревня Аустерлиц, больница и тюрьма Сальпетриер, а также Вильжюифская бойня, в начале 1819 года была включена в состав Парижа (прежде она принадлежала коммуне Иври), и ее пришлось также обнести крепостной стеной.
В настоящее время из застав, построенных Леду, сохранились только четыре: застава Трона, застава Анфер на площади Данфера – Рошро, ротонда Монсо и ротонда Ла Виллет. А в конце 1830-х годов, пишет В.М. Строев, взору приезжающих в Париж представала такая живописная картина:
«Здания, составляющие заставы, выстроены по рисункам архитектора Леду, и были предметом частых похвал и частых порицаний. Хвалят их разнообразие и пышность, но порицают тяжелый вид, недостаток изящества и удобства. <…> Леду слишком пристрастен к колоннам, они у него принимают все возможные формы, даже четвероугольную. Колонны приличны обширному, важному зданию, храму, дворцу, судилищу, бирже; но к чему они в заставном доме, маленьком, уютном, в котором на главном фасаде пять, шесть окон, низенькая крыша, маленькое крыльцо. Такие постройки похожи на карликов, одетых в рыцарские доспехи, сооруженные для великана. <…>
Самая красивая застава на дороге в Нельи [Нейи] и называется Триумфальными воротами Звезды. Другая застава, называемая Тронною, и начатая в огромных размерах, до сих пор не достроена. На этом месте в 1660 году был воздвигнут трон, на котором Лудовик XIV и Мария-Терезия принимали поздравления парижского городского начальства. Две огромные колонны, в 75 футов вышиною, сооружены между двумя красивыми зданиями. Колонны видны за несколько верст и поднимаются над Парижем, как великаны. В прежнее время иностранные послы всегда въезжали в Париж через Тронную заставу; их хотели озадачить великолепием; теперь времена переменились и всякий въезжает, где хочет. <…>
Застава св. Иакова [Сен-Жак], за Люксанбургским дворцом, служит лобным местом. Близ нее казнят виновных и приговоренных к смертной казни. Печальная репутация этого места началась недавно; прежде казни производились на Гревской площади, в самом городе. Отдаленность нового места не мешает любопытным стекаться во множестве и смотреть на исполнение приговоров. Мелкая промышленность воспользовалась удобным случаем и завела тут лавки, лавочки, палатки, с кушаньем, вином и разными затеями.
Около Лоншанской заставы бывает гулянье, перед светлою неделею. Только в этом месте сбирается высшее общество, дамы в открытых экипажах, мужчины верхом. <…>
Застава Битвы получила такое пышное название вовсе не от сражений, которых близ нее никогда не было, а просто от звериной травли; поэтому ее правильнее называть по-русски заставою Травли. <…>
Застава в Клиши, простая и украшенная немногими колоннами, привлекает внимание русского воспоминаниями. Здесь дрались русские с французами 30 марта 1814 года. Взор беспокойно расстилается по равнине, на которой лилась русская, народная кровь; ищет могил павших воинов, но время унесло их благородные останки; на потоках крови выросла трва.
За Елисейскими Полями есть Франклинова застава. По смерти Франклина, Мирабо предложил надеть траур; Франция вняла голосу оратора и облеклась в одежду печали. Народ назвал новую заставу именем Франклина; это делает равную честь и Франции, и Франклину. Память таких людей должна быть драгоценна всему человечеству. Впрочем, французы не одним талантам оказывали подобную честь. Есть застава, названная по имени Ранпонно, харчевника, который умел приготавливать превосходный суп и жарить цыплят, и притом за дешевую цену. Ремесленники стекались к нему, вместе с богатыми банкирами и знатными офицерами. <…> Народ назвал его именем Риомскую заставу; прежнее название забыто, а имя харчевника перейдет к потомству. Франклин и харчевник на одной доске! Это может быть только во Франции!»
При Июльской монархии вокруг Парижа возвели новую крепостную стену, что стало возможно благодаря привлечению средств не только из городской, но и из государственной казны. Намерение построить эти новые укрепления возникло еще в начале 1830-х годов, причем поначалу речь шла о том, чтобы окружить Париж даже не сплошной стеной, а лишь отдельными крепостями. Однако в тот момент властям пришлось отказаться от своего намерения: уж слишком отрицательно восприняли его жители столицы. Злые языки утверждали, что правительство стремится защитить себя не столько от иностранных захватчиков, сколько от самих парижан, и строит бастионы и роет рвы потому, что боится мятежей.
Однако в 1840 году Адольф Тьер, став председателем правительства, счел необходимым вернуться к отвергнутому плану. В это время международное положение Франции ухудшилось донельзя. 15 июля 1840 года Англия, Австрия, Пруссия и Россия без участия Франции подписали в Лондоне конвенцию по восточному вопросу (о судьбе проливов Босфор и Дарданеллы). Благодаря этой конвенции Турция возвратила себе господство над Египтом; между тем Франция поддерживала стремление Египта к независимости. Фактически Франция была подвергнута остракизму со стороны всех европейских держав и, казалось, стояла на грани войны. В этих условиях 10 сентября 1840 года кабинет Тьера при одобрении короля принял решение о немедленном начале работ, даже не дождавшись согласия парламента. На строительство были выделены 13 миллионов франков.
Если стена Откупщиков защищала город от контрабандистов, то стена Тьера была призвана защитить его от военных атак. Поэтому, когда международная обстановка стала более спокойной и Луи-Филипп отправил Тьера в отставку, судьба новых укреплений опять оказалась под вопросом, тем более что, как выяснилось, денег на них требовалось не 13 миллионов, а в десять с лишним раз больше. В январе 1841 года этот проект наконец попал на рассмотрение палаты депутатов. Докладчиком выступал все тот же Тьер, а мнение его оппонентов блистательно выразил Ламартин. Он назвал запланированные укрепления новыми бастилиями и осудил правительство за намерение отгородиться крепостями от того самого народа, который привел его к власти: «Неужели революция забывается до такой степени, что требует бастилий! народных бастилий спустя полвека после того, как она прославила себя разрушением этого оплота деспотизма!»
Общественное мнение Парижа разделилось на два лагеря: противников и сторонников укреплений. Газеты пестрели сатирическими стихами и репликами (в большинстве случаев направленными против укреплений). Дельфина де Жирарден писала в своей еженедельной хронике: «Париж укрепленный означает Париж оглупленный». Однако, поскольку влиятельные политики знали, что король поддерживает постройку укреплений, 1 февраля палата депутатов приняла проект 237 голосами против 162.
В результате за пять лет (1841–1846) силами почти десяти тысяч рабочих были выстроены укрепления длиной около 39 километров. С внешней стороны вдоль 94 бастионов десятиметровой высоты шел ров шириной 15 метров, а за ним простиралась зона шириной в 250 метров, где было запрещено какое бы то ни было строительство. Изнутри вдоль крепостной стены (названной «стеной Тьера») шел дозорный путь, именовавшийся Военной дорогой (rue Militaire). Именно на его месте после 1860 года были проложены бульвары, названные именами наполеоновских маршалов. Внутри новой крепостной стены оказались территории 11 коммун департамента Сена, которые в это время не входили в состав Парижа, так как располагались вне крепостной стены Откупщиков: Отей, Батиньоль, Бельвиль, Шаронна, Ла Шапель, Ла Виллет, Монмартр, Пасси, Берси, Гренель и Вожирар. Официально эти «малые пригороды» вошли в состав Парижа только в 1860 году, поэтому, строго говоря, возведение укреплений происходило не на территории столицы. Однако эпизод этот – неотъемлемая часть истории Парижа не только потому, что он с самого начала вызвал у парижан повышенный интерес, но и потому, что возведение стены Тьера способствовало сближению «малых пригородов» с официально признанными округами Парижа и фактическому (хотя еще и не юридическому) формированию нового «большого Парижа». Крепостная стена Тьера была использована по назначению, в военных целях, только один раз, во время осады Парижа прусскими войсками осенью 1870 – зимой 1871 года; в 1919 году она была разрушена, и сейчас от нее сохранился только десяток разрозненных фрагментов.
Вернемся, однако, к Парижу внутри крепостной стены Откупщиков. Благоустройство улиц здесь было затруднено чрезвычайной теснотой старинных районов. Между тем движение в городе становилось с каждым годом все более оживленным, а потребность в расширении улиц – все более настоятельной. Однако для того чтобы расширить улицы, было необходимо снести многие дома, а для этого – выкупить их у владельцев. Средства для этого нашлись в городской казне только при Июльской монархии, и перестройка парижских улиц была начата Рамбюто, префектом департамента Сена, в середине 1830-х годов. Реформы Рамбюто стали предвестием тех гораздо более радикальных и более известных реформ, которые осуществил в середине XIX века, при Второй Империи, префект Оссман. Что же касается эпохи Реставрации, то в это время городской администрации оставалось лишь одно – требовать от домовладельцев, чтобы они сохраняли установленную законом ширину улиц при постройке новых домов, а старые перестраивали в соответствии с принятыми нормами. Домовладельцы, со своей стороны, использовали всевозможные предлоги для того, чтобы избежать перестройки своих домов, и потому за годы Реставрации площадь улиц увеличилась всего на 24,5 тысячи квадратных метров – в 20 раз меньше, чем было предусмотрено генеральным планом, утвержденным в 1819 году.
Городским властям эпохи Реставрации парижане обязаны не одним полезным нововведением. Начнем с названий улиц: с начала XIX века их писали на стенах домах краской, но к 1815 году многие из этих надписей стерлись. Поэтому в 1822 году на домах начали размещать темные стеклянные таблички в чугунных рамках с написанными белой краской названиями улиц, но и они оказались непрочными. Более надежный способ обозначать названия улиц был впервые опробован в конце эпохи Реставрации; это синие эмалированные таблички с белыми надписями, похожие на те, какие можно видеть на парижских домах и сегодня. Всеобщее распространение они получили при Июльской монархии, с середины 1840-х годов.
Другое, гораздо более важное новшество – тротуары, которые стали прокладывать в Париже по инициативе префекта Шаброля. Впервые тротуары появились в городе еще в 1780-е годы, однако даже к 1822 году их общая длина не превышала 267 метров; кроме того, они обрывались перед воротами особняков. А между тем уже тогда по парижским улицам ежедневно проезжало около 17 тысяч экипажей, так что пешее передвижение в городе становилось рискованным. Не случайно огромную популярность у парижан приобрели крытые галереи-пассажи, соединяющие две параллельные улицы; движение по ним было исключительно пешеходным, а крыша защищала посетителей от дождя (о пассажах подробнее рассказано в главе двенадцатой).
Устройство тротуаров наталкивалось на многочисленные трудности. Во-первых, платить за проведение работ должны были домовладельцы, которые, естественно, не торопились тратить свои деньги. Во-вторых, многие улочки старого города были слишком узкими (в среднем 4–5 метров ширины), и экипажи постоянно задевали хрупкие бордюры тротуаров и разрушали их.
В 1826 году префект Шаброль получил от Муниципального совета 10 000 франков на субсидии тем хозяевам, которые возьмутся за устройство тротуаров перед дверями своих домов; содержание уже проложенных тротуаров должно было осуществляться за счет города. Новый способ оплаты благоустройства улиц, опробованный в одном из правобережных кварталов, вызвал одобрение всех домовладельцев; после этого субсидию увеличили до 100 000 франков, и Париж стал покрываться тротуарами. До 1836 года для этой цели использовалась сланцевая плитка из Оверни (так называемая вольвикская лава) или более прочный гранит. В очерке «История и физиология парижских бульваров» (1845) Бальзак свидетельствовал: «В дождливую погоду на бульварах воцарялась непролазная грязь. Наконец, овернец Шаброль додумался вымостить бульвары вольвикской лавой. Как это характерно для парижского муниципалитета! Из овернской глуши привозят плиты вулканического происхождения, пористые, недолговечные, тогда как по Сене могли доставить на баржах гранит с берегов океана. Однако и то был шаг вперед, парижане приветствовали его, как благодеяние, хотя дорожки были так узки, что не позволяли трем прохожим сойтись вместе».
Парижский тротуар. Карикатура из газеты «Шаривари», 13 июня 1843 года
Там, где улицы были слишком узкими для устройства полноценных тротуаров с бордюром, по обеим сторонам для пешеходов укладывали широкие плиты. К 1829 году общая длина парижских тротуаров достигла уже 20 000 метров, то есть за 7 лет она увеличилась почти в 75 раз. В годы Июльской монархии, в особенности при префекте Рамбюто, дело Шаброля было продолжено: к 1848 году общая длина тротуаров парижских улиц равнялась уже 195 000 метров, а с учетом площадей и набережных – почти 260 000 метров.
Серьезную проблему для городских властей составляли не только тротуары, но и мостовые. Требовалось поддерживать в порядке старые мостовые и прокладывать новые. Две трети стоимости этих работ на небольших улицах должны были оплачивать домовладельцы, а относительно мостовых больших улиц, служивших продолжением дорог государственного значения, шел спор между парламентом и префектом. Провинциальные депутаты утверждали, что платить за содержание мостовых главных улиц должны городские власти. Префект Шаброль возражал, что каждый из 12 парижских округов по величине не уступает небольшому городу; значит, соединяющие их улицы следует приравнять к дорогам между населенными пунктами, содержание которых обязано оплачивать государство. В результате парижские улицы разделили на два разряда: за мостовые национального значения платило государство, а за мостовые местного значения (их было две трети) – город. Тем не менее работы шли медленно, и некоторые районы Парижа в непогоду оказывались практически отрезанными от остальных; например, эспланада Инвалидов в дождь становилась совершенно непроезжей, и жители квартала Большого Валуна (Gros-Caillou) ощущали себя как на острове.
Один из очерков «Новых картин Парижа» (1828) написан от лица старого морского волка, который утверждает, что ни в одном из своих дальних плаваний он не подвергался стольким опасностям, как во время пешей прогулки по центру Парижа:
«На улицах этого проклятого города невозможно сделать и шагу без того, чтобы тебя не толкнули прохожие, которые мчатся стремительно, словно пакетбот, преследуемый пиратами. Каждую минуту приходится менять галс, иначе тебя непременно собьет один из многочисленных экипажей, заполонивших мостовую. <…> Поначалу я продвигался вперед беспрепятственно, но, дойдя до Университетской улицы, обнаружил, что рабочие роют здесь траншею для газовых труб и перекопали половину мостовой, другую же половину загромождает бесконечная череда экипажей: телега прачки зацепилась колесом за колесо фиакра, а кучер кабриолета пытался проехать между стеной дома и телегой, но промахнулся на какой-то жалкий дюйм и застрял. Покамест те, кто столкнулись, выясняли, кому подать назад, а кому двинуться вперед, все прочие экипажи, кареты и дилижансы остановились выше и ниже по течению и застыли в ожидании. Не могу пересказать всех проклятий, всей ругани, всех богохульств, какие услышал я при этой оказии; столько бранных слов не слетают даже с уст моряков, проведших три месяца в открытом море. В конце концов телега прачки разбила две спицы у колеса фиакра, но все-таки от него отцепилась и сдвинулась с места, после чего все экипажи одновременно пришли в движение».
Но беды рассказчика на этом не кончаются; не успевает он пройти несколько шагов, как путь ему преграждает толпа зевак (горничных и служанок, подмастерьев и рабочих), наблюдающих за тем, как грузят мебель на огромную подводу. С большим трудом рассказчику все-таки удается перебраться на правый берег Сены; тут начинается дождь, и он укрывается в пассаже Делорма (ныне не существующем), где тоже полно народу: пешеходу приходится протискиваться между двумя дамами в огромных шляпах с перьями, отчего он едва не лишается глаза. Но и это еще не все. Рассказ о дорожных препятствиях продолжается:
«Я вышел на улицу Сент-Оноре. Дождь кончился, но из водосточных труб продолжала хлестать вода, и ручей посреди улицы превратился в целую реку. С большим трудом добрался я до угла улицы Ришелье, где комиссионеры перекинули через водный поток мостик шириною в фут. Всякое деяние достойно вознаграждения, и я вовсе не собирался, в отличие от многих других прохожих, пересечь этот мост бесплатно. Однако пожелай я дождаться, пока мне вернут 4 франка и 19 сантимов сдачи с моей пятифранковой монеты, я потерял бы слишком много времени; поэтому я решил вспомнить молодость и перепрыгнуть через водный поток. Я примерился и взлетел… однако, еще не успев приземлиться, столкнулся в воздухе с господином, которому взбрело на ум перепрыгнуть через улицу в то же самое мгновение. Масса моего тела была значительнее, а скорость ее еще умножила, так что столкновение окончилось плачевно для господина, летевшего мне навстречу: он рухнул в самую середину потока, к величайшему восхищению грузчиков, кумушек и дюжины юных шалопаев, шлепавших по воде. Я же отделался тем, что промочил ноги».
Повествователь подходит к Французскому театру, где играют пьесу «Ажиотаж», и видит на улице ажиотаж ничуть не меньший: огромное скопление зрителей, пришедших пешком и приехавших в экипажах, а также перекупщиков, торгующих билетами, и жандармов (пеших и конных), пытающихся навести порядок в этом хаосе. Он преодолевает и это препятствие, но муки его не заканчиваются и тут. Некий предусмотрительный парижанин решил запастись дровами на зиму прямо сейчас, летом, когда они дешевле; поэтому вся улица загромождена грузчиками и пильщиками. Одно из поленьев больно ударяет рассказчика по ноге, затем водонос, идущий от фонтана с двумя ведрами, выплескивает воду на его панталоны, а конный служащий городской почты, проскакав по самой середине улицы, обливает его грязью с головы до ног. Наконец, в самый последний момент, перед домом приятеля, несчастный сталкивается с каменщиками, отчего его платье делается белым от известки.
Рассказ «старого морского волка», конечно, слегка шаржирован, но по сути все описанное в нем вполне достоверно. Подобные беды постоянно преследовали всех парижан и «гостей столицы» до тех пор, пока принятые меры по благоустройству города не начали менять его облик.
После 1836 года для устройства тротуаров стал употребляться асфальт, который был примерно в три раза дешевле гранитных плит. От мостовой тротуары отделялись гранитными бордюрами в 30 см высотой и 20 см шириной, с выемками для стока воды (или просто с наклоном в сторону мостовой).
В конце эпохи Июльской монархии большая часть парижских улиц уже была оснащена тротуарами. Англичанка Фрэнсис Троллоп в книге «Париж и парижане в 1835 году» пишет: «Если так пойдет дело, через несколько лет по парижским улицам будет так же легко ходить, как и по лондонским. <…> Конечно, старые улицы Парижа не так широки, чтобы разместить по обеим их сторонам широкие эспланады, окаймляющие Риджентскую или Оксфордскую улицы, но все, что необходимо для надежности и удобства, может быть достигнуто и на меньшем пространстве. Те, кто бывал в Париже лет десять назад, когда с одной стороны улицы на другую нужно было перепрыгивать, чтобы не попасть ногами в грязную лужу, когда любой прохожий всякую минуту рисковал быть раздавленным телегами, фиакрами, кукушками, кабриолетами или тачками, – те от всего сердца благословят узенькие тротуары, которые проложены теперь вдоль главных парижских улиц повсеместно – за исключением тех мест, куда выходят ворота больших особняков, а также немногочисленных участков, о которых просто забыли».
Положение в городе улучшалось, однако иностранных путешественников поражал контраст между элегантностью парижских магазинов или кафе – и неопрятностью многих парижских улиц. В.М. Строев пишет: «Улицы узки, кривы, не вымощены хорошо. Тротуаров нет; экипажи ездят так близко к домам, что прохожие нередко принуждены бросаться в ворота или скрываться в магазинах. <…> В немногих улицах, на которых есть тротуары, хозяева домов осторожнее, соблюдают некоторую чистоту и не позволяют выливать помои на ноги проходящих. Есть улицы в Сент-Антуанском предместье и за Луксанбургом, где вечная осень, т. е. слякоть и грязь; улицы не просыхают, и надобно ходить в галошах, чтобы не промочить ноги».
Что же касается самих парижан, то они далеко не всегда приветствовали реформы, производимые городскими властями. Возьмем, например, стоки для грязной воды. До середины 1830-х годов они проходили по середине улицы; грязная вода из них сквозь зарешеченные люки сливалась в подземные сточные канавы. Во второй половине 1830-х годов стоки были перемещены к краю тротуара, и это нововведение парижанам не понравилось: ведь теперь всякий прохожий рисковал быть забрызганным с головы до ног первым же проехавшим по улице кабриолетом. Более того, неблагодарные современники так мало ценили заботу о них префекта Рамбюто, что называли каждую яму, каждый бугор, каждую трещину в тротуаре «очередное рамбюто». А ведь префект позаботился и о том, чтобы прогуливающиеся парижане могли присесть и отдохнуть на свежем воздухе совершенно бесплатно: для этого повсюду были установлены «муниципальные» скамейки – к великому неудовольствию тех, кто зарабатывал на жизнь сдачей внаем стульев.
Рамбюто еще при вступлении в должность, в 1833 году, сказал королю Луи-Филиппу: «Вода, воздух, тень – вот что я обязан предоставить парижанам прежде всего». Предоставить воздух означало расширить сеть городских улиц. На решение этой задачи при Июльской монархии тратили 2, а в 1840-е годы даже 3 миллиона франков в год – против 700 000, которые уходили на это в эпоху Реставрации. Однако теперь, если частного владельца не устраивала сумма, которую государство предлагало ему за дом, подлежащий сносу, он мог обращаться в суд. Это затягивало дело и взвинчивало цены на недвижимость, и до тех пор, пока в 1841 году не был принят закон «об экспроприации собственности в интересах города», справляться с несговорчивыми собственниками префекту помогали только королевские ордонансы (при Июльской монархии их было издано целых пять сотен).
При Луи-Филиппе проводилась политика «выравнивания» улиц в старых кварталах правого берега (Святой Авуа, Ломбардском, Арси) – улиц бедных, тесных и вдобавок весьма «неблагонадежных» в политическом отношении. Одним из результатов этой политики стала проложенная в 1838 году по инициативе Рамбюто и закономерно названная его именем широкая прямая улица, поглотившая тесные и душные улицы Скрипачей, Пеньковую и Долгого Следа, которые испокон веков слыли «источником мятежей, крепостью революционеров».
Те же двойные цели (и гигиенические, и политические) преследовал Рамбюто, проводя работы на острове Сите. В 1837 году здесь между папертью собора Парижской Богоматери и Гревским пешеходным мостом была проложена широкая (шириной в 12 метров) Аркольская улица. Кстати, обычно считают, что она получила свое название в честь города и моста в Северной Италии, где в 1796 году Бонапарт одержал победу над австрийцами. Существует, однако, другая версия: во время Июльской революции некий молодой человек был убит с трехцветным знаменем в руках на Гревском мосту, успев произнести перед смертью: «Помните, что меня зовут Арколь». В 1838 году между Дворцом правосудия и Аркольской улицей проложили улицу Константины (названную в честь алжирского города, который французские войска захватили осенью 1837 года). Кроме того, Рамбюто начал прокладывать новые, широкие улицы вокруг Дворца правосудия, что позволило облегчить подъезд к зданию.
Рамбюто много сделал и для «оздоровления» района вокруг Ратуши, который по его инициативе был, как и сама Ратуша, перестроен кардинальным образом. По ходу реконструкции было уничтожено немало старинных улочек; на их месте вырос новый фасад Ратуши. Уничтожена была среди прочих улица Рогатки Сен-Жан, которую Бальзак в повести «Побочная семья» называет «одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится Ратуша». Бальзак пишет: «Просторнее всего улица Рогатки была у пересечения с улицей Ткачества, но и там ее ширина едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице неслись потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как могла она быть чистой? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Рогатки, но не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в пять часов вечера, а зимой и вовсе не тушили их».
Именно на месте этой затхлой и грязной улицы была проложена в 1838 году улица Лобау. Во всех перечисленных случаях в действиях Рамбюто можно увидеть предвестие той работы, какую наиболее полно и последовательно спустя два десятка лет осуществил барон Оссман – уже при другом политическом режиме.
Рамбюто занимался также благоустройством бульваров – и эта деятельность также имела политическую подоплеку. Префект начал с того, что в 1834 году расширил бульвары Бомарше и Дев Голгофы за счет их боковых аллей, а затем приступил к расширению всего полукольца Больших бульваров (от площади Мадлен до площади Бастилии). Он стремился уничтожить перепады высоты между бульварами и прилегающими к ним улицами. Теперь в случае народных волнений отряды кавалерии без труда развернулись бы на бульварах, а мятежники уже не смогли бы спрятаться в «низине» прилегающих улиц, как в июльские дни 1830 года.
Реконструкция набережных Сены и превращение их в единую магистраль от Лувра до моста Берси преследовали ту же цель – позволить войскам при необходимости легко развернуться. Однако выиграли от этой перестройки не только власти, но и парижские торговцы: теперь нагружать и разгружать корабли стало гораздо удобнее. Довольны были и любители прогулок. В.М. Строев замечает: «Набережные были узкие, почти непроходимые; бунтовщики обыкновенно оказывали на них жестокое сопротивление войскам, пользуясь теснотою места. После Июльских переворотов правительство решилось расширить их, будто бы для украшения города, и истратило миллионы. Теперь можно гулять по берегам Сены, везде гладкие тротуары, широкие, удобные. Около Тюльери набережная так же великолепна, как Английская в Петербурге».
В эпоху Реставрации и Июльской монархии Париж не только перестраивался, но и строился заново. Подрядчики осваивали прежде не заселенные территории, прокладывали улицы на месте пустырей или лесов. Благодаря этому в Париже возникали не только отдельные новые улицы, но и целые кварталы.
Дом Франциска I на Елисейских Полях. Худ. О. Пюжен, 1831
В эпоху Реставрации благодаря частному строительству за десять лет (с 1817 по 1827 год) в Париже появилось 2670 новых домов – почти на тысячу больше, чем было построено за предшествующие 13 лет. В середине 1820-х годов в Париже разразился настоящий строительный бум; для его характеристики современники употребляли такие слова, как «помешательство», «маниакальное пристрастие к возведению новых зданий», «строительный раж». В сентябре 1824 года газета «Конститюсьонель» писала: «Кругом только и видишь, что возводимые леса и груды строительного материала; целые полчища рабочих обтачивают камень и смешивают известь, дробят гипс и обтесывают дуб; элегантные и удобные дома вырастают в самых разных концах города, как по волшебству; возвратившись после недолгой отлучки, парижанин с трудом узнает родной квартал».
Особенно активно шло строительство на правом берегу Сены. Именно в 1820-е годы между Елисейскими Полями и идущей вдоль Сены аллеей Королевы возник «квартал Франциска I». Его название объясняется тем, что в 1823 году сюда из-под Фонтенбло перенесли дом, некогда принадлежавший этому королю Франции. Тогда же, в середине 1820-х годов, разделили на участки для продажи территорию так называемого сада Божона, который во второй половине XVIII века принадлежал финансисту Никола Божону. В 1825 году здесь были проложены улицы, получившие имена Лорда Байрона, Шатобриана и Фортюне (последнее название было дано в честь светской львицы г-жи Фортюне Амелен, которая приобрела участок в этом районе; сейчас улица носит имя Бальзака). Застройкой улиц в новых кварталах занимались частные компании, но затем дома переходили в собственность города. В 1826 году два торговца земельными участками, Йонас Хагерман и Сильвен Миньон, приобрели так называемую равнину Эрранси – громадный пустырь между деревней Поршероны и кварталом под названием «Малая Польша», а также просторный парк Тиволи. Все эти земли были с выгодой распроданы по частям, и в результате здесь возник так называемый Европейский квартал: все его улицы получили названия в честь крупных европейских городов.
В эпоху Реставрации активнейшим образом застраивались разные части квартала Шоссе д’Антен, прежде всего Сен-Жорж и Новые Афины, о которых уже было рассказано в главе девятой.
Наконец, на болотистой территории между Рыбным предместьем и предместьем Сен-Дени начал застраиваться новый Рыбный квартал. Он, однако, имел дурную репутацию, поскольку рядом располагалась фабрика по производству газа, отравлявшая воздух.
На левом берегу Сены новым был лишь квартал, выросший в самом конце 1820-х годов на территории бывшего монастыря Бельшасских Дам; здесь были проложены улицы, получившие имена тогдашних политических деятелей – Мартиньяка, Казимира Перье и Лас Каза.
В общей сложности с 1816 по 1828 год в Париже было проложено 65 новых улиц, образовались четыре новые площади и около 35 000 кв. м территории перешли в собственность города. Это немало способствовало их благоустройству. Так, в 1828 году палата депутатов одобрила закон, объявивший собственностью города площадь Людовика XV и Елисейские Поля. Городские власти, со своей стороны, обязались за пять лет вложить в благоустройство этих территорий 2 миллиона 230 тысяч франков. В результате площадь Людовика XV, в середине 1820-х годов даже не замощенная, к 1838 году совершенно преобразилась.
Об этом с восхищением пишет Строев: «Недавно еще это место было покрыто грязью; воры и разбойники останавливали проходящих; кареты объезжали площадь, чтобы не увязнуть в грязи и лужах. В пять лет площадь очищена, вымощена асфальтом, украшена обелиском и фонтанами, освещена газом и вечерние разбои прекратились. Город пожертвовал на это несколько миллионов».
Строительный бум в Париже создавал почву для спекуляций: по свидетельству современников, «на стройке играли точно так же, как играют на фондовой бирже государственными ценными бумагами; одни здания меняли собственника по пять раз на неделе, другие – ежедневно». Земельные участки стремительно возрастали в цене: участок на улице Клиши, купленный в 1820 году за 500 000 франков, в 1824 году продавался уже за полтора миллиона. За ферму на равнине Гренель, приносившую 7000 франков годового дохода, предлагали 1 200 000 франков. А участок к северу от парка Тиволи за три года (1822–1825) возрос в цене в 22 раза. Наконец, участки в районе улицы Риволи с середины 1800-х годов, когда ее только начали прокладывать, возросли в цене в 600 раз.
Депутаты от французских провинций возмущались тем, что парижане монополизировали все финансовые ресурсы страны, из-за чего строительство нового жилья ведется только в столице. С другой стороны, все чаще раздавались жалобы на то, что парижские строители слишком торопятся и от этого страдает качество новых зданий. Астольф де Кюстин в своей книге «Россия в 1839 году» (1843) назвал «империей фасадов» тогдашнюю Россию. Однако если заглянуть в опубликованную в 1822 году книгу доктора Клода Лашеза под названием «Медицинская топография Парижа, или Общее рассмотрение причин, которые могут оказать существенное влияние на здоровье жителей этого города», может сложиться впечатление, что и Париж 1820-х годов был такой «империей фасадов», где за роскошными фасадами скрывались здания, возведенные на скорую руку из строительного мусора и грозящие вот-вот рухнуть.
В Париже 1820-х годов уже раздавались «экологические» жалобы: строительство домов уничтожает сады и парки; парижане уже тогда беспокоились, что вскоре в городе не останется ни единого уголка, где можно было бы дышать полной грудью, и столица вот-вот превратится в каменную пустыню. Сам префект Шаброль в 1824 году выражал опасения, что после того как парижане разорят старые места для прогулок, придется устраивать новые; после того как они вырубят одни сады, придется срочно сажать другие.
Существовала и еще одна важная проблема: активное строительство нисколько не помогало решить «жилищный вопрос», стоявший перед парижанами скромного достатка; новые дома строились преимущественно в расчете на богачей. Чтобы вернуть деньги, потраченные на покупку земли под строительство и на роскошную отделку интерьеров, домовладельцы постоянно повышали квартирную плату (за период с 1817 по 1827 год она возросла в среднем на четверть). В результате бедняки продолжали тесниться в старом центре Парижа или же перебирались поближе к заставам, а многие дома новых кварталов, возведенные во время строительного бума, стояли полупустыми. Бедным людям квартиры в них были не по карману, богатые же не спешили перебираться в новые, еще не вполне обжитые районы города.
Биржа. Худ. О. Пюжен, 1831
Эпоха Реставрации не ознаменовалась появлением в Париже новых значительных общественных зданий. Городской бюджет оскудел, а годы эмиграции приучили вернувшихся на родину королей – и Людовика XVIII, и Карла X – к относительному аскетизму. Луи-Филиппу родовое пристрастие к роскоши было присуще в гораздо большей степени. Именно Луи-Филипп, хотя его и называли «король-буржуа», охотно тратил собственные деньги на украшение, обновление и расширение королевских резиденций; именно он превратил Версаль в музей французской национальной славы.
А в эпоху Реставрации такие общественные здания, как Дворец правосудия или Ратуша, претерпели лишь незначительные, косметические изменения (например, к заднему фасаду Ратуши был пристроен зал для приемов). Более радикально здание Ратуши было перестроено позже, уже при Июльской монархии, когда стараниями архитекторов Годда и Лезюэра ее общая площадь увеличилась почти в три раза.
Самыми значительными новыми постройками, возведенными в эпоху Реставрации для государственных нужд, стали здание Министерства финансов (на пересечении улицы Риволи с улицей Кастильоне) и здание Парижской таможенной службы на улице Гранж Бательер. Первое было построено в 1822–1827 годах; второе возведено в 1822–1825 годах; ни то, ни другое не дожили до наших дней.
Зато сохранилась Фондовая биржа, строительство которой было начато еще при Наполеоне, а завершено в эпоху Реставрации. Прямоугольное здание, окруженное со всех сторон колоннами, было спроектировано архитектором Броньяром как античный храм. Строить его начали в 1808 году на месте женского монастыря Дев Святого Фомы Аквинского, однако смерть архитектора в 1813 году и политические катаклизмы (падение Наполеона и смена политического режима во Франции) затормозили строительство. К 1819 году были возведены только четыре стены «дворца Броньяра» (как неофициально называли это здание), а торжественное открытие новой биржи состоялось лишь 4 ноября 1826 года (впрочем, окончательно достроена она была в следующем году). Государственная казна не справилась с финансированием грандиозного проекта и уже в июле 1819 года уступила городу права как на земельный участок, на котором возводилась биржа, так и на само здание. К этому времени уже было истрачено два миллиона, требовалось добавить еще шесть. Необходимая сумма сложилась из средств государственной и городской казны, а также денег парижских коммерсантов: взимаемый с них торгово-промышленный налог (patente) был по этому случаю увеличен на 15 сантимов. Фондовую биржу не только роскошно оформили, но и выстроили по последнему слову техники: крыша была сделана с использованием металлических конструкций, внутри действовала система парового отопления, специально разработанная физиками д’Арсе, Гей-Люссаком и Тевенаром.
Технический прогресс вообще в значительной мере способствовал благоустройству Парижа, в частности усовершенствованию городского освещения.
В начале эпохи Реставрации, как и при Империи, парижские улицы и площади освещались преимущественно масляными фонарями шестиугольной формы, которые висели на веревке над серединой улицы, отбрасывая тень, напоминавшую огромного паука. В 1817 году в Париже было около четырех с половиной тысяч таких фонарей, а к 1829 году стало на тысячу больше. С наступлением темноты двести сорок фонарщиков выходили на работу; каждому предстояло зажечь 20–30 фонарей. Опустив фонарь, фонарщик заливал в него масло, протирал стекла, зажигал фитиль, а затем снова поднимал фонарь на прежнюю высоту. На то, чтобы зажечь фонари во всем городе, уходило примерно три четверти часа. Фонари делились на постоянные и «временные»: первые следовало зажигать всегда, вторые – только в безлунные ночи. Жалованье фонарщикам платила частная компания, взявшая подряд на освещение улиц.
До определенного момента систему освещения улучшали только частично: например, заменяли фонари с двумя рожками пятирожковыми; устанавливали на мостах и на площадях вместо деревянных фонарных столбов чугунные. Кроме того, кое-где в центре города повесили отражательные фонари усовершенствованной конструкции, предложенной изобретателем Бордье; они давали больше света, но стоили дороже и потому повсеместно не прижились.
Радикальное обновление стало возможно только благодаря введению газового освещения. Первые образцы газовых фонарей появились еще в середине 1800-х годов, но реально такие фонари начали применять лишь в конце 1810-х годов. Впервые парижане увидели их в кафе на Ратушной площади, которое так и называлось «Газовым», и в одном из кафе пассажа Панорам.
Новинка вызывала ожесточенные споры. С одной стороны, уже в 1817 году нашлись люди, которые по заслугам оценили экономичность газового освещения. Так, газета «Журналь де Деба» 25 февраля 1817 года писала: «Уверяют, что уже в первый год введение такого освещения во всем городе позволит сэкономить 200 000 франков, а в следующие годы экономия еще возрастет». С другой стороны, противники газовых фонарей указывали на риск взрывов, неприятный запах, вспоминали и о том, что новое изобретение причиняет убытки производителям масла и свечей. Как бы там ни было, газовые фонари стали предметом всеобщего внимания. Не случайно в водевиле Скриба и Дюпена «Битва гор», представленном в 1817 году в театре «Варьете» и посвященном модным новинкам того времени, фигурировал персонаж по имени Лантимеш (Lantimche, дословно – Антифитиль), выступающий против старых фонарей и масляных ламп.
Более или менее широко газовое освещение распространилось в Париже лишь к концу 1820-х годов. Первой площадью, которую осветили газовые фонари, стала Вандомская: 3 июня 1825 года здесь установили четыре светильника вокруг Вандомской колонны и два фонаря в начале улицы Кастильоне. Тогда же газовое освещение ввели в некоторых пассажах. В начале 1829 года десять газовых фонарей появились на улице Мира, потом – на площади и улице Одеона. В конце 1820-х годов газовое освещение было введено и в Пале-Руаяле, галереи которого, впрочем, и задолго до этого казались «царством света». Так, Ф.Н. Глинка, оказавшийся в Париже весной 1814 года, писал: «Сто восемьдесят огромных зеркальных фонарей украшают такое же число аркад. Каждый из них дробит, преломляет и отбрасывает множество ярких лучей, и все они вместе представляют прекрасный ряд лучеметных светил. Так освещены галереи сверху. Внизу каждая лавка светится, как прозрачная картина. Множество разноцветных ламп, паникадил и граненых хрусталей распространяют прелестное радужное зарево, очаровывающее взор».
Производили газ на четырех заводах. Самый старый из них располагался на территории Люксембургского сада; он обслуживал Люксембургский дворец (где заседала палата пэров), театр «Одеон» и часть аристократического Сен-Жерменского предместья. Второй завод располагался неподалеку от заставы Мучеников и обслуживал квартал Шоссе д’Антен и Монмартрское предместье, а также новый зал Оперы на улице Ле Пелетье. Третий, откуда газ подавался на улицу Сент-Оноре и в Пале-Руаяль, был выстроен вне городской черты, за Курсельской заставой. Наконец, самый большой завод вырос в Рыбном предместье, жители которого, впрочем, резко возражали против его постройки, опасаясь ядовитых испарений. Помимо этих крупных источников газа существовали еще и портативные его генераторы; по всей вероятности, именно их использовал хозяин кафе на Ратушной площади («пионер» газового освещения в Париже), так как крупные заводы начали действовать лишь в 1820-х годах.
Частные лица освоили газовое освещение даже раньше, чем муниципалитет: в 1828 году в Париже было уже пять с лишним тысяч абонентов газовых рожков.
Газовое освещение повсеместно распространилось на парижских улицах с конца 1830-х годов. Англичанка Фрэнсис Троллоп, побывавшая в Париже в 1835 году, жалуется в своей книге на «глубокую тьму, которая царит повсюду, где нет лавок с газовым освещением». Она замечает: «В кофейнях и ресторациях, расположенных по обеим сторонам бульваров, освещение такое яркое, что можно обойтись без добрых старых фонарей, призванных проливать свет на мостовую. Но стоит хоть немного отдалиться от этого царства света и веселья, и вы погружаетесь в ужасные потемки; можно сказать с уверенностью, что самый маленький провинциальный город в Англии освещен несравненно лучше, чем все те улицы Парижа, что находятся в ведении городской администрации. Если дома освещены газом, значит, трубы, по которым этот газ поступает, подведены к домам; в таком случае я не могу взять в толк, зачем предпочитать масляные фонари, источающие тусклый безрадостный свет, яркому сиянию газовых ламп, соперничающих с солнцем; мне объяснили, что все дело в договоре с фонарщиками, срок которого еще не истек. Если бы, однако, во Франции пеклись об общественной пользе с тем же тщанием, что и в Англии, притязания всех фонарщиков мира не могли бы помешать городским властям позаботиться о том, чтобы горожане ходили вечерами по светлым улицам, чего бы это ни стоило муниципалитету».
Сходным образом оценивал ситуацию и такой превосходный знаток Парижа, как Бальзак. Описывая в романе «Блеск и нищета куртизанок», действие которого происходит в конце эпохи Реставрации, контраст между освещенными торговыми улицами и соседними темными закоулками, он с тем же недоумением и негодованием восклицает: «Улица Ланглад, так же как и соседние с ней улицы, позорит Пале-Руаяль и улицу Риволи. <…> Узкие, темные и грязные улицы, где процветают не слишком чистоплотные промыслы, ночью приобретают таинственный облик, полный резких противоположностей. Если идти от освещенных участков улицы Сент-Оноре, Новой улицы Малых Полей и улицы Ришелье, где непрерывно движется толпа, где блистают чудеса Промышленности, Моды и Искусства, то, попав в сеть улиц, окружающих этот оазис огней, который бросает свой отблеск на небо, человек, незнакомый с ночным Парижем, будет охвачен унынием и страхом. Непроглядная тьма сменяет потоки света, льющиея от газовых фонарей. Время от времени тусклый керосиновый фонарь роняет неверный и туманный луч, не проникающий в темные тупики. <…> Муниципальный совет не сделал ничего, чтобы оздоровить этот огромный лепрозорий…»
Канал Сен-Мартен. Худ. О. Пюжен, 1831
Впрочем, ситуация менялась очень быстро. В конце 1820-х годов газовые фонари еще были в Париже «непростывшей новостью», а уже в 1843 году на площади Согласия был проведен первый опыт освещения города с помощью электричества. К этому времени парижане «приручили» газ до такой степени, что в октябре 1840 года в городе были опробованы первые газовые плиты.
Отдельная, очень существенная статья благоустройства города – это забота о его водных артериях. По воде в Париж доставлялась большая часть товаров, необходимых для жизни, но река то мелела, то замерзала, часто была загромождена судами и сплавными плотами. Для облегчения судоходства в 1822 году было закончено начатое еще в 1802 году строительство стокилометрового Уркского канала, соединившего реку Урк с Сеной возле Парижа (впрочем, совершенствовать его продолжали и много позже этой даты). Кроме того, в эпоху Реставрации были проложены еще три крупных канала. Два из них позволяли кораблям плыть не напрямую через Париж, а в обход города: канал Сен-Дени длиной около 6 с половиной километров, с дюжиной шлюзов, был открыт 13 мая 1821 года; канал Сен-Мартен, длиной 4 с половиной километра, с девятью шлюзами и десятью мостами, – 4 ноября 1825 года. Последний канал во второй половине XIX века был частично убран под землю (и сохранился в таком виде до наших дней). Третий канал, открытый в октябре 1825 года, носил название Марии-Терезы; он позволил судам, шедшим по Марне (притоку Сены), не следовать за всеми изгибами реки, изобиловавшей в этом месте песчаными отмелями, и значительно укоротил их путь.
Город, располагавшийся по обеим сторонам большой реки, нуждался не только в новых водных артериях, но и в новых мостах. За пятнадцать лет эпохи Реставрации через Сену были переброшены мосты Архиепископского Дворца, Гревский и Антна (последний располагался на месте нынешнего моста Инвалидов). Все они были построены в конце 1820-х годов, после того как закончилась неудачей попытка соорудить грандиозный мост через Сену на уровне эспланады Инвалидов (там, где сейчас проходит мост Александра III).
Что же касается старых мостов, то им требовался ремонт; в 1816 году этой процедуре подвергся мост Сите, соединявший острова Сите и Сен-Луи. В марте 1830 года стала очевидной необходимость полной реконструкции Нового моста; эта операция была произведена уже при Июльской монархии. Работы такого рода диктовались практической целесообразностью, зато другие усовершенствования мостов объяснялись исключительно эстетическими вкусами властителей. Например, при Людовике XVIII началось воплощение идеи, пришедшей в голову еще Наполеону, – украсить мост Согласия (в это время он именовался мостом Людовика XVI) двенадцатью колоссальными статуями. Изменились лишь персоналии: если Наполеон хотел увековечить собственных генералов, павших на поле брани, то Людовик XVIII решил почтить память великих слуг монархии. В состав роялистского пантеона вошли четыре министра (Ришелье, Сюлли, Кольбер и Сугерий), четыре полководца (Конде, Дюгеклен, Тюренн и Баярд) и четыре мореплавателя (Дюкен, Дюге-Труэн, Турвиль и Сюффрен). Огромные статуи из белого мрамора были установлены на мосту лишь при Карле X, в 1828–1829 годах. Они стоили огромных денег (более 200 000 франков), но на фоне реки смотрелись настолько неудачно, что в 1837 году решено было перевезти их в Версаль.