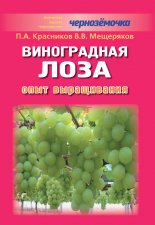Русский струльдбруг (сборник) Прашкевич Геннадий

Не зря она окружает себя пустышками.
Но старика – своего спутника – она подцепила живого, удовлетворенно отметил я. Древнего, но живого. Не очень крепкая опора, но все же не виртуальное существо, на которое в буквальном смысле нельзя опереться. Конечно, старик покрыт пылью времени, он плохо слышит, хромает, но много ли от него требуется? На пальцах старухи я почувствовал, уловил следовые количества какой-то химической дряни. Почитай духов, да… И держись от них подальше…
– Видите этот иероглиф? – низко произнесла старуха.
Глаза у нее были противные, водянистые:
– Это мой знак. Надежда.
И спросила, помолчав:
– А ваш знак?
Я наугад ткнул в иероглиф, похожий на покосившуюся городьбу.
Старуха посмотрела недоверчиво:
– Вы не ошиблись?
– Почему вы так спрашиваете?
– Потому что вы указали на знак ухода.
– Строка кончается, но мысль безгранична.
– Может быть. Но это вырожденный иероглиф, – возразила Радлова. Она не верила мне. – Не вырожденная материя. И не вырожденное слово. Нет, нет. Лучше сказать кун сян – грамматическая игрушка.
– Вечность тоже проста.
Старуха меня злила. Она мешала мне.
– Существует и такая модель… – проскрипел старик.
Это было неожиданно. Наверное, он механически продолжил разговор, начатый еще до моего появления.
– Шу Ци слышал многие голоса. Он видел грифа. Это известно. Но существует и такая модель, как космогонический принцип Литтлтона. Слышали? – Теперь он спрашивал меня. – Литтлтон утверждал, что наблюдаемое состояние Вселенной всегда будет оставаться одним и тем же. Наблюдатель в любую астрономическую эпоху будет видеть в небе все одну и ту же никогда не меняющуюся картину. Понимаете? Только бесконечное разбегание галактик. Вечный сон. Бег на месте. Сегодня как вчера, завтра как сегодня. Понимаете? Никакой разницы. Ну, может, раз в сто миллионов лет в объеме, равном объему комнаты, будет сам по себе возникать атом водорода…
– Пянь гоу, – ласково покивала старуха.
И, поддерживаемая спутником, боком-боком почти по-птичьи запрыгала по аллее.
Неведомый мне космогонист Литтлтон, однако, был не глуп, ошеломленно подумал я. Действительно, что может измениться в обреченном на сонное угасание мире? Краем глаза я видел, что старуха остановилась, но не поднял голову. Не говорят же в палате для умирающих, что зашли в нее отдохнуть. Старуха что-то произнесла, и дряхлый ее спутник вернулся.
23.
Наверное, он был болен.
И возраст не благоприятствовал.
Лицо изрезано некрасивыми морщинами. Секущиеся волосы, пегая седина. Наверное, любит тепло, солнечное томление, прогулки на сырое кладбище ему в тягость. Сколько лет ему? Хотя бы примерно… Я прикинул: наверное, под сто. Хотя вряд ли. Таких стариков в Сибирской автономии давно не осталось. Скорее, за шестьдесят, не больше, при их-то образе жизни. Дряхлость – типичное проявление болезни Керкстона. Конечно, мое разочарование было вызвано лишь случайно промелькнувшим в разговоре словом гриф и этой дурацкой моделью Литтлтона. Я понимал, что чудес не бывает. Болезнь не возвышает, нет. Никаких горлиц в небе. К черту! Какие горлицы? Какой гриф? Старик, бредущий по пустой аллее, вряд ли помнит, что дело заключается всего лишь в мутациях определенного вируса, а не в каких-то грифах и горлицах. Вирусы не только убивают. Они обеспечивают информационные потоки в биосфере.
Пянь гоу. Друг.
Старуха Радлова ждала, ухватившись рукой за тоненькую березку.
Вполне ископаемая пара. Вряд ли они помнят о том, что именно вирусы – вирусы всех видов – поддерживают тонус эволюции, уничтожая любую особь, по тем или иным причинам потерявшую способность воспроизводства. Люди неустанно плодятся, они должны плодиться, любой живой вид спасает только экспансия. Наш мозг изначально – орган выживания. Органом мышления он становится, когда мы задумываемся. К сожалению, люди однажды начинают задумываться. Они создают культуру. И культура начинает воздействовать на человека. Горлиц может не быть, и грифы не появятся, но детей надо рожать. Без них нельзя. Их отсутствие обессмысливает жизнь. Семья умного человека никогда не будет напоминать большую африканскую деревню, но она необходима.
Старик, наконец, доковылял до меня.
– Простите, – с одышкой произнес он. – Я – вдовец.
Плащ плохо грел старика, он зяб. Глаза смотрели неопределенно, в их мути не плавало ничего узнаваемого. Действительно – вдовец… Живет один… Давно… Я считывал это с одежды старика. Привычная тоска, долгая затяжная тоска. Болезнь не сделала старика отталкивающим, но при взгляде на такого вот преждевременного старца люди с ужасом вспоминают о некоей тайной, скрытой под землей части чжунго, где (так говорят) в стерильных, наглухо закрытых палатах в приступах удушья умирают бесконечные очередные жертвы болезни Керкстона…
* * *
«С течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти друзей и не без удовольствия смотрел бы на их потомков».
* * *
«Так мы любуемся расцветающими в нашем саду гвоздиками и тюльпанами, нисколько не сокрушаясь о тех, которые увяли прошлой осенью».
* * *
– Я всю жизнь резал по камню.
Старик без всякого выражения смотрел на вырожденные иероглифы.
– Глиптика – увлекательное занятие, – пошевелил он пальцами, обтянутыми перчатками салатного цвета. – Я прожил большую жизнь.
«Большую жизнь». Я давным-давно проскочил далекий период его дурацкого возраста. Я был старше дряхлого вдовца на многие-многие десятки лет. А он, видите ли, прожил «большую жизнь»! И вовсе не глиптика была его главным занятием… Крэкер… Ну да, именно крэкер… Именно так… Когда-то он был сетевым крэкером… Наверное, его до сих пор боятся…
С неопрятных одежд я свободно считывал всю жизнь старика.
Виртуальные миры… Да, он был отличным крэкером… Он с первой попытки взламывал любой код, для него в Сети не было тайн… Похоже, со старухой Радловой он когда-то был близок в том самом смысле, как это допускает природа. Но главным для него всегда оставалась Сеть. Считается, что именно такие профессионалы создавали культуру дарения. Ну да, он и сейчас гордится тем, что дарил людям закрытую от всех информацию. Конечно, его не всегда понимали. Случалось, осуждали в открытом флейминге – заваливали тысячами презрительных электронных посланий. Бывало и худшее. Но он не отступал. Он стоял на своем. Он был убежден, что только Сеть может создать истинную культуру дарения.
– Я хотел провести старость на одном из южных морей, а сейчас у меня только домик в виртуальной общине.
– Вас не выпускают из Хатанги? – догадался я.
– Разве только меня? – пожевал он губами.
– А какие моря вас привлекали?
Я понимал, что старику хочется поговорить. Все равно о чем. Вечером он медлительно, смакуя каждое слово, перескажет наш разговор своей дряхлой спутнице. Обсуждая услышанное, они будут находить в моих ничем не примечательных словах все новые и новые глубинные смыслы.
– Не знаю…
Он опустил глаза.
– Теплые… Да, теплые…
Какие-то видения заставили его обо всем забыть.
Тоска по пространству. Ах, эта неизбывная великая тоска по пространству!
– Моя жена русская… У нас не было детей… А теперь и жена умерла… Я хочу жить среди русских…
– Наберитесь терпения.
– Думаете, что-то изменится?
– Все в мире рано или поздно меняется.
– Но мне уже за шестьдесят…
Dirty old man. Противный старик. «Мне уже за шестьдесят». Ничего умнее, конечно, не мог придумать. «Думаете, что-то изменится?» Эволюция оперирует бесконечными поколениями, она не помнит о жалких ничтожных стариках. Жалеть надо только бессмертных, подумал я. Это у них нет будущего. Это только бессмертным нет смысла ждать русских или китайцев, мечтать о далеких теплых морях. Все пройдет. Все моря во всех временах – чужие.
* * *
– Посмотри мне в глаза…
Опустив веки, я прижался лбом к щеке Фэй.
Мы были на маяке Омо. Слышали ветер за стальной стеной.
– Разве можно видеть с закрытыми глазами?..
* * *
Потом я не видел Фэй несколько месяцев.
Зато время от времени встречал ее помощницу.
Она сильно сдала. Губы обнесло сыпью, руки необыкновенно истончились.
«Если это результат болезни, – заученно улыбалась она, перехватывая мой взгляд, – не хотелось бы схватить ее еще раз». У огромного зеркала (любимое ее место) она разыгрывала целые спектакли. «Сжальтесь, господин палач», – умоляла она. Прекрасно знала, что жалости от природы ждать не стоит, но что-то заставляло ее произносить все эти слова, часто почти бессмысленные. «Я никогда не чувствовала себя лучше», – легкий поворот головы. Темные волосы взвивались жертвенно и печально. «Принесите жертвы богу выздоровления…» И улыбка, которую лучше не видеть.
24.
Осенью 2192 года в ресторане «Ду» на подлокотнике кресла за бамбуковым занавесом кабинета старухи Радловой я увидел знакомые салатного цвета перчатка. Мне не надо было их касаться. Меня затопило волной неясных запахов. Некоторые исчезали сразу, другие я сразу идентифицировал. Например, запах Ли – помощницы Фэй. «Оставьте меня, я умру и без ваших снадобий». Нелегко отделять информационные следы одного человека от следов другого, но я видел и то, что старуха Радлова и сотрудник службы Биобезопасности Ли Хунчжи часто встречались.
Батальон Поиска?
Преследователи струльдбругов?
Человек, умеющий извлекать корни из любых чисел и моментально перемножать их в уме, не прибегая ни к каким инструментам, обычно не способен объяснить, как это у него получается. Дар психометриста, присущий мне, – дар необъяснимый. Мне показалось, а может, и не показалось, что перчатки оставлены на подлокотнике умышленно. Ну, скажем, для того, чтобы каким-то специальным образом упорядочить течение моих мыслей. Фэй, Ли Хунчжи, старуха Радлова, даже Сатин – все они, несомненно, составляли какую-то все еще непонятную мне группу. Они не афишировали своего единства, но это единство угадывалось. С этой точки зрения появление Фэй в космическом челноке несколько лет назад уже не выглядело случайным. Как обычная женщина, она, конечно, мечтала о мужчине, способном сделать ее матерью, но…
Вряд ли они искала именно меня.
Меня даже Гриф не сумел отыскать, а он ведь хотел этого.
Но я чувствовал, чувствовал, что нахожусь под наблюдением.
С потасканных перчаток вдовца я считал много действительно странного.
Например, по тайным запахам, никем, кроме меня, не улавливаемых, я узнал, что сотрудник службы Биобезопасности Ли Хунчжи (как и Фэй) не ограничивал себя только беседами только с теми, кто мог (хотя бы теоретически) навести его на след струльдбругов. У Ли Хунчжи был широкий круг осведомителей. Видимо, даже я (не отдавая в том отчета) поставлял ему нужную информацию. Да иначе и быть не могло. Эти погребальные деньги… И соломенная собачка… И прогулка на кладбище… И все эти откровенные разговоры в ресторане «Ду»… Ячейки сети, заброшенной Ли Хунчжи и Фэй (если я в этом не ошибался), были частыми. Я с тревогой чувствовал, что в таких частых ячеях можно запутаться.
Однажды такое уже случилось.
Лет семьдесят назад женщина, в доме которой я укрывался, заподозрила меня в преступном бессмертии. Долгие размышления и тщательная тайная слежка утвердили эту женщину в мысли, что я один из тех самых струльдбругов, что скрываются от справедливого возмездия. Не знаю, что вывело ее на такую страшную догадку, но проверила она ее очень простым способом: подсыпала мне в вино какой-то отравы. Она обнимала мне ноги и спрашивала: «Любишь?», и в желтых яростных ее глазах плавало счастье спасти мир. С восторгом и ужасом она следила за тем, как я тяну ее убивающий напиток.
Чашка…
Еще чашка…
Она стонала от вожделения…
Она ждала пены на моих посиневших губах, стонов, конвульсий, жалоб…
Как только это начнется, думала глупая женщина, я вызову сотрудников службы Биобезопасности. Несут они за плечами песчаные смерчи страха. Она не знала, что я успел поменять чашки. Конечно, она заслуживала наказания, но я не позволил ей умереть. Я ее вытащил из ее мук. Под утро, измученная, она, наконец, уснула. Я сидел за столом. За раскрытым узким оконцем в чудовищно непознаваемой глубине все еще звездного неба таяло неопределенное сияние. В те годы я почти не спал. Меня мучили дурацкие вопросы. Что, думал я, если бессмертие – это всего лишь что-то вроде вечной бессонницы? Неужели, думал, это правда, что самым интересным моментом жизни является смерть? Неужели все однажды уйдут, а я останусь? Неужели из этой тюрьмы нет выхода?
* * *
– Эти перчатки в кабинете…
– Ты об Анне? – переспросил Сатин. – Мы с ней друзья.
– Я ее давно не видел. Куда старуха исчезает так надолго?
– Как это куда? – засмеялся Сатин. – Конечно, в Сеть. Куда еще?
– Для меня это звучит странно. «Уходит в Сеть». А можно ее навестить в Сети?
– Если ты знаком с ее системой паролей.
Самого Сатина прогулка в Сеть нисколько не привлекала.
Он действительно мечтал дожить до того времени, когда Сибирскую автономию займут русские (или китайцы) и отправят всех сумасшедших в тюрьму. Хотя бы в виртуальную.
Паролей я не знал, но когда-то занимался системой взломов.
Не глядя на Сатина, я включил вебер. Конечно, Сатину и в голову не могло придти, какой у меня был опыт. Первые пароли я вообще раскусил без труда. Потом пришлось повозиться. Сатин не выдержал и ушел. «Многие пытались побывать в гостях у Барковой».
И все же часа через три я оказался у широкого подъезда.
Роскошный лестничный марш, покрытый коврами. Шуршание красивых одежд, милые улыбки. Прием был в самом разгаре. Меня узнавали, но, кажется, никто всерьез не принял моего появления. Даже Ли Хунчжи. Увидев меня, он только приподнял широкополую шляпу.
«Я могу войти в дом?»
«Если имеете приглашение».
Он еще раз вежливо приподнял шляпу.
А гости все подходили и подходили – и поодиночке, и группами.
Створки огромных дверей распахнуты. Дивные цветы в старинных китайских вазах. Я не ожидал такой роскоши. Подходили целые семьи – дети, бонны, воспитатели. Счастливые улыбки, переплеск голосов. Я пытался понять, что связывает всех этих таких разных людей, но не выявил доминанты. Нежное трепетание воздуха, стремительный наплыв звуков и запахов. «В каком колледже лучше всего ставить китайский?» Они говорили о банальных вещах, зато выглядели потрясающе. «А белый шелк можно заказать через дот-ком?» Никаких проблем!
Пару раз я подходил к лестничному маршу.
Казалось, еще шаг – и я буду со всем, но каждый раз в моем мозгу вспыхивало обжигающее слово:
password
Я делал шаг и упирался в невидимую преграду.
«Возьмите меня за руку, я слабею». Я страшно обрадовался появлению Ли, помощницы Фэй. «Переверните меня, с этой стороны я уже поджарилась». Конечно, она и здесь думала только о своем грядущем аде. Конечно, она и здесь думала только о своих грядущих изменениях, страшных необратимых изменениях, и уже прикидывала на себя свои последние минуты, как роскошное платье.
Я улыбнулся ей. Наверное, поэтому она и сказала: «Уходите, Гао-ди. Немедленно уходите».
«Но чем я отличаюсь от всех вас?»
«Тем, что у вас нет приглашения».
* * *
Меня вновь вынесло в ресторан «Ду».
Сатин усмехнулся. Он уже сидел за столиком.
– Зачем вам потребовался этот визит к Барковой?
– Разве для каждого визита должна быть причина?
– Не продолжайте, – улыбнулся Сатин. – Я вас понимаю. Вы скучаете. В чжунго пусто и одиноко. Люди боятся прямых контактов, поэтому уходят в Сеть. Сибирская автономия, кстати, не столь велика, как кажется поначалу. То, что не нравится, то, что отталкивает, может, и не занимает большую ее часть, но вы человек извне, Гао-ди. Для вас террасы чжунго, наверное, необыкновенно, сказочно пусты. Я не ошибаюсь? Вы у нас уже три года. Да? Хотите, сделаю вам подарок?
И он произнес:
– Мы ждем, Гао-ди.
– Среди этих фальшивых семей? – не выдержал я.
– Это вам виртуальные семьи кажутся фальшивыми, – вежливо остановил меня Сатин. – Но не тем, кто строил Сеть, в которую вас не пустили. К тому же, это не просто Сеть. Это – другой мир, другая жизнь. Да, люди и животные не отбрасывают там теней, но это только для того, чтобы мы не забывали, где находимся…
– Но его же не существует, этого мира!
– Уж лучше такой – несуществующий, чем мир вообще без людей, – жестко, даже жестоко ответил Сатин. – Зачем жить, – почти буквально повторил он мои недавние размышления, – если некого оставить после себя?
– Но это придуманная жизнь, ее, в сущности, нет!
– А разве наша реальная жизнь не так же придумана?
– Есть разница… – начал я, но Сатин опять прервал меня:
– Нет никакой разницы, Гао-ди. Вы должны, наконец, понять. Обитатели Сибирской автономии брошены один на один со своими проблемами. Выживайте или умрите – вот весь выбор. Вы там извне наблюдаете, как болезнь Керкстона пожирает нас, но не приходите, чтобы помочь. Так с какой стати приглашать вас в Сеть? Это – наше пространство. Там нет места ни вам, ни вашим вирусам. Анна Радлова никогда не примет вас в Сети. Правда, – засмеялся, – можно создать ваше подобие, и оно будет говорить, как вы, двигаться, как вы…
– Пустышку?
– Можно сказать и так. Но пустышка никого не обманывает, а реальный человек всегда может обмануть. Не бывает исключений, так человек устроен. Понимаете?
Он засмеялся:
– Когда русские войска или китайские войдут в автономию…
– …мы отключим Сеть, – твердо пообещал я. – И вернем в реальность всех заблудших людей.
– Заблудших?
Сатин провел пальцем по сенсорам вебера.
Для него-то никаких запретов не существовало.
Я увидел на экране узкую лестницу. Она уходила в темное нутро металлической башни. В чжунго могли быть такие, почему нет, но, скорее всего, это была одна из башен Сети.
Подниматься было нелегко.
Ноги уставали… Шаг… Еще шаг…
Но минут через десять я выбрался на увитую плющом смотровую площадку.
Внизу открылся дом Анны Радловой. Почему-то я сразу понял, что это ее дом. Необыкновенно ровно подстриженные газоны. Плоское озеро, лежащее вровень с плоскими берегами. Черные лиственницы. И совсем далеко, чуть ли не на черте горизонта, – огромная тусклая река, змеящаяся, рябая, как дракон, и печальные полярные равнины, израненные воронками вытаявших провалов.
Перед домом толпились гости.
На озере поблескивали весла смельчаков.
Оживленные голоса доносились как некий отдаленный ропот, другая жизнь, все равно чувствовалось, что люди внизу свободны. Они даже нисколько там не боялись болезни Керкстона.
Я будто заглянул в чужое освещенное окно.
Чувство это усилилось, когда я поднял подзорную трубу.
Она лежала тут же, на полочке. Наверное, Сатин не раз любовался теми панорамами и звездами. Особенно долгой полярной ночью. Но меня сейчас интересовала толпа, гуляющая перед домом старухи Радловой. Пышные шлейфы. Пышные парики. Сумасшедшие прически. Красивые лица, черт побери! Уверенные!
* * *
Когда Конфуций странствовал по горе Тайшань, он увидел Жуна Цици, который бродил по равнине в одеждах из шкур, подпоясанный простой веревкой, и напевал песню, подыгрывая себе на лютне. Холодный ветер не мешал ему.
– Уважаемый, отчего вы так веселитесь? – спросил Конфуций.
– О, у меня много причин для веселья! – ответил Жун Цици. – Среди всех вещей этого мира человек – самое драгоценное, а я родился именно человеком. Разве это не причина для веселья? Из двух известных полов мужчины всегда ценятся выше, чем женщины, а я родился мужчиной. Вот и вторая причина для моего веселья! Среди родившихся на этот свет многие не живут и дня или месяца и никогда не выходят из пеленок, а я уже прожил почти девяносто лет. При этом я принимаю свою судьбу и спокойно ожидаю конца. О чем же мне беспокоиться?
– Вот человек, знающий, как быть довольным в этом мире! – воскликнул Конфуций.
* * *
«Где ты, Бо Юй, когда так нужен народу?»
* * *
Голос помощницы Фэй: «Ах, как много превосходных симптомов!»
* * *
СТАРИМСЯ ЕСТЕСТВЕННО
СТАРИМСЯ ЕСТЕСТВЕННО
СТАРИМСЯ ЕСТЕСТВЕННО
* * *
Меня вновь вынесло в ресторан.
Сатин уже ушел. Но с развертки вебера на меня глядела Фэй.
– Лянь… – произнесла она.
Я не сразу понял:
– «Жалеть?»
Она покачала головой:
– Нет, Гао-ди… «Любить»… Мы долго не виделись.
– Я был занят. Пытался даже побывать в Сети.
– Надеюсь, у тебя ничего не получилось?
– Надеешься?
Она улыбнулась:
– Хотела спросить тебя, Гао-ди…
– Спрашивай.
– Нет, не сейчас.
– Почему не сейчас?
– Я сама не знаю.
– Тогда тем более спроси.
– Скажи… – Она колебалась. – У меня могут быть дети?..
Я промолчал.
– Скажи, – требовала она.
– Как я могу знать такое?
– Но ты не похож на нас. Ты пришел извне. Ты наблюдатель. Ты, наверное, совсем иначе смотришь на то, что происходит с нами?
– Я не очень оптимистичен, – ответил я уклончиво.
– Значит, я умру одна? Никаких детей? Совсем, совсем одна?
– Каждый умирает в одиночку, ты знаешь.
– Но некоторые умирают окруженными детьми.
– Да, есть и такие. Но не здесь. Не в чжунго.
– Значит, нам остаются только соломенные собачки и погребальные деньги?
– Они тоже ненадолго, – улыбнулся я. – Соломенные собачки и погребальные деньги будут сожжены вместе с нами.
– Но ты же знаешь…
– Что? – спросил я.
– Из всех грехов дочерней непочтительности самый большой – отсутствие детей.
– Где ты сейчас находишься?
– В архиве…
25.
* * *
Я стоял на открытой галерее.
Мохнатый толстый иней на поручнях.
Мерцающие звезды. Тишина. Я не чувствовал чужих глаз, даже если за мной следили. Над невидимой Хатангой внизу, повторяя извив реки, высвечивалась сиреневая корона.
Пустынные переходы.
Грохочущий металл лестниц.
Два мрачных типа несли навстречу длинную титановую трубу, от которой кисло пахнуло пережженным металлом. Кожаные пояса. Плазменные резаки. Только с очередной открытой галереи я снова увидел сиреневую световую корону, отмечавшую невидимые полыньи.
* * *
Снова переходы.
Снова узкие лестницы.
Я спустился к лифту, но он не работал.
Это выглядело невероятно. Так не бывало.
Впрочем, те рабочие… Мало ли, какие работы ведутся на технических этажах чжунго. Но мысль эта почему-то не успокоила. И странным казалось то, что, считывая информацию с перил и панелей, я чувствовал, что здесь (и не очень давно) была Фэй.
Впрочем, тут бывали и многие другие. Например, Ли Хунчжи.
Он бывал в этих переходах часто. Он не раз касался стен рукой. Он делал это машинально, зато теперь я шел как по хорошо протоптанной дорожке. Может, она ведет в загадочный стальной поросший инеем бункер? Почему нет? Пройдет время… Пройдет долгое время… Болезнь Керкстона пожрет всех жителей Автономии, а остальные уйдут в Сеть. Вся действительность сожмется до границ мифа. И только последний струльдбруг, запертый в поросшем инеем бункере, будет еще помнить что-то…
* * *
Странно, но я не чувствовал опасности.
Чувство тревоги – да. Но не больше. Да и что, собственно, могло произойти? Появится сотрудник службы Биобезопасности Ли Хунчжи? Он пянь гоу. Он друг. Обнимет меня, поведет к кварцевому стеклу дверей внутреннего перехода, за которыми укрывается…
Кто укрывается?
Стальная дверь разошлась.
Разобранная стойка хелттмелла… снятый вебер…
Ну да, бывшая ванба. Сетевое кафе, закрытое за ненадобностью.