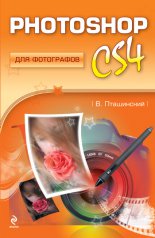Невеста Субботы Коути Екатерина
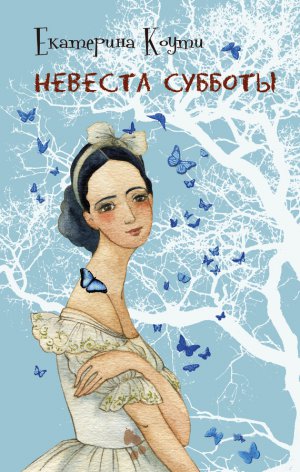
— Нет.
— Я так и думала, что ты это скажешь. Все вы, белые, одним миром мазаны. Только вы одни знаете, кому как жить. И не поспоришь с вами, и не докажешь вам ничего. Ненавижу тебя и всех вас ненавижу! — кричит Дезире иступленно, брызгая слюной, и ее глаза вдруг сужаются. — Но больше всех я ненавижу знаешь кого? Твоего мсье Эверетта. Была б ты там, видела бы ты его, когда он устраивал мне нахлобучку. Распекает меня на все корки, а глазами так и ест. А на уме только одно — то же самое, что у всех прочих!
С размаху она хлопается на кровать, выпуская из подушки вихрь белых перьев, и рыдает до икоты, тем самым лишь подкрепляя мою уверенность в том, что к независимому житью она пока что не готова и, окажись на воле, тотчас угодит в нехорошую историю. Мир перемелет ее, равнодушно, но тщательно и до однородной массы, а потом выплюнет кости и потянется за новой порцией, за чьей-то еще жизнью. Только со мной Дезире останется в безопасности. Потому что мне, как никому иному, повезло с покровителями. С ними обоими.
Что касается свободы, то свобода свободе рознь, и вот такая свобода ей точно ни к чему.
Свобода уничтожить себя, свобода пасть и разбиться.
Свобода одним махом обесценить все, что я сделала для нее в Тот Раз.
Глава 13
Запрокинув голову, кентуккиец изумленно таращится в полуденное небо.
— Энто солнечный удар его хватил, — волны шепота плещутся над моей головой. — Прошелся пьяным по двору, вот и тюкнуло в темечко.
«Как мамзель ему пожелала, так все и вышло!» — раздается чей-то боязливый голос, но умолкает, как только надсмотрщик Тони начинает неторопливо разматывать скрученную в кольцо воловью плеть, что болтается у пояса. Жесткие меры излишни. Это мнение вряд ли укоренится. Всклокоченная после бега, потная, с ног до головы перемазанная пылью, я похожа скорее на выпавшего из гнезда слетка, чем на гарпию. Кто воспримет мои угрозы всерьез? Мало ли чего я наболтала со зла. Зато солнце у нас такое лютое, что даже негры, проведя день на тростниковом поле, жалуются на ожоги. Как тут не быть солнечному удару?
И никто ничего не узнает. А зачем им знать?
По выцветшему до невнятной голубизны небу размазаны облака, будто молоком капнули на стол и поводили пальцем. Подтеки облаков отражаются в мертвых глазах, осветляя и без того белесые радужки, затуманивая сжавшиеся в точку зрачки. Лишь иногда глаза покойника темнеют — если на них падает тень от крыла огромной бабочки, что кружит над ним, как ленивый и, в общем-то, сытый стервятник, который, однако, не желает упустить лакомую падаль. Хоботок скручен в тугую спираль, но я знаю, как он остер и как больно жалит. И бегу прочь, расталкивая зевак, потому что не желаю видеть, как бабочка начнет кормиться.
Полагаю, это будет неприятное зрелище.
На крыльце встаю на цыпочки, чтобы получше разглядеть телегу, но она пуста. На примятой соломе — обрезки веревки. Ди успели вызволить из пут. Это все, что меня волнует. Прятаться сестра умеет почище любого хорька, когда нужна — не дозовешься. Вот и сейчас я уповаю на ее непревзойденную способность сливаться с ландшафтом.
В детской ничего не изменилось. Роза сидит в плетеном кресле, с корзиной у ног и высушенной тыковкой, которую использует для штопки чулков. Будто и не вставала. На меня же смотрит так, словно я муха и как залетела в комнату, так и вылечу.
Пренебрежение ранит меня еще больнее, чем давешнее подобострастие, но я не собираюсь первой заводить разговор. Много чести. Могла бы и спросить, не утомилась ли я и не угодно ли мне чего, потому что я, между прочим, не в бирюльки играла. Я такое повидала, такое!.. Но Роза обиженно помалкивает, и я, не снисходя до просьб, сама лью воду в тазик и смываю солоноватую грязь с лица. Отфыркиваясь, вычищаю пыль из носа и ушей, тщательно тру шею…
— Видала покойника? — спрашивает Роза у меня за спиной, и я давлюсь водой.
— А он… ну… как он умер? — спрашиваю, прокашлявшись.
— Это я его убила, — говорит она невозмутимо, как о кролике, который поутру щипал клевер, а вечером побулькивает в котле вместе с морковью и сельдереем. — Неужели ты удивлена?
— Н-нет… то есть да… но… то есть… к-как ты его убила?
— Да так и убила.
— Навела на него вангу?
— Нет, — с сожалением говорит няня. — А могла бы. — Она встает и приоткрывает шторку, задумчиво глядя на Миссисипи, что зеленой лентой стелится на горизонте. — Я могла бы зарыть у порога корень асафетиды, чтобы этот прощелыга переступил через него и с каждым шагом терял жизненную силу. Я могла бы насыпать ему в карманы могильной земли, смешанной с кайенским перцем, чтобы где-нибудь по дороге в Александрию он корчился в страшных муках, до крови раздирая ногтями кожу, пытаясь добраться до сжигающего мышцы огня. Я могла бы вырвать клок его волос, слепить с ними восковую куклу и бросить ее в горшок с пиявками — тогда черви сожрали бы его изнутри. Или те же волосы замотать в клочок красной фланели, истыкать иголками и сгноить на навозной куче, чтобы он по ошметку выплевывал свои легкие… Да, я много чего могла бы сделать. Но вместо этого я подсыпала яду ему в джулеп. Глупо, правда?
Я не в силах сказать ни да, ни нет. Дар речи покинул меня стремительно и, быть может, навсегда. Вовсе не так представлялось мне исполнение первого желания. А как-то более… волшебно.
— И если врачам в Новом Орлеане вздумается вскрыть его труп, они как пить дать поймут, что дело неладно. Выявить отравление им не составит труда.
— Откуда ты знаешь? — пугаюсь я.
— Мой отец был врачом.
— Лекарем?
— Нет, просто врачом. Военным хирургом. Хотя зачем я тебе все это рассказываю?
Да, такие подробности мне сейчас побоку.
— Почему ты решила его отравить, а не… ну… как-то иначе с ним… расправиться?
— Самый быстрый способ. Ты же сама хотела, чтобы он умер мгновенно. Вынь тебе да положь.
— Я?
— А кто же еще? Ты, конечно, отмыла руки от кукурузной муки, но желтые крошки застряли под ногтями. И подол платья закапан воском — в полдень-то! А еще от тебя несет табачищем, как от деревянного индейца перед табачной лавкой. Значит, ты вызывала самого Барона Самди. Вот он меня и оседлал.
Горько рыдая, я сознаюсь во всем.
— Врушка из тебя никудышная, Флёретт, — цокает языком Роза. — И мамбо тоже никакая. Отдала все, что имела, а взамен попросила с гулькин нос. Убить такого сморчка! Да он бы и сам скоро от желтой лихорадки преставился.
— А что со мной будет? Меня повесят за убийство?
— Нет. А вот меня, скорее всего, да… С другой же стороны… — она задумчиво теребит узел тиньона, — слыхала я, что сушеный бычий язык — верный помощник от кляуз да судебных тяжб. Авось и мне, старой лисе, удастся выкрутиться.
— Значит, все еще может хорошо обернуться?
— Смотря что считать за «хорошо». Ты еще дважды можешь позвать его на подмогу. Прежде чем… — Нянька умолкает.
— Роза?
— Прежде чем Барон Самди заберет тебя всю и насовсем, — нехотя заканчивает она. — Твою жизнь, твою душу. Все, что у тебя есть. Он уже выкопал тебе могилу, Флёретт, — в таких делах он скор.
— Но я же… я всего лишь попросила о чуде. Как в сказках!
— Чудо — это рваная рана на ткани мироздания. И края ее кровоточат.
Повисшую тишину нарушает журчание. Я оборачиваюсь на звук и застываю, точно не в меру любопытная жена Лота.
К дверному косяку привалилась Нора. Хоть и с задержкой, она принесла мой обед — молоко, румяное крылышко и оранжевое, изрезанное масляными ручейками пюре из сладкого картофеля. Поднос мелко подрагивает. Из накренившейся чашки тоненькой струйкой льется на пол молоко. Тарелка опасно зависла над краем. Кап-кап-кап. Вслед за молоком с пюре капает масло. Нора не замечает беспорядка. В ее выпученных, с красными прожилками глазах плещется такой ужас, какого не было, даже когда Дезире лежала в телеге под палящим солнцем, стреноженная… Вот так я осознаю, что натворила.
Когда в гостиной раздается бой часов, мамушка роняет поднос. В жалобном перезвоне фарфора тонет второй удар, зато отчетливо слышен третий. Гулкий, как похоронный колокол.
Три пополудни.
И Тот Раз еще только начинается.
То, что произошло дальше, напоминало водевиль в духе пресловутой «Негритянки-сомнамбулы». Таково, по крайней мере, мнение рассказчицы, слушатели же вольны делать свои выводы. Однако изложить череду событий иначе, как в трагикомических красках, не представляется мне возможным. Итак, вслед за антрактом, во время которого я жалась к Розе, запоздало сожалея о своем поступке, начался третий акт, ознаменовавшийся возвращением моего отца, мсье Эвариста Фариваля.
После нескольких часов на пароходе, а затем долгой тряски на бричке мсье Фариваль был, как говорится, не при параде: усы и черные вьющиеся волосы поседели от пыли, белый пиджак изрядно помят, сапоги нуждались в незамедлительном контакте с ваксой и щеткой. Мысли плантатора занимали исключительно ром и прохладная вода в большой медной ванне, и он готовился отдать должное обеим жидкостям, желательно одновременно.
Но стоило хозяину войти в ворота, как навстречу поспешил управляющий и после должных объяснений препроводил его к высохшему банановому дереву. Под бурыми, свернувшимися по всей длине листьями лежал труп неизвестного белого мужчины. Чья-то предусмотрительная рука очертила его в круг из кирпичной крошки, дабы упредить посмертный променад, что, как известно, является любимым времяпровождением покойников.
Со слов мсье Жака выходило, что усопший был работорговцем, но о цели его визита управляющий отзывался уклончиво. Так, мимо проезжал. В управлении плантацией мсье Фариваль никогда не проявлял чрезмерного рвения и готов был удовольствоваться этим объяснением, но правда не заставила себя долго ждать. На пути к Большому дому ему случилось пройти под сенью виргинского дуба, как вдруг его внимание привлек необычный звук, доносившийся откуда-то сверху. Целый выводок опоссумов не мог так громко шуршать.
Подняв глаза, плантатор увидел малолетнюю невольницу, которую он всегда выделял из пестрой толпы челядинцев, во-первых, из-за ее светлой кожи, а во-вторых, потому что она приходилась ему дочерью. Девчонка сидела у основания ветки, крепко прижавшись спиной к стволу. От страха ее зеленые глаза казались огромными, в пол-лица.
— От кого ты тут прячешься, мартышка? Опять набедокурила? А ну-ка слезай, — окликнул ее хозяин, но девочка не шелохнулась.
— Нет, мсье, ни в жисть не слезу, — затрясла она двумя косичками. — Не то мадам Селестина опять на меня взъестся и велит старой мадам меня продать.
Последовавшая перебранка между супругами Фариваль по накалу страстей превосходила все предыдущие и едва не закончилась расправой. Слуги, занявшие места в партере, сиречь у двери и под окном, в один голос утверждали, будто хозяин заломил хозяйке руку за спину, а после толкнул на постель. Не давая жене подняться, навис над ней и возопил, что не считает себя жеребцом-производителем, чей приплод подлежит продаже. Презрения достойны те отцы, что, как Робер Мерсье, продают своих детей с молотка по дюжине в год. С Дезире так поступать не должно. Никто не вправе распоряжаться его дочерью, каких бы кровей она ни была. Его дочь — его собственность. Если Селестина еще раз покусится на Дезире, то живо отправится обратно в Натчез. Мсье Фариваль по жене скучать не будет.
Высказав супруге претензии, мсье Фариваль оставил ее орошать слезами подушку, сам же вышел на веранду, где матушка, едва заслышав рокот грозы, велела накрыть стол и поставить на белоснежную скатерть целых две бутылки рома. Материнское сердце не обмануло: горячительные напитки развеяли мрачность Эвариста, хотя лишь отчасти. Обычная его веселость не подлежала восстановлению. До прихода темноты плантатор просидел на веранде, опрокидывая стакан за стаканом, пока не уснул, уронив голову на скрещенные руки. Хозяин даже не заметил, как мимо него проскользнула нянька, которая несла в фартуке какой-то увесистый предмет…
…Роза разворачивает фартук, и на половичок у моей кровати шлепается тушка петуха. Черные перья лоснятся, гребень и отвисшая бородка алеют, как пламя на головешке. Я осторожно поддеваю крыло мыском туфли.
— Дохлый?
— Нет, живехонек. Я накормила его сон-травой. А ты отрубишь ему голову, — говорит Роза и протягивает мне тесак.
— Не буду я рубить ему голову! Мне противно. И страшно.
— А накликать на человека смерть было не страшно? — сощурившись, спрашивает нянька. — Делай, что я говорю. Вдруг получится отвести беду?
— Ты это о сделке, няня? Думаешь, ее можно отменить?
— Попытаюсь. Но для этого нам нужно принести жертву — черного петуха. И зарезать его должна ты.
Судорожно сглатываю и принимаю тесак. Рукоятка из отполированного орешника скользит в моих вспотевших ладонях. Рублю, не глядя, наугад, но каким-то чудом попадаю по шее. Слышится чавкающий хруст, и когтистые лапы хватают воздух, а затем вытягиваются и коченеют. Голова болтается на полоске кожи, из раны хлещет кровь, которую Роза споро собирает в глиняную миску. Когда миска наполняется до краев, нянька окунает в нее ладонь и мажет по лицу сначала себе, потом мне.
К горлу подступает тошнота, но я креплюсь и стараюсь выполнять все, что мне велено. Скатываю половики и заталкиваю их под кровать, пока Роза, то и дело смачивая палец в крови, рисует на полу веве. Такой узор я вижу впервые. Центральную ось, чем-то похожую на позвоночник, рассекает надвое прямая линия. В нижней половине рисунка изображен треугольник, в верхней — сердце, от которого тянутся три креста. Между крестами два соединенных дужкой овала. Мне чудится, что эти овалы смотрят на меня с пола, и притом смотрят зловеще. Они так похожи на глаза.
— Чей это веве? — спрашиваю я, заглядывая няньке через плечо.
— Маман Бриджит. Законной супруге того, кому ты сегодня по глупости предложилась. Помнишь, что я говорила? Первая похороненная на кладбище женщина становится Бриджит, первый мужчина — Бароном.
— Думаешь, она за меня вступится?
— Не знаю. Трудно предугадать, как поведет себя женщина, которой внаглую перебежали дорогу. Но я помогу чем смогу. Лезь давай под кровать и тащи сюда бутылку.
Под моей кроватью, вдали от назойливых глаз, припрятана пузатая бутыль с ромом, настоянным на перцах. При тряске перцы поднимаются со дна, как огромные черные пиявки. Роза разливает питье по двум кофейным чашкам. Ядреный запах спиртного так шибает в нос, что можно захмелеть на расстоянии.
— Пей, — Роза сует мне чашку, но, омочив только кончик языка, я захожусь в натужном кашле.
Жжется эта настойка похуже адской смолы. Одного глотка хватит, чтобы я сварилась изнутри и в мучениях испустила дух.
Заметив, что мне дурно, Роза снова прицокивает:
— Связался же черт с младенцем! Какая из тебя мамбо, раз ты не можешь выпить пиман?[49] Ох, Флёретт, Флёретт, что же ты натворила! Ладно, без тебя управлюсь. Ты пока в стороне постой.
Одним махом она опорожняет чашку, шумно выдыхает, трясет головой, вытягивает черные губы в трубочку и, восстановив дыхание, начинает бормотать себе под нос. Беседы с Ними она ведет на африканском наречии, которое лично мне кажется какофонией сонорных звуков, но вслух я его не осуждаю — в сравнении с французским креольский диалект тоже не больно-то благозвучен.
Бормотание ускоряется, в нем проскакивают смешки и стоны, по лицу пробегают судороги, глаза закатываются, на месте карих радужек теперь сплошная белизна, рот искривился, словно его раздирают невидимые пальцы, слюна брызжет по сторонам, долетая и до меня, испуганной, забившейся в угол. С глухим стуком Роза валится на пол. Припадок выкручивает ее конечности, выгибает ей спину в крутую дугу так, что слышен хруст позвонков. Горло напряглось от крика, который выходит наружу глухим рычанием.
Но страшнее всего глаза. Белые, пустые. Мертвые глаза, чтобы смотреть на мертвых.
Я так вжалась в стену, что еще немного — и растекусь по обоям. Многое мне довелось повидать на своем коротком веку, но такой страшный припадок я вижу впервые. Наконец Роза дергает ногами, как петух, которому я пустила кровь, и резко затихает. Не помня себя от страха, бросаюсь к ней. Хлопаю ее по щекам, трясу за плечи, но она не отзывается, только таращится на меня белками глаз. Шарю рукой по ее груди, нащупывая стук сердца. Оно не отзывается. Изо рта няньки разит ромом, но дыхания тоже нет. Она мертва, понимаю я и мечусь по комнате, заламывая руки. Что же делать? Звать взрослых? Или попытаться как-то ее откачать?
Но, похоже, сама судьба делает за меня выбор. Дверь, которую мы забыли запереть на засов, отворяется, и лунный свет выхватывает из темноты фигуру моей матери.
В то время как мсье Фариваль топил огорчение в роме, его супруга вотще пыталась облегчить душу слезами и молитвой. Она даже подумывала о том, чтобы, упредив угрозу мужа, самой собрать сундук и вернуться в Натчез, но не оставлять же дочь во власти этого сластолюбивого скота! Ради своей малютки она готова была на многие жертвы. Все свои жертвы она мысленно заносила в долговую книгу, чтобы затем пролистать ее вместе с дочерью, а сегодняшний случай тянул на солидный вексель. Можно понять досаду Селестины, когда ее подсчеты нарушил стук в дверь.
В спальню вошла Нора, чем немало озадачила свою госпожу.
— Что тебе нужно, блудодейка? — изумилась мадам. — Валла пришла потешаться над Рахилью, а Зелфа — над Лией?[50]
— С вашего позволения, мадам Селестина, — бормотала Нора, приседая. — Уж простите негодную рабу…
— Ну, что ты заладила? Что тебе от меня надобно?
— Там мамзель Флоранс… она… уж простите, мадам…
— Флоранс? Что с моей дочерью? — встрепенулась Селестина.
— Мамзель Флоранс того… не знаю, как вымолвить… мамзель Флоранс продала душу сатане.
Нора хотела как лучше. Подслушанный разговор потряс ее гораздо сильнее, чем несостоявшаяся продажа Дезире. Весь день мамушка места себе не находила, а под вечер, услышав, как Роза вошла в детскую, решила известить обо всем мадам. Ибо нет на свете ничего могущественнее материнской молитвы. Авось мадам Селестина, ангел во плоти, отмолит дочь и вырвет ее из-под ига дьявола. Откуда рабыне было знать, что она застигнет Селестину в том настроении, когда жечь еретиков сподручнее, чем кормить хлебами голодных?
Что было дальше, я помню как будто вспышками. Мать волочит меня за волосы к себе в спальню. Швыряет с такой силой, что я скольжу по полу и торможу, ударяясь головой о край платяного шкафа. Щелчок засова. В руках матери — плеть-девятихвостка с мелкими узелками. Этой плетью она истязает свою плоть в Страстную пятницу («слегонца», по словам служанок). Онемев от ужаса, я смотрю, как она высоко замахивается, и вовремя успеваю сжаться в комок, иначе удар пришелся бы по лицу. По спине не так больно.
— Ведьма, чудовище, дьяволово отродье! — заходится криком мать, нахлестывая меня плетью, не делая перерыва между ударами, чтобы дать мне отдышаться или самой перевести дыхание. — Изыди, отродье дьявольское, вспоенная кровью блудницы! Ведьма, ведьма, сатана вошел в твое черное сердце! Посмотри, он отметил тебя кровавой печатью! О, почему ангел смерти не прибрал тебя, как первенцев египетских?!
Перевернувшись на бок, поджав колени к подбородку, я принимаю позу, в какой лежала в ее чреве. Но это не смягчает ее сердце. Она же видела своими глазами, она же все видела! Обезглавленного петуха, чашу с кровью, сатанинские письмена на полу, жуткую гримасу на лице бездыханной негритянки. Мы вызывали дьявола, мы поклонялись ему и ставили свои подписи в его черной книге. Как ведьма Титуба и ее приспешницы, белые потаскушки из Салема. Я такая же тварь, как они. И при этом я ее дочь! Почему Господь попустил мне жить? После моего рождения у нее было два выкидыша — почему я не умерла вместо тех двух крошек? Почему, почему, почему?!
Кроме ее проклятий, свиста плети и треска двери, которую уже выламывают со стороны коридора, других звуков не слышно. От любого потрясения я ору как резаная, а тут молчу, стиснув зубы. Боль опаляет мне плечи и ребра, как будто Дух Святой снисходит на меня язычками пламени, и я радуюсь, что таким образом мне, быть может, дается искупление грехов. Хотя Роза сказала, что я пропала с концом, и ей я почему-то верю больше.
Когда Люсьену удается высадить дверь, сорочка на мне превратилась в лохмотья, а с кожаных узелков капает кровь. Начинается сумятица, мать оттаскивают от меня, но я слишком истерзана, чтобы открыть глаза или заговорить. Сильные руки Норы подхватывают меня с пола. Моя щека покоится на ее груди, в носу щекочет от запахов патоки и пота. Со всей осторожностью меня укладывают на что-то мягкое и, как тряпичной кукле, приподнимают руки, чтобы стянуть с меня рванье. Поблизости звенит голосок Дезире, но ей велят нарвать молодых банановых листьев, и она убегает. Нора плачет и во всем винит себя. Одна из горничных — кажется, Жанетта — говорит, что это все Розины проделки, колдунья проклятая, хотела дитя в жертву чертям принести, ну да ничего, как очухается эта черномазая, старая мадам ее на кусочки порежет и аллигаторам скормит.
Так я узнаю, что Роза жива. Она пришла в себя, хотя еще языком не ворочала, но хозяйка велела забить ее в колодки и запереть в дровяном сарае, а рот заткнуть кляпом, чтоб не могла волхвовать.
Порываюсь спросить о ней, но шиплю от боли, потому что мои рубцы мажут какой-то липкой гадостью и обкладывают банановыми листьями. Любой негр знает, как врачевать раны от бича. Даже доктора звать не надо.
В гостиной между тем собрался семейный совет, на котором Селестина присутствовала in absentia, поскольку почивала, забывшись тяжелым опиумным сном, и не могла принимать осмысленных решений. Бабушка предлагала порешить ведьму. Пусть Эварист зарядит дуэльный пистолет и отведет гадину за дровяной сарай, а ее останками угостит аллигаторов. Произвести экзекуцию лучше без проволочек, пока ведьма не успела проклясть плантацию со всеми ее обитателями, навести порчу на скот и сглазить урожай.
Выслушав матушку, мсье Фариваль выдвинул сразу несколько возражений. Убийство раба — дело подсудное, пусть только в теории. Вместо того чтобы тратить деньги на подкуп прокурора, который может нагрянуть на плантацию с проверкой, не лучше ли продать наглую бабу и положить 800 долларов на банковский счет? Тут и прибыль, и хлопот никаких.
Что же до обвинений в колдовстве, мсье Фариваль был немало огорчен и даже взбудоражен тем фактом, что слышит эту несусветную чепуху не в хижине рабов, а в доме, где хранятся труды Вольтера и Дидро. Образованный человек не отрицает наличия зла, но при этом не плюет через плечо, чтобы попасть черту промеж рогов. Ведьмы, заклинания, колдовские шары, которые используют для гадания негры, — все это плоды невежества.
Если Роза и заслужила страшную кару, так это за свою разнузданность. По всем признакам выходило, что она вовлекла Флоранс в ночные игрища самого гнусного характера. Но чего еще ожидать от рабыни непонятного роду-племени? Чтобы уберечь Флоранс от дурного влияния негров, следовало выписать для нее гувернантку из Парижа, которая обучила бы девочку все премудростям и привила ей хороший вкус. Общение с образованной белой женщиной пошло бы Флоранс на пользу. Непонятно, почему у нее до сих пор нет гувернантки-француженки!
На это мсье Фаривалю было отвечено, что Нанетт и сама подумывала о гуверняньке, но по трезвом размышлении отвергла сию идею. Вот если б он следил за своим гульфиком, так Нанетт давно уже выписала бы гуверняньку, а пока он озорует, ни о какой гуверняньке и речи быть не может. Мало ему черных ублюдков, так еще белых захотелось?
Дальнейших аргументов у мсье Фариваля не нашлось.
Рано поутру управляющий вывел Розу из сарая. С нее сняли колодки и страшный намордник, но руки и ноги ей оттягивали кандалы, звеневшие на каждом шагу. Проснулась я не от их звона — я и вовсе спать не ложилась.
— Роза!
Тело саднит под платьем, но я со всех ног мчусь к ней. Я должна кое-что уточнить, прежде чем ее уведут навсегда.
Понимая, что проще устроить нам последнее свидание, чем стать свидетелем некрасивой сцены со слезами и заламыванием рук, управляющий подталкивает Розу ко мне. Сам он отступает к забору. Сорвав ветку кизила, объедает мелкие кислые плоды, но не сводит с рабыни глаз.
— Почему она не откликнулась? — запыхавшись, спрашиваю я. — Маман Бриджит! Почему она не помогла?
В уголках рта запеклась кровь, но Роза по обыкновению усмехается:
— А ее там не было. Я долго бродила среди духов и всматривалась в их лица, но Маман Бриджит я не повстречала.
— Но… как же так? Куда она подевалась?
— Неужели ты так ничего и не поняла, Флёретт? Ничего, поймешь в свое время.
Лязгая цепью, она поднимает руку и, как в нашу первую встречу, проводит пальцем по моей щеке. Потом я не раз повторяла маршрут ее пальца, потому что так нежно меня никто больше не трогал, а мне этого очень хотелось. Но кожа на подушечке ее пальца была шершавой и жесткой, как дубовая кора, а моя — мягкой, и обман не удавался.
— Что на самом деле случилось с твои лицом? — задаю давно мучивший меня вопрос. — Это ведь были не разбойники?
— Нет, это сделал мой хозяин. Я сильно провинилась перед ним… Но я не называла имя его ребенка, — сдавленно шепчет она, и впервые в ее глазах появляются слезы. — Только его миссис. Я только для его жены попросила смерти, потому что иначе она сгубила бы меня. А ребенок… мастер Уилли… такой славный, такой милый малыш… на него я не указывала. Откуда мне было знать, что получится… вот так. Что Барон решит за меня. Смерть забирает всех, кого пожелает, и не слушает ничьих указов.
Покрываюсь испариной, от чего струпья на плечах отчаянно зудят, словно их сбрызнули уксусом.
— Ты отомстишь им? Моей маме и бабушке? За то, что они тебя продают?
— Нет. Нет, не бойся. Я пожелала бы смерти им обеим, — спокойно отвечает Роза, чуть наклонившись ко мне, — но Барон не придет на мой зов.
— Почему?
— Потому что теперь у него есть ты, Флёретт. И ему с тобой интереснее.
И она уходит под конвоем управляющего, идет, тяжело переставляя ноги, а я гляжу ей вслед, пока ее фигура не тонет в зыбкой пелене зноя и пока сама я едва не слепну от ослепительной белизны дороги. Потом я сажусь на корточки и вожу пальцем по пыли, осторожно поглаживаю отпечатки ее ног и следы от кандалов, извилистые, словно на каждом шагу ей приходилось переступать через змею. «Ты одна из нас, — бездумно повторяю я вслед за эхом — Одна из нас». Слезы капают в пыль, собираясь в рыхлые комочки, и я разминаю их между пальцами.
Мне хочется, поскуливая, забраться на колени к Норе, чтобы она гладила меня своими мягкими, пахнущими патокой пальцами и приговаривала, что ничего не произошло и моя душа — при мне.
Мне хочется стиснуть ладошку Дезире и вместе с сестрой пуститься наутек, бежать далеко-далеко, бежать на край земли и никогда больше сюда не возвращаться.
Мне хочется вернуться и разжать кулаки, выпустив на волю двух бабочек с жалами вместо хоботков. Одна пусть летит в «Малый Тюильри», а другая… другая задержится у нас дома.
Мне много, много чего хочется этим утром, когда я в одночасье становлюсь такой взрослой, что судьба отнимает у меня няньку. И лучшего друга заодно.
В тот же день отец увозит меня в Новый Орлеан. Наспех собирают вещи — не в сундук, ибо подходящего по размеру сундучка не нашлось, а просто суют несколько платьев и белье в шляпную коробку, которую я прижимаю к себе крепко, словно это моя точка опоры, пока меня ведут по двору и сажают в бричку. Бабушка торопливо крестит меня, Нора плачет, промакивая глаза фартуком, а матери нигде не видно — она так и не вышла меня благословить. Черные лица рабов кажутся одинаковыми и лишенными выражения, точно куски угля, а голоса доносятся откуда-то издали, словно я стою на дне глубокого колодца и мне кричат что-то сверху, но слова сливаются в монотонный гул. Где же Дезире?
Экипаж трогается и лишь когда выезжает за ворота, мягко пружиня колесами по пыли, с забора спрыгивает юркая фигурка в розовом ситцевом платье. Дезире мчится за нами, придерживая на бегу тиньон, который всегда соскальзывает с ее слишком гладких волос. Другой рукой она машет мне и что-то кричит. Ее слов я тоже не разбираю, но, встав коленями на сиденье, разворачиваюсь к ней и тоже ору до хрипоты:
— Orevwa, mo ch s! Tout bagay va byen, m’ap retounen![51]
И я действительно вернусь. Через семь лет.
До Нового Орлеана мы добираемся на шатком речном пароходике, который одышливо пыхтит обеими трубами, но неутомимо движется вперед, поглаживая реку против течения. «К вечеру доберемся», — говорит папа, когда мы поднимаемся на верхнюю палубу. Там, в тени штормового мостика, что нависает над палубой, защищая ее от солнца, расставлены кресла. Присмотрев себе то, что почище, отец присаживается и достает портсигар. «Вот, дочку везу в пансион, — объясняет он полному лысоватому господину, который дает ему прикурить. — Двенадцать лет, самый возраст».
Папин собеседник смотрит на меня с сомнением, и я краснею до корней волос. Наверное, он собирался спросить, почем я. Вид у меня прежалкий, и на барышню я похожа даже меньше, чем обычно.
Не расставаясь с коробкой, я бреду к бортику и таращусь на нижнюю палубу, где между тюками с хлопком спят вповалку негры, и на мутно-зеленую гладь реки, и на камышовые заросли вдоль берега, и на аллигаторов, что нежатся на мелководье. И думаю… не, ни о чем не думаю. Внутри пустота. Я похожа на высосанное яйцо, надави посильнее — треснет.
Не замечаю, как начинает вечереть, и, перебирая онемевшими ногами, спускаюсь вниз за отцом, а на пристани жмусь к нему, чтобы меня не затолкали и не выбили мою ношу из рук.
— Что-то ты невесела, милая, — замечает папа и ловит открытую карету, приказывая вознице прокатить нас по старому городу.
Перестук копыт, дребезжание колес. Вот театр Сент-Чарльз, рассказывает папа, а вот мы свернули на Канал-стрит, отделяющую американские районы от тех, где исстари селятся французы и испанцы. Оттуда наш путь лежит на рю Бурбон, куда ездят за покупками городские модницы. Остановиться где-нибудь? Хорошо, в другой раз. А вот этот домишко с просевшей крышей — кузня, которую держали братья-пираты Жан и Пьер Лафитт. И где-то под полом припрятаны их несметные сокровища. Тоже можно посмотреть, кстати. Ну, ладно, еще успеется.
Новый Орлеан прекрасен пьянящей, головокружительной, какой-то судорожной красотой, от которой перехватывает дыхание, как от глотка крепкого рома.
Стены домов подрумянены оттенками красного и охряного. От них почти ощутимо исходит жар, а язычки газа в фонарях пляшут, словно под стекло посадили по саламандре. Взгляд путается в ажурном кружеве чугунных балконов и утопает в пене магнолий, стекает вниз по длинным языкам папоротников, что колышутся от частого дыхания города. Повсюду люди — неспешно прогуливаются по улицам, выглядывают из лавок, опираются на перила балконов. Мужчины громко смеются, взбалтывают лед в бокалах и выпускают облачка душистого табачного дыма. Женщины поводят обнаженными плечами цвета карамели и накручивают на пальчики пряди распущенных черных волос. Их платья полыхают яркими красками и вздымаются воланами, они похожи на гомонящую стаю райских птиц, и даже пот их пахнет бурбоном и розовой водой.
— Где же вас так долго носит, мсье Эварист? — каплет сверху медовый голосок.
Красавица-квартеронка свешивается с балкона так низко, что грудь едва не вываливается из глубокого, отороченного золотистым кружевом декольте.
— Мы уж заждались!
Не дожидаясь ответа, она откалывает розу с корсажа и бросает моему отцу. Ленивым движением он ловит цветок и вставляет в петлицу.
На углу рю Бурбон и Тулуза, где корабельнымносом выдается вперед здание оперы, отец подзывает уличную торговку. Необъятных размеров негритянка сыплет в кулек пралине, руками зачерпывая их из корзины. Кругляши карамели с орехами выглядят подозрительно. Засахаренные, засиженные мухами. На вкус совсем не такие, как делает Лизон: одновременно и приторные, и чересчур соленые — от моих слез. Грызу их через силу, чтобы не обидеть папу. Кулек он передал мне с такой галантностью, словно подносил букет роз.
Наша последняя остановка — собор Святого Людовика. Вечерня закончена, и запах ладана еще витает под гулкими сводами. Запах едва уловим, но меня начинает мутить, и, похолодев от ужаса, я прислушиваюсь к своим ощущениям. Значит ли это, что я стала нечистью? Кто, как не черти, боится ладана?
Вслед за папой я преклоняю колено и макаю палец в плошку с освященной водой, чтобы перекреститься. Капли воды приятно остужают лоб. Только в прохладной полутьме собора я замечаю, что у меня начался жар, да притом сильный. Зачерпнуть бы святой воды пригоршней и смыть пот с лица, но это совсем никуда не годится. Нужно перетерпеть.
Когда мы приезжаем в пансион урсулинок, отцу приходится нести меня на руках, так я утомилась. К векам подвесили по гирьке. В голове и за пазухой — горячая пыль. Когда же она туда набилась?
Прохладные хрусткие простыни принимают мое тело. Надо мной склоняется женщина в черном одеянии и с черным покровом поверх белого апостольника. Она бормочет что-то утешительное и пытается стянуть с меня платье, но я вскрикиваю от боли. Кровь и сукровица впитались в шелк, и ткань присохла к плечам, как вторая кожа. Нахмурившись, женщина быстро уходит прочь и возвращается с двумя помощницами. Они несут губку и тазик с водой. Только так, смачивая мне плечи и спину, монахиням удается снять платье. «Боже праведный!» — вскрикивает одна, та, что помоложе, и убегает. А затем вроде бы совсем близко, но в то же время далеко я слышу чей-то разговор.
— Что мы должны знать об этой девочке? — выпытывает скрипучий женский голос.
— Прошу прощения, сестра? — спрашивает кто-то знакомый. Ах да, мой отец.
— Ну, что с ней не так? Она лгунья, неряха? Или, быть может, воровка? В чем состоит ее провинность, раз вы сочли нужным наказать ее столь сурово?
Я вжимаюсь в кровать. Если папа скажет, что я колдунья, чернокнижница… Мне тут спуску не дадут!
— Ее единственная вина в том, что она дочь гневливой матери и отца, которого вечно нет дома, — печально отвечает папа. — Будьте с ней поласковее.
Он целует меня в лоб и подносит к губам мои горячие липкие пальцы. Просит быть умницей и во всем слушаться сестер. Уверяет, что навестит меня совсем скоро. Но я понимаю, что не будет никакого скоро. И вообще не будет ничего. Сквозь слипшиеся ресницы я вижу, что над ним кружат синие бабочки, и вытягиваю руку, пытаясь их отогнать, но рука бессильно падает на простыню. А затем на меня набрасывается желтая лихорадка.
Глава 14
Дорога до Хаммерсмита занимает около часа. Наемный экипаж привозит нас к постоялому двору с видом на подвесной мост через Темзу. Пока мы подкрепляемся чаем и гренками, Джулиан читает мне подробную лекцию о мосте, детище некоего Уильяма Кларка, а я поражаюсь как широте познаний моего жениха, так и присущей всем британцам способности подолгу говорить о невыносимо скучных вещах. Фундамент! Несущие конструкции! Странно еще, что не свернулись сливки в аляповатом молочнике из стаффордширского фарфора.
Массивные каменные арки моста, похожие издали на скованных цепями слонов, не возбуждают моего интереса, но я вежливо киваю, не забывая прихлебывать чай — продрогла в пути.
Мыслями я далеко. Не могу не думать о Дезире, о нашей ссоре третьего дня, которая вновь развела нас по отдельным спальням, и о страшной догадке Олимпии. Чтобы убить Иветт, Дезире не нужен был сообщник. В одиночку бы управилась. А воск на замочной скважине, обнаруженный моим придирчивым женихом, мог оставить Марсель. Как знать, не навещал ли он Дезире ночами, когда за стеной соревновались в храпе служанки?
Но кто тогда напал на нас у парка? И куда подевался тетин архив? Круг за кругом я брожу по лабиринту, выстраивая догадки и затаптывая их на новом витке, и чем дольше думаю, тем темнее становится в голове. Но одно я знаю наверняка — раз поймав сестру на крупной лжи, я уже ни в чем не смогу ей довериться. Но не любить ее тоже не смогу.
Расплатившись за трапезу, за которую, ввиду его цилиндра и дорогого пальто, с него содрали тройную цену, Джулиан любезно подставляет мне руку и приглашает прогуляться по Хаммерсмитскому мосту. По тому самому, который не далее как в апреле трещал, когда гуляки сгрудились на нем, чтобы наблюдать за университетской регатой. Рассказывает такие страсти, а потом удивляется, что я боюсь сделать шаг! К моему несказанному облегчению, это строение оказывается устойчивым, а бриз с Темзы прочищает горло и легкие от скопившегося там тумана. Наконец-то я вдыхаю полной грудью, вдыхаю так глубоко, что корсет впивается в ребра, а острая булавка брошки предупреждающе покалывает кожу. Намек понят. Не годится леди пыхтеть, как грузчику.
Перейдя мост, еще минут двадцать мы идем по мокрой после дождя обочине Кастелау-роуд. С детства привыкшие к сырости, англичане не считают непогоду достаточной помехой для прогулки. Сама королева в любое время года катается в открытой коляске, не опасаясь ни простуды, ни ломоты в костях. Джулиан бодро вышагивает по скользкому гравию, лишь изредка стряхивая капли влаги с бобрового воротника пальто. И вовремя придерживает цилиндр, предвосхищая попытки ветра отправить головной убор за изгородь одного из тех коттеджей, что выстроились в шеренгу вдоль дороги.
К концу променада мистер Эверетт сохраняет безупречный внешний вид, чего нельзя сказать обо мне. Пугало пугалом. Поля черной соломенной шляпки пошли волной, отсыревшая пелеринка плотно облепила плечи, да и само платье промокло до лифа. Вдобавок я слегка прихрамываю после падения, но это полбеды. Хуже, что начался насморк, и с каждым безобразно громким хлюпом я вспоминаю предупреждения Олимпии. Дескать, чтобы выжить в английском климате, нужно в нем и родиться. А южные жители вянут тут, словно лилии на морозе. Легкие не выдерживают. Год, от силы два — и чахотка. А там уж ни Канны не спасут, ни Ницца, можно саван себе шить.
Ее слова кажутся пророческими. Пока Джулиан возится с ключами, открывая узкие чугунные ворота, я вслушиваюсь в свое сиплое дыхание. Не завелась ли в легких смертоносная мокрота? Хотя если на роду написано умереть иначе, стоит ли бояться чахотки?
Поскрипывая, ворота отворяются, и мистер Эверетт зазывает меня в свои владения.
Тщательно скрываю удивление. Я ожидала увидеть нечто более зловещее — готические шпили, решетки на окнах, внутренний дворик, похожий на плац. Однако Приют Магдалины ничем не отличается от одного из тех кирпичных особняков в два этажа, на которые я насмотрелась за время прогулки. Разве что толстостенный, выше человеческого роста забор наводит на мысли о том, что хозяева опасаются грабителей — или побега.
Красный пористый кирпич фасада лоснится от недавнего дождя, с покатой крыши то и дело каплет. Тем не менее дом не выглядит заплаканным. За мокрыми стеклами белеют кисейные занавески и мерцают красными звездочками соцветия герани. Веерообразное окно над дверью придает всему крыльцу кокетливый вид, который лишь подчеркивают мраморные вазы по обе стороны лестницы. Из них торчат какие-то пожухлые хвостики, но я предполагаю, что в другое, более теплое время года над вазами благоухают цветы. Словно читая мои мысли, Джулиан извиняется за печальное зрелище, кое осенней порой являет собой приют. Окажись я здесь летом, мне не пришлось бы созерцать почерневшие клумбы вдоль гравийной дорожки. Летом все здесь зеленеет, а воспитанницы с удовольствием работают на свежем воздухе, как сказал бы Вольтер, возделывая свой сад…
— Кстати, а вот и они! — возвещает Джулиан и складывает руки на груди, напуская на себя вид сурово-скептический. Именно такой, с каким и подобает встречать девиц, само существование которых оскорбляет общественную мораль.
Со стороны заднего двора появляются две воспитанницы. Они о чем-то тихо переговариваются, то и дело шмыгая распухшими носами. Кажется, обе только что плакали.
— Элизабет Вейр и Анджела Насси! — окликает их мистер Эверетт. — Подойдите ко мне, девушки.
По первому зову они бросаются к нам, хлопая на ветру накидками из твида. Через клумбы перемахивают, до неприличия высоко задрав юбки, и едва не сбивают нас с ног. Джулиан вовремя поднимает руку, и обе девушки замирают, словно подошвы их грубых ботинок прилипли к гравию.
А мне удается рассмотреть пансионерок поближе. Так вот они какие, падшие женщины лондонского разлива. Их и женщинами-то не назовешь. Одной даже к первому причастию рановато. Круглое конопатое лицо, глазки-бусинки разглядывают меня с детским удивлением, пухлые ушки выглядывают из жестких рыжих волос. Похожий на пятачок нос едва достает мне до груди, а рядом с Джулианом девочка кажется сущей крохой. Ее товарка повыше ростом, тощая, с лишенным красок лицом и бесцветными глазами. По виду тоже совсем молода, но в уголках глаз и над переносицей залегли морщинки, как если бы она непрестанно хмурилась со дня появления на свет.
У меня сжимается сердце. Такие молодые, а у каждой за спиной — свой трюм, набитый кофейными мешками…
— Так-то лучше, — ворчит Джулиан, когда его подопечные приседают в подобии книксена, отклячив все, что только можно. — Незнакомых леди должно приветствовать поклоном, а не нестись на них во весь опор, как атакующая легкая бригада. Покажите-ка мне свои руки.
Завздыхав, девчонки вытягивают перед собой руки с растопыренными пальцами. Та, что помладше, успевает поплевать на ладошки и отереть их о фартук, как ей кажется, незаметно. Джулиан наклоняется вперед. Пальцы изучает внимательно, подмечая все цыпки и заусеницы, после чего коротким вдохом дает неряхам понять, что испытание они провалили.
— Что скажете, Флора? Вас удовлетворяет состояние этих передних конечностей? Лично меня нет. Столько грязи под ногтями!
— Мы хоронили кошку, сэр, — оправдывается рыжая пигалица.
— Ах, вот оно что, Бесси. Значит, кошку. Что ж, это печальный повод, — не меняя тона, говорит мистер Эверетт и снимает цилиндр. Ветер слегка колышет его напомаженные волосы. — Как прозывалась покойная?
— Миссис Мягколапка, сэр.
— Предлагаю помянуть усопшую минутой молчания.
Бесси жалобно шмыгает носом, и все трое умолкают, опустив головы. Перевожу взгляд с мистера Эверетта на девчонок, силясь вникнуть в происходящее. Чужая душа — потемки, а душа англичан — те же потемки, но самой длинной ночью года. Это что, какая-то игра? Уж чего-чего, а игр я в свое время насмотрелась! Дотерпеть до исхода минуты у воспитанниц не получается.
— Мистер Эверетт, а у кошек, того, есть душа? — спрашивает худышка неожиданно хриплым, пропитым голосом.
Джулиан вздергивает брови, как в палате общин, когда готовится впечатлить слушателей блестящим аргументом.
— Не будь у животных души, разве святой Франциск стал бы тратить свое драгоценное время на то, чтобы проповедовать рыбам или наставлять братца-волка? Будучи занятым джентльменом, обремененным многочисленными обязанностями, Франциск поберег бы свое красноречие, если бы считал, что его слова пропадут втуне. Ergo, сам собой напрашивается вывод, что душа у животных все-таки имеется, хотя, конечно, иного, более примитивного порядка.
— А Мэри Ситвелл сказала, что у кошек нету души, — ябедничает Бесси. — Будто б ей так говорили еще в воскресной школе.
— Прискорбно слышать, что ее ввели в заблуждение.
— А кошки, они того, они в рай попадают? — хрипит Анджела.
— Ну, не в ад же, — разводит руками мистер Эверетт. — Мне еще не доводилось встречать настолько греховную кошку, чтобы ею заинтересовался сам сатана. «Шкодливые» — вот как я бы охарактеризовал этих хвостатых созданий, а шкодливость не есть смертный грех. Что же касается чистилища, где, по учению церкви, души очищаются от легких грехов, то присутствие там кошек помешало бы этому в высшей степени назидательному процессу, потому как трудно сосредоточиться на покаянии, когда рядом кто-то мяукает. Ergo, исключив иные варианты, логично было было бы предположить, что души кошек попадают на небеса.
Пребывая в замешательстве, я могу лишь молча моргать. На моих глазах разворачивается какой-то странный ритуал, и непонятно, чем он закончится для всех его участников.
— А теперь марш в дом, грязнули, — хмурится попечитель, стоит воспитанницам разразиться радостным визгом. — И не забудьте вычистить ногти! Проверю.
Схватившись за руки, воспитанницы уносятся в дом, и шума от них не меньше, чем от стада жеребят.
— Они не будут наказаны?
— За что?
Неопределенно хмыкаю. Было бы желание, а повод найдется. Жерар Мерсье такими вопросами в принципе не задавался.
— Вон той, рыженькой, сколько же ей лет?
— Это Бесси Вейр, ей тринадцать. Сюда попала из тюрьмы Тотхилл Филдз — промышляла воровством в шайке оборвышей. Я посчитал, что пребывание в нашем приюте принесет ей больше пользы, чем тюремное заключение, и взял ее на испытательный срок. Анджела двумя годами старше. До поступления к нам успела побывать в работном доме и согрешила тем, что швырнула в надзирательницу миской, сопроводив выходку предложением — цитирую — «самой хлебать эти помои».
В сжатом виде он пересказывает истории воспитанниц. В приют принимают особ в возрасте от четырнадцати до двадцати лет, тех, кто еще не закоснел в пороках. Попадаются среди них не только проститутки, но также воровки и попрошайки, служанки, оставшиеся без места, и портнихи, которых нужда выгнала на улицу. Впрочем, все они так или иначе растлены.
Послушала бы Дезире эти речи! Может, поняла бы, что стезя порока вовсе не так привлекательна, как ей кажется. Быть развратницей — не значит стоять на чугунном балконе и посылать воздушные поцелуи прохожим. Здесь Европа, а не Новый Орлеан. Коротка дорожка от съемной квартиры до борделя. Или того хуже — до темной, пропахшей мочой подворотни. А оттуда один путь — или в госпиталь для сифилитиков, или, если удача улыбнется, сюда.
— Но все девушки пребывают здесь добровольно?
— Разумеется! Это же не замок Удольфо[52], — усмехается мой жених. — Пойдемте и увидите все своими глазами.
В прихожей, отделанной дубовыми панелями, нас встречает молодая женщина в строгом темно-синем платье, без лишних оборок и даже без турнюра. Темные волосы зачесаны гладко, волосок к волоску, и скручены на затылке в простой пучок. На длинноватом носу примостились очки в роговой оправе. «Наставница», — сразу понимаю я.
При виде Джулиана учительница склоняет голову, но держится с достоинством. Каждый жест выверен, лишен суетливости и дополняет отрешенно-спокойную улыбку.
— Мы не ждали вас, мистер Эверетт.