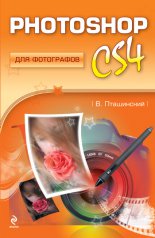Невеста Субботы Коути Екатерина
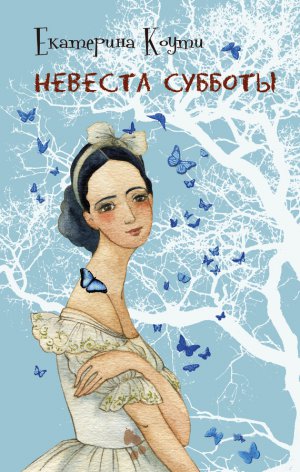
Только литографии из ее коллекции всякий раз заставляют меня содрогнуться. Открытки повсюду: от них пестрым-пестро над камином, ими усеян лиловый покров на домашнем алтаре. Подернутые экстазом глаза следят за мной со стен. Губы улыбаются, стоит мне переступить порог. Руки протягивают блюда, с которых сладким сиропом стекает кровь.
Казалось бы, человеку, не раз наблюдавшему сцены из довоенной жизни Юга, стыдно ужасаться при виде святых мучеников, но я ничего не могу с собой поделать. Когда я вижу, как святая Агата держит на подносе свои отрезанные груди, точно кондитерша пирожные, или святой Лаврентий облокачивается на ту самую решетку, на которой он был изжарен, мне становится не по себе. Дело не в самих телесных мучениях, а в том, как невозмутимо они преподносятся. Спокойствие, с каким мученики поигрывают орудиями пыток, кажется недосягаемым, а потому чуждым. Безмятежность на грани насмешки, невинность пополам с лукавством.
«У тебя так не получится, полукровка. Никогда. Можешь даже не пытаться», — читаю я в снисходительном взгляде святой Лючии. «Таких, как ты, тоже рисуют на картинах, но в нижней четверти холста. Вы извиваетесь под нашей пятой», — вторит ей святая Маргарита.
«Ведьма, ведьма, сатана вошел в твое черное сердце!» — кричит моя мать, замахиваясь плетью.
— Какая у тебя любимая святая, Флоранс? — голосок Мари нарушает ход моих мыслей.
Пристраиваюсь на колени подле кузины, беру четки с алтаря и перекатываю между пальцами гладкие коралловые бусины. Мари подхватывает свои четки, опаловые с перламутровым крестиком.
— Святая Бригитта Ирландская.
Мари понимающе кивает и прикрывает глаза.
— Дочь вождя-язычника и его рабыни, обращенной в христианство самим святым Патриком, — тараторит она, словно текст написан на внутренней стороне ее век. — С детства чувствовала призвание к монашеской жизни, а впоследствии основала обитель в Килдэре, на месте храма богомерзких друидов. Покровительствует младенцам, ремесленникам, фермерам, морякам, путешественникам, дояркам…
— Ты так много знаешь.
Мы стоим так близко, что бусины с наших четок постукивают, задевая друг друга. Кораллы у меня и переливчато-белые камушки у Мари. Мне кажется, в этом есть что-то символичное. Опалы — к слезам, а кораллы к чему? Кажется, они защищают от дурного глаза, но на сей счет мне волноваться нечего. Я и есть проклятие во плоти. Мои слова несут людям смерть.
— Да, жития всех святых я знаю наизусть, — щебечет кузина. — Когда я готовилась стать послушницей, я прочла все книги в монастырской библиотеке, заучивала страницу за страницей, чтобы не ударить в грязь лицом, если господину епископу будет угодно меня проэкзаменовать…
— Послушницей? Ты готовилась к постригу?
— Ой, а я думала, мама тебе рассказывала! В десять лет она отдала меня в школу при монастыре бенедектинок в Льеже. Ох, и хорошо мне там жилось! Жила и забот не знала, как птичка Божия. Бывало, закончатся уроки, все девчонки бегут в сад, а я проскользну в часовню, где сестры уже собрались на молитву, и молюсь, и пою вместе с ними. У сестер-наставниц я ходила в любимицах, потому что вела я себя лучше прочих пансионерок. А среди них такие отчаянные попадались! — Закатив глаза, Мари цокает языком. — Уж так шалили, так пакостничали! Книжки рвали, лазали через забор, точно мальчишки, а в дортуаре иногда такое непотребное баловство учиняли, что слов нет! Совсем юные, а уже приспешницы сатаны. Но госпожа аббатиса попросила уведомлять ее о шалостях и гадостях, чтобы ей сподручнее было искоренять грех. Изо всех сил я старалась ей помогать, благо Господь даровал мне хорошую память и острый глаз. И вскоре греха в нашей школе поубавилось, — говорит Мари, скромно потупившись, чтобы я не сочла ее бахвалкой.
Что в Льеже, что в Новом Орлеане правила в монастырских школах однотипны, да и способы их нарушить тоже не отличаются разнообразием. О проделках школьниц я знаю не понаслышке, раз уж обыкновенно я становилась их объектом. Однако не бежала к директрисе наушничать. А Мари, наверное, розги подавала, когда ее товарок вразумляли за шалости.
Праведность кузины настораживает меня, как настораживает полуулыбка святой Аполлонии, когда, словно зажатый щипцами кусочек сахара, она демонстрирует свой вырванный с корнем зуб.
— Аббатиса говорила, что у меня все задатки монахини. Да что монахини — святой! Подумать только! Я могла стать святой сестрой, как Тереза Авильская, и тоже познала бы экстаз. Если бы мама не забрала меня из монастыря!
В первый раз я вижу кроткую Мари рассерженной. Тонкие ноздри трепещут, как лепестки розы на ветру.
— Это случилось два года назад. Мама приехала в Льеж прямо перед моим шестнадцатилетием и увезла меня в Лондон. Хорошенький подарок на день рождения, ты не находишь? Как только ни увещевали ее сестры, она и слушать их не желала. Сказала, что ее дочери не бывать монашкой. Слишком много средств в меня вложено! Как только я наберусь светского лоска, она выдаст меня замуж за богатого и солидного господина. О, как я молилась о том, чтобы у меня отросли волосы, как у святой Агнессы, и скрыли мое тело от неправедных взоров!
— Я тоже не хотела идти замуж за Жерара Мерсье, — сознаюсь я, чтобы ее подбодрить. — Ведь я потому и молилась Бригитте, что в ее житие прочитала, будто ее зазывал в жены какой-то мерзкий тип, но по одному ее слову у негодяя лопнули глаза.
— Надеюсь, ты все-таки не желала Жерару такой участи, — замечает Мари довольно холодно. — Тебе следовало молиться о том, чтобы глаза лопнули у тебя! Тогда ты стала бы безобразной и он сам бы от тебя отказался. Согласно другой, более правильной легенде, Бригитта сделала именно это — выколола себе глаз!
И наверняка проделала этот трюк бестрепетно, словно доставала соринку.
Нет, такая мысль мне в голову не приходила. Я желала увечья именно Жерару, потому что ненавидела его… о, как же я его ненавидела! Детская обида накатывает волной, и у меня невольно вырывается вздох. Мари истолковывает его иначе.
— Ну вот, никогда не поздно раскаяться в жестокосердии! — лучится улыбкой она и, встряхивая четками, предлагает: — А теперь помолимся за мамину душу в чистилище.
— Разве тетя Иветт в чистилище? Не в раю? — переспрашиваю я.
— Вряд ли. Всё, на что можем рассчитывать мы, грешники, это чистилище. — Мари смиренно складывает восковые ладошки. — Лишь пред теми, кто познал истинное страдание, настежь распахнуты врата рая.
— А ты не думаешь, что твоя мама страдала достаточно?
— Нет, — вздыхает кузина. — Маме нанесли два удара по голове. Умерла она быстро и, как заверил меня мсье Эверетт, совсем не мучалась. Так что…
Она переводит взгляд на свой алтарь и многозначительно кивает. Раскаленные решетки, разрывающие плоть щипцы, окаймленные шипами колеса… сдобные бугорки на блюде с прилипшими вишенками-сосками… выдавленные глаза святой Лючии, два лепестка на тонком стебле… Вот она, плата за блаженство.
— По-твоему, если человек настрадался перед смертью, ему прямая дорога в рай?
Этот вопрос терзает меня, терзает и не дает покоя.
— Если он был католиком, то да. И если успел открыть свое сердце Господу.
— А если при этом он был злодеем? Если был подлецом, чудовищем?
— Христос пообещал распятому разбойнику, что тот войдет в Царствие небесное. А ведь разбойник наверняка убил многих. Иначе бы его не распяли… Впрочем, страдания не ограничиваются телесными муками, — говорит кузина, задумчиво перебирая четки.
— Вот как?
— Конечно. Есть страдания и другого рода — душевные терзания, стыд, муки совести… раскаяние в содеянном.
Почудилось ли мне, что последние слова она выделила голосом?
— И твоя мама…
— Нет, эти страдания тоже были ей неведомы. Она ни дня не сожалела о том, что отняла у меня святость. Как же она может оказаться в раю?.. Флоранс, ты куда?
Коралловые бусины жгут мне пальцы, как если бы на шелковую нитку нанизали угольки. Все, больше не могу. Мой запас притворства почти иссяк, посему мне нужно срочно уединиться, чтобы вновь его пополнить.
— Прости, Мари, у меня голова закружилась. Мне бы прилечь. Я еще зайду к тебе… как-нибудь.
— Заходи, милая Флоранс! — Мари старается скрыть огорчение, но видно, что на меня у нее были иные планы. — Заходи, если захочешь помолиться. Или облегчить душу исповедью, — неожиданно предлагает она.
Это еще что такое? Всматриваюсь в нее повнимательнее, но личико Мари — личико фарфоровой куклы — вновь сияет безмятежной улыбкой. И мученики за ее спиной тоже улыбаются, все как один.
В детской я вышагиваю вдоль половицы, точно так же, как Джулиан, когда он погружен в раздумья. Выходит, у Мари тоже был повод желать мадам Ланжерон смерти. Мать лишила ее самого дорогого — мечты. Если бы на дворе стояли раннехристианские времена, когда святые расхаживали по воде, неся свою отрубленную голову под мышкой, я посчитала бы, что убийство тети — возмездие за кражу овечки из Божьего стада. Но поскольку на календаре октябрь 1870 года, я сомневаюсь, что Мари науськала на мать своего ангела-хранителя.
Хотя… мне ли в этом сомневаться? Уж не заключила ли Мари пакт, подобный моему? Что одна сестра, что другая — обе могут оказаться пособницами убийцы. А также Дезире. Или я.
С другой стороны, сейчас я обвинила бы Мари в чем угодно, потому что меня душит ярость. Словно в груди горит сера и едкий дым поднимается вверх, заставляя глаза слезиться.
Со слов Мари выходит, что братьям Мерсье уготована вечность рядом с моей милой мамушкой Норой. И с их грумом Жанно, который мухи не обидит. И с добрейшей мадам Валанкур, подхватившей лихорадку от раненых, когда работала в лазарете во время войны. На такую загробную жизнь я не согласна!
Хотя Жерар и Гийом погибли, защищая нас от дезертиров, а Гастон сложил голову на поле брани, я не готова выписать всем троим пропуск в рай. Пусть хоть в чистилище протомятся. Подумают о своем поведении век-другой. Попади они в рай сразу, превратят Царствие небесное в подобие своей плантации, где рабы боялись громко дышать, чтобы не привлечь к себе внимание.
Я же помню, что это были за люди.
Глава 11
Красивые.
Братья Мерсье были ошеломляюще красивы. Поджарые и белокожие, как юные боги. Искусный ваятель выточил их мускулистые руки с девически узкими запястьями, их груди без единого волоска, длинные стройные ноги, чтобы плясать вместе с вакханками под звуки флейты Пана. Резец прошелся по лицам, доведя пропорции до совершенства, и уделил внимание каждому локону. А потом неведомый скульптор раскрасил свое творение — глаза в карий, волосы в каштановый, не забыв добавить золотые блики, губы чуть тронул розовым, а кожу не посмел запятнать краской и оставил ее мраморно-белой.
Одинаковые.
Встречая мальчиков Мерсье, чужаки удивленно щурились. Братья-погодки были до того похожи друг на друга, что казались одним и тем же человеком, но в разном возрасте. Красота, помноженная на три. Кто устоит?
Бабушка объясняла их сходство более прозаично — вот что бывает, если кузены поколениями женятся друг на дружке. Если бы дети Робера и Эжени родились шестипалыми, это бы ее нисколько не удивило. «Хорошо, что мы твою маму со стороны взяли! — радовалась Нанетт и добавляла: — Вот и Жерару с тобой повезло. У вас здоровые дети народятся». Жаль, что сам Жерар не разделял ее мнение. Разница в пять лет высилась между нами стеной, на которую я никак не могла вскарабкаться, а Жерар сверху вниз наблюдал за моей возней.
Пока я была крохотной робкой кубышкой, он, сорванец десяти лет от роду, бросался в меня пеканами с балкона, а если я поднимала рев, недоуменно хлопал глазами. Кто, он? Да он меня пальцем не трогал! Как, в таком случае, я свалилась с пони, катаясь по дубовой аллее «Малого Тюильри»? Известное дело как. Сама упала, а других обвиняет. Это же малютка Флоранс! Она из гостиной в столовую не дойдет, чтобы не подвернуть ногу, не расквасить нос и не вываляться в пыли.
Зная мою неуклюжесть, взрослые безоговорочно верили ему, а меня отчитывали за ложь. Так я приучила себя втягивать голову в плечи и жмуриться, когда братьев Мерсье одолевало желание поиграть в солдат и пленного индейца, или в охоту на олениху, или в иную какую игру, где требовалось кого-то ловить, щипать и, связав руки за спиной, волочь в крепость.
До сих пор помню, как, подавив мятеж Ната Тёрнера[43], чья роль, естественно, досталась мне, мальчики долго и основательно обсуждали, как меня казнить. Повесить, а потом освежевать, как на самом деле поступили с мятежником, или поменять эти действия местами? От страха с меня семь потов сошло. Спасло меня внезапное появления мадам Эжени, пришедшей за розами в оранжерею, где я была привязана к пальме. Странно, что она вообще заметила мое присутствие. Помимо редких сортов роз, ее на этом свете мало что интересовало.
Когда Жерару исполнилось тринадцать, а потом четырнадцать, а потом пятнадцать и его вместе с братьями отселили в garonnire, ему со мной стало не так уж весело. Можно сказать, что моим обществом он начал тяготиться. Сами посудите — молодой повеса, уже с определенного рода опытом, а под ногами путается пигалица в длинных панталончиках.
И была бы я хоть красивой, а так ведь чернавка чернавкой, смотреть тошно. С такой смуглотой мне бы за стулом стоять да мух отгонять, а не сидеть подле него за обедом, принимая знаки внимания, кои он как жених уже обязан был мне оказывать. Однако свою неприязнь ко мне, обострявшуюся год от года, мальчики Мерсье тоже превратили в игру.
Веселые.
Каждый, кто их знал, отмечал присущую им бесшабашность.
Жестокие.
Но об этом вы и сами, наверное, догадались.
Из множества случаев, когда братьям Мерсье выпадала возможность проявить изобретательность, больше всего мне запомнился один. Потому, наверное, что тот июньский день 1857 года выдался особенно жарким, и даже тенистые персиковые деревья, под которыми нам накрыли стол, едва защищали от палящих солнечных лучей. А может, потому, что в кои-то веки ничто не предвещало беды.
В «Малый Тюильри» я приехала с Аделиной Валанкур и ее славной матушкой. Мерсье недолюбливали мадам Валанкур за попустительство рабам, но вынуждены были считаться с ее мнением, поскольку она играла на органе в церкви, что делало ее лицом значительным по меркам нашего захолустья. При мадам Валанкур братья держали себя в руках. А моя ровесница Аделина — голубоглазая, белокурая и, не в пример мне, заправская кокетка — флиртовала с ними напропалую, хотя, как признавалась мне на ушко, из всей троицы присмотрела себе Гийома. Если рядом вертелась Аделина, братья напрочь забывали про мое существование.
Вот мы с Аделиной пьем кофе, отставив мизинцы на девяносто градусов, как истинные леди, а братья Мерсье раскачиваются на стульях, томясь от полуденного безделья, как вдруг нашу идиллию нарушает своим трубным гласом Аврора, мамушка Аделины, а по совместительству домашний тиран.
— Мисса Аделина! — Похожая на глыбу гранита, Аврора с крыльца высматривает свою жертву. — А извольте-ка к матушке пожаловать! Мадам желает, чтоб вы сыграли ту крантату, которую вы аж третий месяц разучиваете, а все никак домучить не можете!
— Кантату, Аврора, кантату, — шипит Аделина, и мальчишки прыскают от смеха.
Хочу последовать за ней, но Жерар давит мне на плечо, удерживая на месте.
— Погоди, милая Флоранс. Ты же не оставишь нас совсем без дамского общества?
— Или тебе с нами невесело? — вздергивает бровь Гийом.
— Нет, отчего же, — мямлю я. — Мне с вами в-весело.
— Ну, тогда другое дело. Хотя, как я погляжу, чашка твоя пуста. Так вот почему ты так рвешься в дом. Тебе хочется пить!
— Захватила бы свою квартероночку, так она б сбегала и все принесла, — похохатывает Гастон.
Я пытаюсь сглотнуть, но в горле пересохло. Надо же, они ее запомнили! Всего лишь раз брала с собой Дезире, но впечатлений нам тогда хватило обеим и надолго. Братья так щипались, что она подвывала от страха, а потом Гастон забросил на апельсиновое дерево ее тиньон, а Гийом намотал на кулак ее волосы и спросил, очем я их продаю. Такие прямые и густые, как раз сгодятся на браслет для его матери. Пока мальчишки забавлялись, Жерар стоял в стороне, поигрывая хлыстиком. Лишь когда они натешились вволю, он спросил, будет ли Дезире частью моего приданого. Нет, сюда я ее больше не привезу! В этот вертеп.
— Да ну, братец, будто у нас не найдется кому принести Флоранс напиток. Чай или кофе? — обращается ко мне Жерар. — Или, может, бурбон?
— Мне бы лимонаду, — застенчиво прошу я. — Уж очень жарко.
— Как угодно прекрасной даме. Эй, Самбо! — И он призывно свистит.
Так Жерар подзывает всех рабов, вне зависимости от того, каким именем их крестили, поэтому выходящий из конюшни негр опускает на землю седло и ковыляет к нам. Хотя зовут его не Самбо, а Жанно. Так Жерар назвал его однажды. После того как пнул по лицу, чуть подавшись вперед в седле. В тот раз молодому хозяину не понравилось, что на уздечку налипла солома.
— А ну-ка принеси моей невесте лимонаду, да поживей.
— Жанно сейчас окликнет кого-нибудь из горничных, Анетту или Сесиль…
— Ты что, оглох и не услышал мой приказ, дружище? — склонив голову набок, уточняет Жерар. — Или ты просто у нас такой тупой? Ммм? Какой вариант из двух?
Грум таращится на него, поворачивая в руках соломенную шляпу. Сейчас он и правда сошел бы за дурачка — неповоротливый детина с отвисшей нижней губой.
— Я сказал — поди и лимонаду принеси. Для нашей гостьи. И поживее.
— Заодно и нам захвати лимонаду, — вставляет Гастон. — Понял, черномазый?
— Нет, мне, чур, виски, — говорит Жерар.
— И мне тогда.
— Давай пошевеливайся. Одна нога здесь, другая там, — приказывает Жерар, а братья заливаются смехом от одно лишь упоминания ноги.
Понятно, что как раз нога и мешает Жанно двигаться с требуемой скоростью. Он косолап. Из левой штанины торчит не ступня, а какой-то кривой обрубок со съехавшими на сторону пальцами. Из-за увечья он переваливается на ходу. До меня сразу доходит весь ужас сложившейся ситуации. И ту четверть часа, пока мы дожидаемся напитков, я молюсь Богу, всем святым и Им заодно, чтобы как-нибудь сообща они помогли Жанно дотащить растреклятый поднос.
Но как уверила меня Роза, Бог ко мне равнодушен, а просто так, без подарка, Они даже не почешутся. Я еще раз убеждаюсь в истинности всех ее постулатов, когда за живой изгородью появляется грум. На каждом шагу из бокалов выплескивается несколько капель. А ведь поднос придется поставить на шаткий плетеный столик…
Как Жанно выполнит этот требующий сноровки трюк, мне так и не доводится узнать. Гастон вытягивает ногу, почти незаметную в высокой траве, и слуга запинается, роняя свою ношу. Описав в воздухе дерганую дугу, бокалы летят под стол, но успевают обильно оросить мое платье. От неожиданности я вскрикиваю. По небесно-голубому шелку расплываются сразу несколько желтых пятен.
— Ну вот, посмотри, что ты натворил, — почти ласково укоряет Жерар, пока грум барахтается в траве. — Ай-яй-яй. Испортил новое шелковое платье мадемуазель Флоранс.
— А оно небось стоит дороже, чем ты, хромая каналья, — добавляет Гийом, эхо своего брата.
— И что же наша гостья про нас подумает? Ммм? А вот я тебе скажу, что она подумает, — не давая мне рта открыть, продолжает Жерар. — Она подумает, что нам прислуживают остолопы, которые даже простейший приказ исполнить не могут. Ты хоть понимаешь, как ты опорочил репутацию нашего дома? Чего доброго, мадемуазель Флоранс расхочет выходить за меня замуж, раз я даже слуг не в состоянии вышколить. Сдается мне, что ты уже разрушил мое семейное счастье.
Негр так дрожит, что у него опять подкашиваются ноги, и он валится в траву.
— Нет, масса Гийом, Жанно и капли в рот не брал…
— Жаль, — качает головой Жерар. — Вполпьяна ты двигался бы ловчее.
— Уж точно не полз бы, как болотная черепаха с оторванной лапой, — со знанием дела говорит Гастон.
— Ну, будет тебе, дружище, разводить мокроту. Давай вставай. Или помочь?
Негр отшатывается от протянутой руки.
— Ну, сам так сам. Ты меня, конечно, огорчил, но мы, Мерсье, заботимся о своих людях.
Слово «люди» тоже вызывает у братьев приступ безудержного веселья.
— Обещаю, что еще до заката я угощу тебя превосходным виски. Слово джентльмена. А теперь ступай.
Грум смотрит на него затравленно, по-собачьи, и Жерар театрально вздыхает — все-то им надо на пальцах разъяснять.
— Ну, разумеется. Как обычно.
Это его «как обычно» пугает меня до спазмов в животе.
Поклонившись, Жанно ковыляет прочь. Я хочу выкрикнуть что-нибудь в его защиту — но прикусываю язык. Меня переполняет липкий страх, противный, как пробуждение на мокрой простыне. Почему-то мне кажется, что Жерар отправит меня вслед за Жанно и тоже пропишет мне «как обычно». Здесь, в «Малом Тюильри», я полностью в его власти.
Я понимаю это, и он понимает, что я понимаю. Весь мир сужается до насмешливо прищуренных карих глаз. Зрачки — две бездны, из которых наползают чудовища. Я вижу, как выгибаются шипастые спины, как хлещут воздух упругие хвосты. Они сожрут меня и косточек не оставят.
Звон колокола, извещающий о начале обеда, звучит, как хоры ангельские. При виде моего испорченного платья чистюля Аделина поджимает губы. Где я только успела извозиться? За столом она пытается позлить меня, то швыряясь хлебным мякишем, то пинаясь под столом, но ее ухищрения оставляют меня безучастной. Все, о чем я могу думать, это участь бедняги Жанно.
После обеда нас просят сыграть на пианино в четыре руки, но я путаюсь в нотах, поминутно отвлекаюсь и, по меткому замечанию Авроры, мои пальцы дрыгаются, как больные вертячкой куры — бабушка не сказала бы лучше!
Наконец, оставив разобиженную Аделину, я убегаю на задний двор и нахожу Жанно у дровяного сарая. Он стоит на коленях, подставив солнцу обнаженную спину и прижимая к груди промокшую от пота рубаху. Но ведь прошло уже два часа!
— Жанно, — трогаю его за плечо. — Жанно, вставай. Он, наверное, про тебя забыл.
Ко мне поворачивается черное лицо с налившимися кровью глазами.
— Нет, мисса Флоранс, нельзя, — тихо говорит грум. — Масса Жерар часто так делает.
— Давай я попрошу за тебя? Давай пойдем к нему вместе и я скажу, что нисколечки на тебя не сержусь! Хочешь?
Он мотает головой, разбрызгивая пот со лба.
— Не надо, мисса Флоранс. Тогда бедному Жанно вдвойне достанется.
Я топчусь рядом с ним под палящим солнцем, заламывая руки, и испытываю даже некоторое облегчение, когда вдали появляются три стройные мальчишеские фигуры. За Жераром волочится по земле длинная плеть из воловьей кожи. Мне приказано удалиться. Не хватало еще, чтобы своими ахами и охами я мешала рукотворному внушению. Но я все равно подглядываю из-за ствола кипариса, и про себя вторю каждому стону, и каждый удар оставляет прореху в моем сердце. У нас на плантации тоже наказывают рабов, но без таких причуд. А когда все окончено, я наблюдаю, как Жерар, отбросив плеть, берет у брата стакан с виски и льет рабу на окровавленную спину…
О, как я мечтаю, чтобы меня не отдавали Жерару Мерсье! Хожу по пятам за Розой, слезно умоляя сделать любовный отворот. Нянька лишь руками разводит. Никакая магия по силе своей не сравнится с тщеславием моей мамы и алчностью бабушки. Мадам Селестина не устает повторять, что именно она сосватала меня за самого завидного жениха на всю округу, пообещав мадам Эжени, что с годами я посветлею. И это единственная заслуга невестки, которую готова признать Нанетт. Еще в незапамятные времена она положила глаз на сахароварню Мерсье. Упомянутое строение стоит на стыке наших полей, и если б можно было ею бесплатно пользоваться, а не везти тростник за тридевять земель к нашей сахароварне, так была бы прямая выгода.
Вся надежда на папу. Он соседей на дух не выносит. И вот однажды, когда я, как обычно, подслушиваю у дверей гостиной, мое сердце чуть не взрывается от радости.
— …Жерар Мерсье — неподходящая партия для Флоранс, — слышится папин голос. — Я не дам благословения на их брак.
— Фу ты ну ты! — возражает Нанетт. — Дома раз в месяц появляется, а все ж нашел время сказать веское отцовское слово! Честь тебе да почет.
— Почему, Эварист? — спрашивает Селестина. — Почему ты считаешь, что Жерар не годится нашей дочери в женихи?
— Это дерзкий, развращенный юнец. Не далее как вчера, уезжая от Робера, я застал его сынка на конюшне in flagrante delicto с девчонкой-мулаткой! Как вам это нравится? Ему всего шестнадцать.
— А ты и того моложе был, когда я сцапала тебя с моей горничной. Прямо на кровати у меня резвились, охальники!
Сквозь щелку в двери мне не видна мама, но я слышу, как захлопывается молитвенник.
Отец задет за живое.
— Ну, знаете ли, maman! — негодующе выдыхает он. — Можно ли сравнивать? Манон все-таки не была мне сестрой по отцу. А у Мерсье полон дом девчонок, которых эта троица что ни вечер водит к себе в garonnire. Своих сестер! Уж простите, но мне этого не понять.
— Рыбак рыбака видит издалека. И за милю обходит, — подает голос Селестина. Кажется, это первое ее изречение, не позаимствованное из книги притч Соломоновых.
Я едва успеваю юркнуть за штору, когда из гостиной вываливается отец и, не дожидаясь камердинера, сам идет седлать Лафонтена, после чего исчезает месяца на три. А вместе с ним исчезает моя надежда…
Во время следующего визита в «Малый Тюильри», пока бабушка обсуждает с мсье Робером угрозу наводнения и то, как это может сказаться на урожае, я втихомолку покидаю гостиную. Прямо по палисаду, вдоль живой изгороди, пробираюсь к конюшне. То и дело нагибаюсь, чтобы меня не увидели братья Мерсье, которые носятся по двору, пиная мяч. Пыль стоит столбом, воздух звенит от задорных возгласов. Когда братья так увлечены игрой, их запросто можно перепутать с людьми. Но я-то знаю.
Подол кисейного платья измазан пыльцой, чулки порваны в нескольких местах, но все это мелочи. Тихо, как опоссум, прокрадываюсь на конюшню, в теплую полутьму, пропахшую навозом и душистым сеном. Лошади в стойлах всхрапывают, увидев незнакомку. Спиной ко мне стоит Жанно и сыплет в ясли овес, то и дело зачерпывая его пятерней и отправляя в рот. И прямо с набитым ртом мычит песенку, пританцовывая. Кривая ступня постукивает по соломе.
Стоит ему заслышать шорох, как его с головы до ног охватывает дрожь. Грум оборачивается — белки вытаращенных глаз сверкают, из приоткрытого рта вываливается жеваный овес. Бог знает, что Жанно успел подумать. Наверное, что масса Жерар пришел по его душу.
— Тсс, Жанно, это же я, — прикладываю палец к губам. Если братья Мерсье услышат, нам обоим не поздоровится.
— Мисса Флоранс?
Успокоившись отчасти, он быстро заглатывает овес и снимает соломенную шляпу, застывая в полупоклоне. Мне хорошо видны шрамы на его голове, словно пересохшие ручьи рассекают поросшую кустарником равнину.
— Я вот что… — мне трудно подбирать слова. — Я приношу тебе извинения, Жанно. Если бы я не попросила лимонад, тебя бы не наказали. О, зачем я его попросила?!
— Извинения? — Он ворочает на языке мудреное словцо. Применительно к себе он его еще не слышал.
— Прости меня, ладно? Я же не знала… что тебя высекут… из-за этого дурацкого лимона-а-да…
Сажусь прямо на тюк сена и реву, размазывая слезы по щекам, но никакими слезами не вымыть из памяти сцену наказания.
Передо мной высится Жанно, загораживая пыльный свет.
— Мисса Флоранс? Молодой миссе не надо плакать. Жанно сам виноват, что не угодил массе Жерару. Сам виноват.
Всхлипывая, поднимаю голову. Раньше меня забавляло, что некоторые рабы говорят о себе в третьем лице, а теперь понимаю, что на их месте и я бы так заговорила. Я — это не я, а кто-то еще, и это тело на самом деле не мое тело. И боль не моя.
— Мисса Флоранс так добра к бедному Жанно, — говорит грум и улыбается, растягивая толстые губы.
На месте двух передних зубов темнеют провалы. Там, куда пришелся удар шпорой. И я вспоминаю про цель своего визита.
— Мисса Флоранс не просто добра к Жанно. Мисса Флоранс сделает Жанно гри-гри.
— Чиво? — удивляется грум, но я уже вынимаю из карманов и раскладываю на соломе принесенные из дома предметы.
— Значит, что мы тут имеем? — деловито говорю я, подражая Розе. Главное — произвести должный эффект. — Для начала нам понадобится мешочек из красной фланели. Ведь красный — цвет крови и огня, красный любую магию усиливает во стократ. Далее мы кладем туда высушенный корень ипомеи ялапской. В народе его зовут корнем Джона-завоевателя. Слышал про него?
Грум звучно скребет макушку.
— Энто тот, что ли, Джон, что женихался с дьяволовой дочкой, а потом они на пару покрали у папани лошадей да и были таковы?
— Он самый. Корень Джона-завоевателя оберегает от порки, — говорю я с уверенностью — конечно, напускной. — А если тебя все же будут бить, ты не почувствуешь боль. Понятно? Больше никакой боли. А ну-ка повтори за мной!
— Больше никакой боли, — повторяет грум. — Если миссе Флоранс так угодно.
Мой авторитет — авторитет белого человека — неоспорим и непререкаем. Будь Жанно дряхлым стариком, я и то могла бы окликнуть его «Эй, малец!», услышав в ответ подобострастное «Чего желает мисса?». Но в покорности лежит спасение, ведь гри-гри защищает лишь тех, кто в него верит. Очень сильно верит.
— Вот именно. Никакой боли. Так, а тут у нас что? Ага, корень воробейника. На удачу. — Тоже заталкиваю его в мешочек. — Щепотка соли — ну, вреда от нее точно не будет. Соль очищает и… и все такое. И, наконец, мускатный орех — чтобы везло с деньгами! Теперь перевязываем мешочек красной ниткой и поливаем ромом. Не забывай почаще смачивать его ромом, гри-гри это дело любит.
Щедро лью ром из папиной фляжки. Рома у нас хоть отбавляй, только что свиней им не поим.
— И получился защитный талисман.
— А как часто? — спрашивает Жанно.
— Что?
— Ну, энто… как часто смачивать гри-гри ромом? Ну, энто, раз в неделю, два?
Я надолго задумываюсь.
— Да, наверное, раза в неделю должно хватить.
— Ага, — тянет негр, — ага.
И вдруг бухается передо мной на колени.
— Мисса Флоранс — великая колдунья, — зачарованно бормочет он. — Ух! Великая сила у миссы Флоранс!
— Нет, Жанно, какая из меня колдунья? И силы у меня вовсе нет никакой. Потому что будь у меня великая сила, Жанно, я бы знаешь что сделала? Знаешь что? — Он внимает мне, приоткрыв рот, и я уже не могу остановиться. — Я убила бы Жерара Мерсье. Но сначала я бы вырвала его поганые глаза.
Глава 12
Вам когда-нибудь доводилось видеть, как кормится аллигатор? Мне вот доводилось. Тихо скользя меж водорослей, чудище подплывает к пришедшей на водопой овце. Мощный щелчок челюстей — и передняя нога овечки уже в капкане. А затем начинается то, что в наших краях именуют «круговертью смерти». Разбрызгивая по сторонам воду, аллигатор вертится вокруг своей оси, выпячивая из воды то шершавую спину, то омерзительно белое брюхо, покуда не утопит свою добычу или же она не истечет кровью.
Как раз смертельное вращение приходит мне на ум, когда Олимпия спускается к ужину с бутылочкой коричневого стекла и, смерив нас хищным взглядом, ставит ее у края тарелки.
Подначки оставляют Дезире равнодушной. Сестра сидит как пришибленная. И тушеную с устрицами телятину, и даже гарнир — пюре из репы — она пережевывает так тщательно, словно в тарелку насыпали мокрых опилок. Пытается скрыть дрожание губ, но удается ей плохо. Неподвижный взгляд сфокусирован на мокрой кромке бокала, там, где вспыхивают блики от газовой лампы над столом, и лишь иногда Ди мигает, загоняя слезы обратно в глаза. Взмахи ресниц тяжелые, редкие. Почему-то мне вспоминается движение опахала в нашей столовой — бесполезной штуковины, от которой никогда не дождешься прохлады.
Лишь после десерта, коим является водянистый манный пудинг, похожий на опасливо подобравшуюся медузу, Олимпия откупоривает бутылочку. Над столом плывет резкий спиртовой запах, заглушая аромат ванили. Мари двумя пальцами зажимает носик, но Олимпия жмурится так блаженно, словно сунула голову в розовый куст.
— Кстати, Флоранс, помнишь наш разгвор третьего дня? — обращается она ко мне. — Ты жаловалась на плохой сон. Кошмары тебя одолевают и всякое такое. Вспомнила?
Ну и врунья! Стала бы я ей рассказывать про свои кошмары!
— Лауданум — вот что тебе поможет! — коммивояжерским тоном изрекает Олимпия. — Пять капель — и будешь спать без задних ног, как сеттер после охоты. Дай-ка сюда свой чай.
— Фу! — морщится Мари. — Не пей, Флоранс, ни за что не пей! И кто только выдумал эту гадостную отраву?
— Зря ты так. Лауданум — гениальнейшее изобретение человечества. Наравне со сливным бачком.
— Фу, фу, Олимпия, не за столом же!
— Как скажешь, сестрица.
Видя, что добровольно я с напитком не расстанусь, старшая мадемуазель подходит ко мне сзади и наклоняется над стулом, не давая мне встать. Одна за другой в чашку падают тяжелые, тугие, красновато-бурые капли и, не растворяясь, оседают на дне. От темной жижи тянутся вверх зыбкие красные нити, и не знай я, что это такое на самом деле, решила бы, будто в мою опустошил содержимое своих легких чахоточный больной.
— Поставь на тумбочку у кровати и выпей в один присест перед сном. Тогда хоть из пушки пали, дрыхнуть будешь как убитая. Обещаю.
Разглядываю получившееся пойло и даю себе все мыслимые зароки, что не пригублю ни глотка. Все в окошко выплесну! Добавив для верности еще пару капель, кузина вновь наклоняется ко мне. Ее ладонь, холодная и волглая, как брюхо рептилии, покоится на моей руке, но шепот обжигает ухо:
— Там нет опия, просто спирт с патокой. Притворись спящей и погляди, что будет, — шепчет Олимпия так тихо, что сначала мне кажется, будто шепот сам возникает в моей голове. Или же это шелест крыльев той бабочки, что поселилась у меня в животе и время от времени дает о себе знать.
Но когда кузина возвращается на место и тянется к сотейнику, чтобы утопить пудинг в ванильном соусе, ее глаза находят меня. Щека дергается так, словно Олимпия прикусила ее изнутри. Это, видимо, надо расценивать как попытку подмигнуть. Дескать, мы с ней заговорщицы, а посему должны действовать сообща. Тут-то я и вспоминаю про «смертельную круговерть».
Дело в том, что еще в полдень к нам примчался мальчишка-посыльный. Дважды стукнул дверным молоточком, как заправский почтальон. При себе у вихрастого мальчугана имелась корреспонденция для мисс Дезире Фариваль. Имя отправителя он отказался называть наотрез, чем с головой выдал мсье Марселя Дежардена. Прочитав послание, Дезире проворно убрала его в карман и, обойдя гонца чаевыми, бросилась наверх. Обычно ее туалет, даже траурный, занимает не менее получаса, причем львиная доля времени уходит на подкручивание завитков, обрамляющих ее высокий, безмятежно-чистый лоб. На этот раз минутная стрелка едва успела дернуться трижды, прежде чем Ди примчалась в фойе, на ходу заправляя локоны под бесформенную шляпку из черной соломки. А у дверей ее поджидала родня в полном составе.
— Куда-то собралась, кузина Дезире? — осведомилась Олимпия.
Дезире из тех людей, что врут не краснея, но волнение не позволило ей совладать с чувствами и выдумать сообразную случаю ложь. Она смешалась, опустила глаза и прошептала:
— Хочу проветриться. Погулять по Гайд-парку.
— Пользительно, — одобрила кузина. — Только реши, кто пойдет с тобой в качестве компаньонки — я, Мари или Флоранс. Мы все рады будем тебе услужить и уберечь честь твою девичью.
Промямлив, что передумала, Дезире ретировалась в детскую. Долго корпела над бумагой, а затем еще дольше смывала с пальцев чернильные пятна. Зачем ее звал на встречу Марсель, да еще так внезапно? И каков был ее ответ? Любопытство донимало меня до самого ужина, и, видимо, не меня одну. Всплеск и влажный хруст костей, вращение и брызги воды вперемешку с кровью. Раз вцепившись в добычу, Олимпия никогда уже не разожмет челюсти. Но что делать мне, скажите на милость?
Черное полотнище на доске колышется в такт моим шагам. Шпионить за родной сестрой, да еще по наущению Олимпии? Человека, который, вполне вероятно, убил родную мать? Это же подло. Подозрения бьются у меня в голове, бьются, точно мухи в стеклянной мухоловке, пока не вязнут в ядовитом сиропе, коим стал мой рассудок. На мухоловки накидывают льняные салфетки, дабы не смущать едоков видом агонизирующих насекомых. Где бы мне взять такую завесу? Чем отгородиться от гадких мыслишек? Дезире ни разу не пыталась заговорить со мной о ночи убийства. Или о тете Иветт. Единственная из всех.
Поначалу мне казалось, будто она обходит эту тему из деликатности, не желая капать уксусом в мою открытую рану. А что, если Ди тоже есть о чем умалчивать? О том, например, где она находилась в ту самую ночь. Не на это ли намекала Олимпия? Как мило мы с Дезире болтали перед тем, как дорога притворства завела меня в самые дебри сна! Но теперь мне чудится, что в ее улыбке таилась фальшь. Уж слишком пылко Ди поддакивала каждому слову, чересчур сильно дергала за любую нить беседы. Неспроста, ох неспроста.
А ведь Дезире скорее удавится, чем начнет вспоминать детство. Это я хоть что-то хорошее повидала, а для нее детство состояло из бесконечной череды шлепков и щипков, затрещин и пощечин, не говоря уже об изматывающих нотациях мадам Селестины. А пуще других лютовала Нора. Подле дочери ее кротость улетучивалась моментально, и на Дезире сыпались колотушки. Так уж повелось на плантациях, что родители детям спуску не давали, а стоило поблизости оказаться белому, как упреки взвивались гневными воплями, а сила ударов удваивалась. Лучше самому отлупить свое чадо, чем за тебя это сделает надсмотрщик. Этакий негласный закон, жестокая игра, правила которой знали все от мала до велика. Но, думаю, Дезире все равно было обидно. Так с какой же стати ей вздыхать над ушедшими годами в унисон со мной, неженкой? Весь тогдашний разговор, все, что я приняла за чистую монету, было лукавством. Наконец-то я поняла.
Когда сестра возвращается в детскую, свет газовых рожков приглушен, а я полулежу в кресле, уронив голову на плечо. На полу валяется книга, выпавшая из моих безвольных пальцев. На тумбочке пустая чашка, от которой разит спиртом. За дальнейшими действиями Ди я наблюдаю из-под полуопущенных ресниц, не забывая сонно посапывать. Поводив рукой над моим лицом и убедившись, что сплю я, как упомянутый сеттер, Дезире довольно улыбается. Печаль как рукой сняло.
Вполголоса напевая оффенбаховскую арию, Ди кружится по комнате. Черное бомбазиновое платье ничуть не стесняет ее движений. Она такая легкая, почти невесомая, как пленочка золы, что сорвалась с каминной решетки и, подхваченная горячим воздухом, летит вверх, опасно отплясывая над пламенем… Танец прерывается вполоборота. Взглянув на каминные часы, Ди спохватывается и по-негритянски хлопает себя по бедрам. Приотворяет дверь, вслушиваясь в звуки дома, но все его обитатели отошли на покой. С воцарением Олимпии ложатся здесь рано, дабы не транжирить дорогой нынче газ.
Тогда Дезире хватает с вешалки плащ — мой плащ, он потеплее будет, — кутается и выскальзывает из комнаты. Я привстаю, готовая идти за ней по пятам, но вовремя успеваю рухнуть в кресло и принять расслабленную позу. Снова скрипит паркет. Что же она позабыла? Ступая чуть слышно, как лиса в курятнике, Дезире подходит к каминной полке и тянется к шкатулке, в которой сложены запрещенные в период траура побрякушки. Не сказать, что это пещера Али-Бабы. Несколько цепочек и эмалевых брошек, браслеты в виде змеек из бирюзы и массивный золотой медальон — подарок Марселя. Судя по вмятинкам на крышке, медальон был приобретен в ломбарде, из вторых рук. Дезире деловито рассовывает вещицы по карманам.
Опустошив шкатулку, подходит ко мне. По движению воздуха я чувствую, что она тянет руку к моей груди. Неужели хочет отколоть рубиновую брошь? Никогда бы не подумала, что сестра способна на воровство.
Но судя по всему, я еще многого о ней не знаю. Или, может статься, не знаю о ней вообще ничего. Но Дезире, едва касаясь, гладит меня по плечу, а затем целует воздух в дюйме над моим лбом.
— Orevwa, mo ch s, — шепчет она спокойно и ласково. — Mci pou tout, Flo, mci pou tout[44].
Мои ресницы трепещут от ее дыхания, и я едва не открываю глаза. Так вот в чем дело. Она уходит к Марселю. Уходит навсегда.
Когда за ней закрывается дверь, я выжидаю несколько секунд, переводя дыхание. Сердце бьется так гулко, что его, наверное, слышно в Букингемском дворце. Окна детской выходят на Тэлбот-стрит, и, чуть приоткрыв штору, я наблюдаю, как Дезире выскальзывает на тротуар. Удушливый туман, прозванный «лондонским завсегдатаем», струится по улице, подобно мутной желтоватой реке. Покрутив головой, Дезире идет против течения, на запад. А на противоположной стороне улицы мелькает тень, в которой едва можно различить очертания мужской фигуры. Вот и он, Марсель Дежарден собственной персоной. Небось с полудня тут околачивался, поджидал Ди, чтобы умчать ее неведомо куда. Но в одном мсье Дежарден просчитался. Так просто я сестру не отпущу.