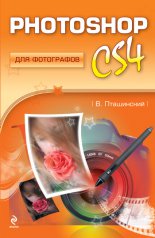Невеста Субботы Коути Екатерина
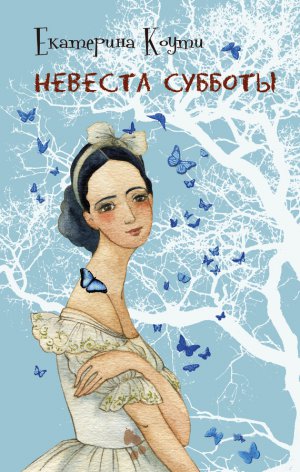
Они замирают.
— …сестра! — хлещу их наотмашь и, сразу струхнув, пускаюсь наутек.
Ох, какая меня ждет выволочка! Но мне все нипочем. Я должна вызволить Ди, и я ее спасу. Даю клятву и беру в свидетели Эрзули любимую и любящую, и мудрого змея Дамбаллу, и близнецов Марасса, что с детской жестокостью мстят врагам. Ведь я — мамбо! Я — их жрица!
Хотя на самом деле никакая я не мамбо и заслуги мои на жреческом поприще весьма скромны. До сей поры служение мое ограничивалось тем, что я помогала Розе смешивать снадобья и подбирать правильные ингредиенты для гри-гри[38]. И еще стоять на стреме, когда она входит в хижины рабов, чтобы лечить захворавших, пророчествовать и делать привороты. Если она еще бьется на полу в трансе, а по улице вышагивает мсье Жак, я подлетаю к нему, висну у него на руке и болтаю, пока он не забывает, зачем вообще сюда пожаловал. За это время Роза успевает прийти в себя, а рабы — замести узоры, нарисованные кукурузной мукой на полу. И затушить свечи. И разобрать алтарь. И сунуть под кровать окровавленную тушку петуха.
Невзирая на мои просьбы, Роза отказывается меня инициировать. Говорит, я слишком мала, чтобы быть оседланной. Будто я не видела, что Они подчас творят с своими мамбо. Взять хотя бы тот раз, когда Дамбалла загнал ее на дуб и, очнувшись, она поняла, что обвилась вокруг ветви в десяти футах над землей… Общаться с Ними напрямую мне еще рановато.
К счастью, в друзьях у меня есть настоящая мамбо. Это Роза. Именно к ней я бегу со всех ног.
Роза дожидается меня в детской, сидя на своем любимом плетеном стуле. У ног ее стоит корзина с требующим штопки бельем. От няни разит ромом, но сама она ни в одном глазу — видать, пыталась напоить допьяна Нору, чтобы облегчить той разлуку с дочерью. Ничего не вышло. Нора по-прежнему подвывает на задней веранде — тихонько, чтобы не навлечь гнев хозяев и чтобы ей не вторила Дезире.
— Останови его, няня! — кричу с порога. — Наложи на него заклятье-вангу! Пусть он тотчас же уйдет и оставит мне Дезире!
La wangateuse — так за глаза называют ее рабы. Колдунья, которой подвластны и приворотные зелья, и заклятья-ванги, налагаемые на врагов. Хотя не припомню, чтобы она хоть раз кого-то проклинала.
— Я не могу, — отводит взгляд Роза.
— Почему?!
— Не могу, и все. Если б это было так просто! О, тогда аукционы пустовали бы, и матерей не разлучали бы с детьми. Наши заклятья действуют постепенно, не нарушая равновесия, как и все в природе. Опуская в лунку побег тростника, ты же не рассчитываешь, что через минуту будешь есть ложками патоку? На мироздание можно влиять — словами, делами. Но не надейся получить желаемое, сказав пару строк в рифму и поводив руками в воздухе.
— Но так же… так же несправедливо!
— Господи, Флёр, ты как вчера родилась! — в сердцах восклицает няня. — Посмотри вокруг, девочка! Где ты видишь справедливость?
Вглядываясь в лицо, ставшее таким привычным за пять лет, я как будто вижу его впервые. Клетчатый тиньон, за отсутствие которого бабушка надавала бы ей оплеух. Стянутая от ожогов щека. Морщины на нестаром еще лице. А много миль и лет назад — запах кофе, запах похоти и смерти…
…На улице бьется в путах моя единокровная сестра…
…Сама еще того не зная, я загадываю первое желание…
— Тогда просто задержи его, — говорю я, тоже опуская глаза. — Я быстренько.
— Куда ты собралась?
— К Мерсье. Попрошу Жерара перекупить Ди, а уж потом он уступит ее папе.
— Не надо, Флёретт, — тихо просит Роза. — Из «Малого Тюильри» Дезире уже не вернется… прежней.
«Нетронутой», — читаю я в ее глазах. Еще одна причина поторапливаться!
— Все лучше, чем если работорговец ее заберет. Задержи его! Поняла, девушка? Это приказ!
Что-то между нами вдруг натягивается — и лопается со звоном.
— Воля ваша, мамзель. — Роза встает с кресла и низко кланяется мне, свой ученице! — Как прикажете, так и оно будет.
Притаившись за деревянной колонной, я наблюдаю, как она подходит к работорговцу и, хлопая себя по бедрам, добродушно тараторит по-английски:
— Мисса Флора передает массе, что погорячилась и прощенья просит. Уж такая наша мисса буйная головушка, вся в бабушку! — Губы растянуты в угодливой улыбке, насколько позволяет шрам. — Вы уж не откажите, масса, откушайте у нас. А коль массе угодно, так старая Роза приготовит джулеп. С мятой, с бурбончиком! В погребе у нас кусок льда имеется, на пароходе с Севера привезли! Вмиг масса все обиды позабудет, уж не будет сердиться на нашу молодую миссу.
А я стремглав бегу в дом, скользя по паркету, и распахиваю дверь в папину спальню. Сюда меня пускают редко, хотя я обожаю разглядывать охотничьи ружья на стенах и две перекрещенные сабли над камином. Если папа приподнимает меня, то с ужасом и восторгом я провожу пальцем по острию. Сталь затупилась, ведь сабли эти отнял у английских офицеров еще мой прадед в 1815 году![39] Но сейчас мне не до сабель. В прошлый раз папа забыл дома свой кисет. Хороший кисет, памятный. Осенью, когда забивали свиней, я попросила Лизон выдубить для меня свиной пузырь, который затем был помещен в шелковый чехол. Получился настоящий кисет, не хуже тех, что продают в Новом Орлеане. Папа остался весьма доволен подарком и набивал его своим любимым табаком марки «perique».
Кисет лежит на столике для умывания, между несессером и флаконом «Овощной амброзии Ринга», которой папа тщательно промывает свои густые черные волосы. О, счастье — кисет полон табака! Торопливо сую его в карман, не забывая про спички, и мчусь в детскую, к плетеному сундучку с одеждой. Шелка и кисея летят по сторонам, пока я добираюсь до самого дна, где припрятана разная снедь — фляжка с ромом, мешочки с травами, коренья Джона-завоевателя, жестяные бонбоньерки. Набиваю карманы, а глаза мечутся по комнате, высматривая, что бы еще взять. Кукурузную муку? Да, под кроватью стоит кубышка, всегда полная до краев. Свечи? Вывинчиваю их из чугунных спиралей, что служат нам подсвечниками.
Что-нибудь еще? Знать бы наверняка!
Ритуал придется проводить вслепую и наугад, ведь няня никогда не вызывала его в моем присутствии. Говорила, что опасно с ним связываться, но при этом добавляла, что из всех помощников он самый верный, никогда не бросит в беде. А мне только того и надо — чтобы нашелся хоть кто-нибудь, кто меня не подведет.
Нагруженная припасами, я не могу двигаться с прежней прытью, но довольно споро выхожу из дома через заднее крыльцо. Норы уже нет — то ли отплакала свое, то ли бабушка погнала ее работать. Придерживая полные карманы, я бегу прочь из дома. Негритенок, что несет караул у ворот, чуть не давится орехами, когда я налетаю на него и сама толкаю скрипучее дерево, а потом припускаю по дороге в сторону усадьбы Мерсье.
Так, по крайней мере, у меня будет алиби.
На самом деле мне нужен не «Малый Тюильри», а перекресток дорог. Оглядываюсь — ни одной живой души. Мало кто отважится путешествовать в полуденный зной. Дорожная пыль обжигает ноги, как белая зола. Такой жар исходит от земли, что, когда я опускаюсь на колени, у меня пощипывает лицо, а в носу становится сухо, как в пустыне. Ничего, потерплю, если для дела.
Желтоватые крупицы едва заметны на раскаленной добела земле, но я продолжаю сыпать муку, щепоть за щепотью. Рисую старательно, на совесть. Вот алтарь, на нем — крест, исчерченный множеством мелких крестовин. По обе стороны перекладин — по гробу. Пусть солнце припекает мне макушку, но рука у меня не дрогнет. В рисовании я поднаторела за столько-то лет. Даже Роза, придирчивая по части ритуалов, вынуждена признать, что веве[40] у меня получаются даже лучше, чем ее собственные. Линии безупречно прямые, проработка деталей безупречная, ни одной мелочи не упущено. К такому веве духи слетятся, как осы на патоку. А ведь для того и нужен рисунок, чтобы вызвать Их, дать им понять, что здесь Их ждут с распростертыми объятиями. Веве — как свеча на окне, указующая путь заблудшему страннику.
У каждого из Них веве свой. Тот, над которым я тружусь сейчас, Роза тоже мне показывала. Даже позволила самой его начертить, но сразу размазывала по полу муку — как бы чего не вышло. Вздрогнув, я оглядываюсь по сторонам. Уж не подует ли бриз с реки и не разнесет ли по дороге мое творение? Нет, ни ветерка. Реку разморило на солнышке, буровато-зеленая вода застоялась в берегах.
Узоры смутно желтеют на дороге, крест и два гроба. Полюбоваться своей работой мне недостает времени — я тащу на перекресток трухлявую корягу. В трещины, из которых струйками растекаются муравья, я прилаживаю свечи. Самодельный алтарь обсыпаю кофе и табаком, взбрызгиваю ромом. Новые запахи кружат мне голову — пережженный кофе, фруктовые ноты и перчинка в табаке, а поверх этого плывет алкогольное марево, погружая меня в сладкую пьяную одурь.
Снова зарываюсь коленями в мягкий пепел дороги, зажмуриваюсь, как всегда, когда страшно, и называю его по имени. И готовлюсь ждать. А заодно, если начистоту, готовлюсь разочароваться. Меня давно гложет червячок сомнения. Африканской крови во мне кот наплакал, а вот белой, европейской, не в пример больше. Чем старше я становлюсь, тем сильнее ее зов. Который год белая кровь нашептывает мне, что не следует верить в нянькины байки, ведь в реальности…
Но приходит он быстро.
Недаром же его именуют Святым Экспедитом. «Лучше сегодня, чем завтра» — вот его девиз. И призвать его так легко! Легче всего на свете.
Миг назад тень испуганно жалась к моим ногам, но вот она вытягивается, скользит по веве, приобретает совсем иные очертания. Я вздрагиваю, но тень уже не повинуется моим движениям. Теперь она принадлежит тому, кто стоит за моей спиной — высокому мужчине в цилиндре. Отставленной в сторону левой рукой он опирается на трость, а его правую руку я не вижу.
Оцепенев от страха, я застываю, как сурок, над которым кружит ястреб, понимая, что бежать мне некуда. От него никуда не убежишь. Лишь чуть-чуть скашиваю глаза, когда моего плеча касаются его пальцы — белые кости без клочка плоти, пальцы скелета, пальцы Смерти…
— Так вот каким ты меня видишь, Флоранс Фариваль, — смеется он.
Смех у него низкий, грудной, а голос хриплый и немного гнусавый.
— Не рыцарем на бледном коне и не дамой с окровавленными губами, как принято в нынешний век, а негром, от которого несет перегаром и потом, одноруким рабом-убийцей, могильщиком, без чьего спросу никто не смеет отойти в мир иной. Ты видишь меня Бароном Субботой — le Baron Samedi!
— И ты пришел на мой зов?
— Как я мог не прийти, девочка? Ведь я всегда рядом, всегда в двух шагах. В двух неосторожных шагах.
— Значит, ты мне поможешь! Пожалуйста! — Я складываю руки на груди. — Сделай так, чтобы кентуккиец не забирал мою сестру! Пожалуйста! Иначе я больше никогда ее не увижу, я же знаю!
Стоит Дезире выехать за ворота, и она пропала, пропала навсегда. Одно из моих первых детских воспоминаний — то, как папа крупно взлез в долги после Марди Гра, и бабушке срочно понадобились наличные, и она продала заезжему торговцу несколько рабов, а в их числе смазливого мальчонку, который бегал по двору. Просто бегал там и попался ей на глаза. Мальчика поставили на весы, на каких взвешивали свиней по осени, и пересчитали его стоимость в фунтах. Мать валялась у Нанетт в ногах, и та, смягчившись, пообещала выкупить мальчугана, как только деньги заведутся. Но с тех пор его никто не видел.
И Ди никто больше не увидит. Кроме меня ее защитить некому.
— Шшш, не плачь, девочка… — И снова мертвые пальцы касаются моего рукава-фонарика. — Ну, конечно, я тебе помогу. Как смогу. А смогу я сама знаешь как, — прибавляет он, усмехаясь. — Я могу дать лишь одно и лишь одно попросить взамен.
— Взамен?
— А ты как думала? — гнусавит Барон. — То, что дается даром, гроша ломаного не стоит. Но ты, я погляжу, засомневалась. Хорошо, будем считать, что мы не поняли друг друга, и пойдем каждый своей дорогой…
— Нет! — вскидываюсь я и чуть не хватаю его за костяные пальцы. — Я… я согласна… Ну, то есть… а что взамен?
Барон снова хохочет, но в его смехе слышится рокот далекой грозы.
— Я вырою могилы для всех, на кого ты укажешь. Более того, я сделаю это трижды. Три желания, Флоранс Фариваль. Как в сказке. Чтобы тебе проще было запомнить.
Чувствую себя попрошайкой, что протянула руку за медяком, а получила три золотых. Нельзя ли отдать сдачу?
— Но следующая могила, которую ты выкопаешь, будет твоей. У меня нет прялки, чтобы иначе переплести нити судеб. Все, что у меня есть, — это меч. И рублю я с плеча.
Я так пристально смотрю на его тень, что у меня глаза пересохли. Набалдашник трости выпускает три шипа, превращаясь в рукоять меча. Вот на что он опирается! Надо было сразу догадаться.
Еще не поздно все исправить, подзуживает страх. Растоптать веве, повалить трухлявый алтарь, бегом вернуться домой. Забыть полуденный морок. И выполнить наконец волю этого мира, стать такой, как все, и попрощаться с Дезире.
Нет, ни за что! Уж если приносить себя в жертву, так пусть все выйдет по-моему. Так, как хочу я. Только я и никто другой. Пусть свершится воля моя.
Меня охватывает сладкая, ни с чем не сравнимая истома. Я упиваюсь своеволием. Пью его, словно драгоценное вино, — не второпях и с оглядкой, как мне доводилось допивать бурбон из бокалов, забытых взрослыми на столе, а медленными томными глотками. Когда я закрываю глаза, чтобы вкус ярче проступил на языке, меня вновь окружают бабочки. Их крылья легонько задевают то щеку, то лоб — не бритвы, а лепестки азалий, поднятые порывом ветра, — их хоботки собирают капли пота с моих разгоряченных щек, и так я понимаю, что они, возможно, не желают мне зла. И никогда не желали.
Чтобы стать одной из них, крылатой спутницей Смерти, мне достаточно промолвить слово. Одно-единственное. Слово созревает во мне, немыслимо твердое, с острыми, зазубренными, сочащимися ядом краями, и я вся дрожу, как тетива индейского лука, готовая пустить вдаль смертоносную стрелу. Убить. Убрать с дороги.
Никто не встанет между мною и тем, что мое.
Никто не отнимет у меня Дезире.
— Руби, — говорю я.
— А ты девчонка с норовом, — одобряет Барон. — Станешь хорошей мамбо — если проживешь достаточно, чтобы вообще кем-то стать. Считай, что мы договорились, Флоранс Фариваль. Теперь проси.
— Я прошу…
От жары у меня перехватывает дыхание, но я продолжаю:
— Я прошу, чтобы моя сестра Дезире осталась на плантации! Сделай все, чтобы так оно и было.
Мои слова вызывают новые раскаты смеха.
— На первый раз сойдет. Я понял, девочка, что ты имела в виду. А мог бы притвориться, что не понимаю, и тогда ты осиротила бы себя одним неловким «все». Во второй раз выражайся яснее и уж тем более в третий. Называй имена врагов, представляй их лица. Если размахивать мечом, крепко зажмурившись, можно попасть и по своим.
Второй и третий раз? Я не готова заглянуть так далеко в будущее. Меня волнует только сейчас. Моя сестра в телеге под палящим солнцем… Да и не настолько я глупа, чтобы понапрасну разбрасываться желаниями. Зарою их в землю, пусть ржавеют. Но Барону об этом знать необязательно.
— Ты точно мне поможешь? — уточняю на всякий случай.
— Обижаешь! Мы же договорились.
Костяные пальцы сжимаются на моем плече, пронзая меня внезапной болью, а раскаленная белая пыль стеной встает перед глазами, ослепляя меня. Когда я, постанывая, поднимаюсь на карачки и тру глаза, свечи на алтаре догорели наполовину. Капли воска растеклись по бурой древесной коре, и в них, как в янтаре, застыли муравьи. А веве деловито заметает ветер, который вовсю дует с реки. На небо откуда ни возьмись набежали тучи и заслонили меня от безжалостного солнца, а то я, наверное, совсем бы спеклась. Но сколько же я провалялась в забытье?
Подцепляю пальцем рукав, но вместо отпечатка пальцев на плече вижу свою потную и не особо белую кожу. Может, все это мне пригрезилось? Простояла на солнцепеке, вот и голову напекло? Но, в таком случае, что стряслось с Дезире? Если встреча со Смертью была лишь горячечным бредом, сестра еще в беде!
Что есть сил мчусь домой, но когда вдали появляется изгородь, сердце мое сжимается от недобрых предчувствий. Куда подевался привратник-негритенок, что день-деньской раскачивается на воротах? Трудно не заметить его огромную, размером с колесо, соломенную шляпу. Но мальчишки нет на посту. Еще не дойдя до ворот, я слышу гул обеспокоенных голосов. Что случилось? Что-то с Дезире? Во внутреннем дворике толпятся рабы, и я нетерпеливо расталкиваю их, протискиваясь вперед. И замираю.
У ступеней на веранду лежит, раскинув по сторонам руки, мой недруг, работорговец из Кентукки. Налитые кровью глаза выпучены, рот перекошен, губы оттопырены так, что видны длинные желтые зубы, на усах и бороденке засохла пена. Он мертв. А над головой его, лениво взмахивая крылышками, порхает синяя бабочка.
— А что же потом?
— Ничего. Работорговца скрутили и надавали ему тумаков, а в голове у меня прояснилось почти сразу же. И день продолжался как обычно.
— Превосходно!
С нежданной пылкостью мистер Эверетт хватает меня за руки и подносит их к губам. Та покладистость, с которой я выполнила задание, приводит его в благостное расположение духа.
— Пообещайте мне, Флора, что будете работать над собой и вспоминать все последующие эпизоды. Так, постепенно разрабатывая память, вы подберетесь к ночи убийства и сумеете описать изувера.
— Спасибо за совет, — слабо улыбаюсь я.
— О, не стоит благодарностей! Ведь вы моя невеста, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить вашу репутацию. А также наказать тех, кто посмел на нее посягнуть, — с нажимом добавляет мистер Эверетт.
Глава 10
В полдень вторника Джулиан прибывает на Тэлбот-стрит за пять минут до нашего отъезда на коронерский суд. Его мшисто-зеленая визитка выглядит нарядно, даже празднично. С покойной Иветт он имел шапочное знакомство и не считает необходимым носить по ней траур. Его щёгольский вид приводит Олимпию в тихое бешенство. Чужое довольство, красота, успех, даже лишняя ложка сахара в кофе — все это вызывает у моей кузины зависть, вдвойне мучительную от того, что так плохо получается ее скрывать.
— Куда это вы запропастились на все утро? — клокочет Олимпия. — Заставить леди томиться на крыльце — это и есть ваша хваленая помощь?
— Дела задержали, — рассыпается в извинениях мой жених.
Одна из воспитанниц в Приюте Магдалины разбуянилась так, что пришлось посылать за самим попечителем, и все утро он урезонивал означенную девицу. Забота о падших отнюдь не ложе из роз. Сами понимаете, какой там контингент. И он, попечитель, готов лично приложить руку к исправлению каждой своей протеже.
Кстати о руках.
Между лимонно-желтой лайкой перчаток и батистовой манжетой мелькает полоска кожи. Кожа у Джулиана, как у всех рыжих, молочно-белая, и ссадины на таком фоне багровеют особенно ярко. А запястье мистера Эверетта выглядит так, словно над ним потрудилась собака. Хоть и мельком, я успеваю заметить продолговатые лунки с лиловой сердцевиной. Следы зубов. Должно быть, та буйная отбивалась что было сил, кусалась и брызгала слюной, когда он… приводил ее в чувство.
Коронерское расследование — пустая формальность, уверяет меня Джулиан. Суть его сводится к тому, что коронер предложит присяжным осмотреть тело, после чего устроит совещание относительно причин смерти. Собираются присяжные не в Олд-Бейли, а, как принято в таких случаях, в ближайшей к месту преступления таверне — в нашем случае это «Принцесса» на Гертфорд-роуд. Заодно можно и пообедать.
На допрос будут вызваны свидетели. Обычно их показаний хватает, чтобы выявить убийцу, после чего коронер выдает ордер на его арест.
Тут я хватаю ртом воздух так резко, что черная вуаль касается моих вмиг пересохших губ. Приходится отцеплять ее дрожащими пальцами.
— Значит, сразу из трактира меня увезут в Ньюгейт?
— Разумеется, нет, — обнадеживает Джулиан. — У нас не тот случай. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что вы невиновны, а настоящий душегуб разгуливает на свободе. Волноваться не о чем. Нужно держаться спокойно и со всей искренностью отвечать на вопросы коронера. Ведь с искренностью у вас не возникнет проблем, не так ли, Флора? — зачем-то уточняет он.
Уверяю, что честнее меня нет никого на всем белом свете.
В трактире Джулиан сразу следует в заднюю залу, где коронер знакомит присяжных с обстоятельствами дела. Я же коротаю время в обществе хозяйки. Разместившись за стойкой, она натирает оловянные кружки своим не слишком чистым фартуком и нарушает молчание лишь затем, чтобы фыркнуть в мою сторону. Мой акцент, когда я попрощалась с Джулианом, не пришелся ей по душе.
Нервно озираюсь. Чтобы не тратиться на кеб, Олимпия погнала домочадцев пешим ходом, так что добрых полчаса им придется месить башмаками слякоть. Навряд ли горничные будут в добром расположении духа, когда добредут до трактира. А ведь от их показаний зависит моя жизнь! Забывшись, ставлю локти на стойку, но тут же убираю их. Леди не пристало облокачиваться. Кроме того, стойка омерзительно липкая, припорошенная крошками пирогов. Меня передергивает. Тошнота накатывает мелкими толчками, и я прикрываю ладонью рот, делая вид, что поправляю вуальку. Если меня вывернет прямо здесь, рассохшиеся половицы не станут грязнее, но хозяйка наверняка запустит в меня кружкой.
Нужно потерпеть.
В желудке у меня шевелится плотный комочек, ерзает из стороны в сторону, пытаясь развернуться и выпростать крылья. Я даже представляю, как они показываются из-под треснувшей скорлупы — клейкие пленочки с голубоватым отливом, еще вялые, но быстро набирающие упругость и силу. Взмах, другой. По стенкам желудка пробегает дрожь, но, удивительное дело, меня перестает тошнить. Крылья ласкают меня изнутри, чувственно и так нарочито, что я замираю от сладкого ужаса.
Джулиан ошибался. Никакая эта не аура, не галлюцинации.
Это — взаправду.
И когда распахивается дверь в заднюю залу, я вхожу без страха, спокойная настолько, насколько может быть обладатель заряженного револьвера, держащий палец на спусковом крючке.
Я не убивала Иветт Ланжерон. А могла бы. Как и всех этих господ, что расселись у длинного дубового стола — и стариков в черных сюртуках, припорошенных перхотью и табачной крошкой, и вертлявых юнцов, что роняют на меня плотоядные взгляды, и щеголей с нафиксатуренными усами.
Пусть только попробуют еще раз меня раздеть!
Больше мистер Локвуд не посмеет выставить меня на позор. Сразу пожалеет. И в тюрьму я не поеду. Вместо этого я натравлю их всех друг на друга и захохочу, хватаясь за бока, пока брызги их крови будут хлестать по дубовым панелям на стенах и шипеть на углях в камине. У меня еще осталось третье желание…
— Мисс Фариваль? Не угодно ли вам присесть? — Коронер разгоняет мои кровожадные думы. Как ни странно, в его голосе звучат нотки сочувствия.
Нахожу мистера Локвуда. На нем мешковатый сюртук цвет остывшего пепла и неряшливо повязанный галстук. Мешки под глазами набрякли, как капли воска. Похоже, он бодрствовал двое суток напролет, но причина его скверного настроения кроется не в одном лишь недосыпе.
Инспектор поскрипывает на табуретке, стиснув зубы и сложив руки на груди, а при виде меня хмыкает, но не произносит не слова. Только нос морщит, словно перед ним мартышка шарманщика, от которой можно нахвататься блох. Джулиан, напротив, лучится благодушием. Стоит мне перешагнуть порог, как он встает и церемонно кланяется мне, прежде чем занять место на подоконнике, между горшками с геранью и пыльным чучелом лисы.
Он успел рассказать про воск, а также про исчезнувший архив. Вот почему присяжные не встречают меня улюлюканьем. Из убийцы родни я превратилась в несчастную жертву ограбления. И вдобавок с тонко настроенной нервной системой, для которой губительны переживания. Задавая мне вопросы, коронер доктор Ланкестер из Центрального отдела Мидлсекса то и дело оборачивается на Джулиана, запрашивая его одобрение. Не знаю, что за речь прочел мистер Эверетт, но она была блестящей. Факт налицо: со мной обращаются так, словно я уже принадлежу ему.
Мне становится немного не по себе. Когда это я успела из femme sole[41], самой себе хозяйки, превратиться в femme covert — женщину под крылом мужниной власти, сокрытую от мира и растворившуюся в своем супруге?
Потом я вспоминаю, как надо мной простиралась тень смерти, и меня пробирает дрожь. Знал бы Джулиан, что я давно уже пребываю в статусе covert de baron, только владыка у меня иной. Другой барон. Он коснулся меня и сделал меня своею.
Бабочка в желудке распускает крылья.
От уколов хоботка я вздрагиваю, и присяжный, что сидит ближе всех, представительный джентльмен с бакенбардами, похожими на платяные щетки, предлагает мне воды. Перед ним лежит свежий выпуск «Таймс», который Джулиан купил у мальчишки-газетчика прямо у входа в трактир. На развороте — новости с полей сражений. Французские войска удерживают Мец, жители осажденного Парижа запускают воздушные шарики с листовками. Несмотря на мое возбуждение, злость и настырное шевеление бабочки, я не могу не восхититься хитроумностью мистера Эверетта. Не зря его столько раз переизбирали в палату общин!
В свете недавних событий мой французский акцент бьет на жалость. Бедная Франция, разнесчастные французы. Доколе вашу землю будет топтать прусский сапог? Доколе? Хотя я ни дня не бывала на исторической родине, это не в счет. Креолы тоже достойный объект для сочувствия. Многие по сей день помнят, как подвела южан Британия, бросив их на растерзание янки, которые, между прочим, похищали людей прямо с борта английских кораблей.
Итог коронерского суда не может не утешать. Приговор однозначный: смерть произошла в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тяжелым предметом. Но кто нанес роковой удар? Сие неизвестно. Присяжные заключают, что в деле не хватает улик, и требуют от мистера Локвуда продолжить расследование. Окончательное слушание в Олд-Бейли назначено на середину ноября. Джулиан говорит, что рано радоваться, потому как убийцу еще требуется найти, но сам сияет, как начищенный соверен.
А бабочка складывает крылышки.
Похороны тети Иветт проходят в среду, совсем скромно, в кругу знакомых.
Проститься с покойной приезжают Лабуши и еще с десяток семейств, облаченных в глубокий траур, который они, вероятно, снимут послезавтра. Гостиная наполняется всхлипами и торжественными речами, довольно водянистыми, поскольку достоинства Иветт можно превозносить лишь в общих фразах — уж очень была неуживчива.
Олимпия, верная принципам матери, так раздражена, что ведет себя на грани неучтивости. Когда Марсель Дежарден, прижимая руку к сердцу, предлагает донести гроб, Олимпия бурчит, что уже уплатила верзилам из похоронной конторы. Любому желающему она подробно сообщает, во что ей обошелся гроб и бархатная накидка с кистями, сам катафалк, гнедые лошади и их плюмажи из страусиных перьев, а также услуги мальчишки-плакальщика, чья единственная обязанность — стоять на пороге, скорчив кислую мину. Бубнеж Олимпии добавляет похоронам мрачности, но не торжественной, а такой, которую встречаешь в конторе ростовщика. Положение спасают Мари и Дезире. Как два стрижа, они носятся между гостями, принимая соболезнования и предлагая взамен бисквиты и чай.
Я долго не решаюсь спуститься. С утра меня терзают страхи, какие-то совсем уж детские, что если я наклонюсь над тетей, чтобы запечатлеть на ее лбу последний поцелуй, она распахнет глаза и схватит меня за руку. Или что ее раны закровоточат, обличив меня как убийцу. Хотя я, конечно, ни при чем.
Когда, собравшись с духом, я вхожу в гостиную — новая ворона в стае, тень среди теней, — разговоры моментально стихают. Даже мсье Фурье, тот еще краснобай, вмиг теряет интерес к беседе и вперяет в меня испытующий взгляд. От выжидающего молчания мне делается жутко. Тихо подхожу к гробу, установленному на низком столе, на котором мы не так давно играли в вист. Наклоняюсь и целую воздух над тетиным лбом, стараясь не принюхиваться к запаху, исходящему от тела. Смерть заострила и без того резкие черты, глаза глубоко запали, губы поджаты скорбно и осуждающе. Ко мне вновь возвращаются сомнения. Вдруг это я, пусть даже косвенно, стала ее губительницей? Может ли забвение послужить мне оправданием?
В растерянности я оборачиваюсь, и на лицах гостей читаю то же осуждение, что застыло на лице покойницы. Все напряжены. Хватит одного возгласа «Убийца!», чтобы они кинулись на меня и тычками погнали в тюрьму. Джулиан, спохватившись, делает шаг вперед, Дезире протягивает ко мне руку, держа в другой поднос с печеньем, но Мари опережает их обоих. Черные бархатные гардины на окнах и креповые завесы на зеркалах приглушают ее голосок, но звучит он отчетливо.
— Дамы и господа! — восклицает она. — Или, лучше, братья и сестры, ибо мы едины пред ликом Божьим! Maman приютила Флоранс и Дезире Фариваль, дала им стол и кров и уж верно не хотела бы, чтобы вы встречали одну из ее племянниц косыми взглядами. Пусть это тяжкое испытание — следствие, суд — укрепит Флоранс на стезе добродетели и послужит ей во спасение. От себя же хочу добавить, что и впредь готова оказывать кузине всяческое покровительство. А в знак моей неизменной любви я преподношу ей этот дар. Носи его, милая Флоранс.
По рядам гостей прокатывается шепоток. На открытой ладони Мари держит брошь. Ваза из черной и красной мозаики и рубиновые цветы. Любимое украшение тети Иветт. Первой дар речи обретает Олимпия:
— Мари, не вздумай разбрасываться…
— Вздумаю, — огрызается сестра. — Эту брошь мама обещала оставить мне. Я могу дарить ее кому пожелаю.
— Но как же траур…
— Это не побрякушка, а знак любви. Не вижу причин, почему его нельзя носить с траурным платьем. Подойди сюда, Флоранс. Ну же!
Я мешкаю. В прошлый раз те же самые слова не принесли мне ничего, кроме неприятностей. Улыбка кузины лучится милосердием, но я обожглась на молоке и во всем подозреваю подвох. Если приму дар, гости посчитают, что я убила тетю ради драгоценностей. А если откажусь, решат, что совесть нечиста. Инстинкт повиновения одерживает победу над осторожностью, и я подхожу к Мари, которую распирает от человеколюбия.
Послушно наклоняюсь, чтобы ей проще было приколоть брошку… и громко вскрикиваю. А гости вместе со мной.
— Прости, кузина! — смущается Мари. — Надеюсь, я тебя не больно уколола?
— Нет, что ты. И спасибо… за подарок.
Терпела я боль и похуже, чем от булавки, вогнанной в грудь. А пятно крови, которое, как я чувствую, уже расплывается по корсажу, будет незаметно на черном бомбазине. Никто, кроме меня, не узнает, что оно там.
После Джулиан бережно берет меня под руку и все вместе мы едем на кладбище Хайгейт, где в склепе из белого камня находит последний приют уроженка Луизианы Иветт Ланжерон.
События следующих дней окончательно расшатывают мой взгляд на мироустройство, и разум мой переполняется подозрениями столь же нелепыми, сколь чудовищными. На первых порах мне казалось, что в семействе Ланжерон царит тишь, гладь да божья благодать. Пикировки за столом не в счет, если дело не доходит до оплеух. Идиллия, да и только. Теперь же, став свидетелем двух странных эпизодов, я не могу быть уверенной ни в чем, кроме одного — я не убивала Иветт. Зато у меня есть свои догадки относительно того, кто же обагрил руки ее кровью.
Но обо всем по порядку!
Однажды утром меня настигает Олимпия. Входит по-хозяйски, без стука, что, впрочем, неудивительно: комната, которую я считаю спальней, остается для нее детской, где в свое время она гоняла обруч и устраивала чаепитие куклам. Входить в свои владения кузина может тогда, когда считает нужным, и так, как ей вздумается. Вместо приветствия она снимает с вешалки плащ на котиковом меху и швыряет мне.
— Собирайся. Поедем в банк.
— Какой еще банк? — спрашиваю я, откладывая альбом для рисования.
— Банк Сити, что на Олд Бонд-стрит. Там держала счет maman. Хочу узнать, сколько у нее на счету и откуда денежки капают. — Лицо кузины прорезает усмешка, будто трещина на высохшем иле. — Раньше, бывало, спросишь ее, что у нас с деньгами да как, так она вызверится, точно я лишний кусок ростбифа на тарелку плюхнула. Теперь-то другие времена настали. За деньгами нужен догляд, не всем же разбазаривать добро.
Взор ее полыхает так, что рубиновая брошь готова раскалиться. Еще немного, и золотая изнанка прожжет несколько слоев ткани и вплавится мне в грудь.
— А я-то тебе на что? В качестве компаньонки?
— Бери выше. Или ты забыла, что за тобой и Дезире числится должок? Я все перерыла, но маминых гроссбухов не нашла. Вообще никаких записей не осталось. Все забрал с собой тот, кто… — Олимпия умолкает, прокручивая на запястье гагатовый браслет, но так и не находит нужного эвфемизма, — кто ее убил. Ладно, может, в банке что-нибудь прояснится.
Если бы! На все расспросы письмоводитель разводит руками. Десять лет тому назад мсье Ланжерон положил на счет крупную сумму, но она успела истаять, потому как мадам Ланжерон жила на широкую ногу.
Одна рента дома обходится в 400 фунтов в год. Как, рента кажется барышне непомерно высокой? Ничего, на счету мадам Ланжерон более двух тысяч фунтов — хватит на первое время. Две тысячи это, знаете ли, солидная сумма, а не «кот начхал», как изволила выразиться мисс. Многие были бы рады заполучить невесту с таким приданым. Любой конторский служащий, доктор или хотя бы начинающий адвокат… Так или иначе, не стоит падать духом. Не ей первой родня преподносит неприятный посмертный сюрприз.
Далее мы узнаем, что мадам Ланжерон имела обыкновение класть на счет крупные суммы, причем наличными. Ни чеков, ни векселей. Об источнике доходов письмоводителю тоже ничего не известно. Более того, он и сам был бы не прочь расспросить об этом барышню, ведь если матушка, возлюби ее Господь, владела каким-то предприятием, оно может отойти к мисс Ланжерон. Конечно, за неимением наследников мужеского пола.
Что касается долгов барышень Флоранс и Дезире Фариваль, таковыми сведениями служащий не располагает. «Ничем не могу помочь» — вот и весь сказ.
Из банка Олимпия вылетает фурией и едва не попадает под колеса проезжавшего мимо кеба. Не схвати я ее за руку, нас ждали бы вторые похороны. А так обе забрызганы грязью и обруганы кучером-кокни, но остались в живых.
Это происшествие едва ли поднимает Олимпии настроение. Содрав мокрую черную вуаль, кузина отшвыривает ее в лужу, а затем, не говоря ни слова, припускает по Бонд-стрит. Задыхаясь от быстрой ходьбы, я следую за ней и чувствую себя преглупо.
Что мне делать? Ловить кеб и ехать домой? Или приглядеть, чтобы ее вновь не затоптали? Последний вариант более подобает приживалке, коей меня считает кузина, и я решаю держаться в рамках этой роли. С меня не убудет.
Мы сворачиваем на Пикадилли. Едва ли не бегом Олимпия проносится мимо пирожников, шарманщиков и цветочниц с корзинами, из которых торчат пучки сухой лаванды, мимо суетливых клерков, на ходу жующих печеную картофелину, и лощеных, одетых по последней моде flaneurs, которые, отобедав у Франкателли, совершают моцион и с прищуром разглядывают приехавших за покупками дам. Пересечь Пикадилли непросто: и с востока на запад, и с запада на восток течет сплошной поток разномастных экипажей. Элегантные ландо и фаэтоны соседствуют тут с громоздкими омнибусами и даже с телегами, что возвращаются с рынка порожняком. Но как матерая пловчиха, кузина кидается в этот водоворот, не дожидаясь просвета, и мне ничего не остается, как последовать ее примеру.
Когда скрип колес и мелькание конских хвостов остаются позади, мы, усталые и злые, бредем по Бромптон-роуд, оставляя позади беломраморный Бромптонский ораторий, который так жалует Мари. Сразу же за ораторием, отгороженный от улицы невысоким заборчиком, раскинулся музейный комплекс Южного Кенсингтона. К музею, как сообщил мне Джулиан, у лондонцев отношение двоякое: интерьеры, все эти колонны, мраморные лестницы и мозаичные потолки, безусловно, тешат взор, но подкачал фасад. Однако вид аляповатых кирпичных стен оказывает на Олимпию благотворный эффект.
— А вот и музей, — довольно хмыкает она. — Туда-то мне и нужно.
Желание посетить музей, исходящее от барышни, осиротевшей в прошлые выходные, не вызывает отклика в моем сердце.
— Хочу потратить пенни, — поясняет кузина, чем окончательно вводит меня в недоумение.
— Вход стоит шестипенсовик, — напоминаю я, уже здесь бывавшая.
— Как будто я не знаю. Просто выражение такое. В смысле, сходить по делам. Когда на Всемирной выставке тысяча восемьсот пятьдесят первого года впервые устроили общественные уборные, за один визит туда брали пенни. Сейчас-то все не так. Полгорода оббегаешь, пока найдешь дамскую комнату. Общественных уборных для джентльменов пруд пруди, а нашему полу отказано в удовольствии ответить на зов природы. Даже в пассажах уборных нет. Представляешь себе? Даже в галантереях, ресторанах и у этих чертовых модисток — считается, что, мол, леди может и до дому потерпеть. А если мне, прошу прощения, приспичит? — задает она вопрос явно риторического свойства.
Пожимаю плечами. Современную уборную — с сиденьем из полированного дуба и сливным бачком — я впервые увидела в Лондоне. На плантации у нас слыхом не слыхивали о таких новшествах, ночными горшками обходились, и никто не жаловался.
— Здесь меня подождешь, — отдает приказ Олимпия, а сама входит в музей с поспешностью, по моему мнению, не достойной леди.
Но когда короткий шлейф исчезает в дверях, я спохватываюсь, что и сама бы не прочь посетить дамскую комнату. Платье заляпано зловонной лондонской грязью, смесью дождевой воды, золы и конского навоза. Если сразу не отчистить, после стирки могут остаться пятна, а денег на обновку у меня нет. Олимпия преподнесла нам траурные платья с таким видом, с каким мсье Жак раз в год выдавал рабам холстину на одежду — коли износите прежде времени, хоть голышом ходите, а обновки не дождетесь. Не у жениха же просить взаймы! Не хотелось бы предстать перед ним побирушкой.
Краснея, я объясняю служителю на входе, что мне надобны не скульптурная галерея и даже не зал пищевых продуктов, где выставлена снедь со всего мира, а совсем иное помещение. Молоденький юноша с ясными глазами и цветником прыщей на лбу тоже тушуется и пропускает меня бесплатно. В уборной при музее я уже бывала. Здесь высокие зеркала и ряд аккуратных кабинок. Но служительницы не видать и спросить щетку мне не у кого. А потом я и вовсе забываю про цель визита.
Из дальней кабинки доносятся надсадные хрипы, бульканье, звуки рвоты — где-то я все это уже слышала. Когда припоминаю, где именно, оказывается, что не стоило напрягать память. Из кабинки выходит Олимпия. Бледнее прежнего, она отирает липкий рот носовым платком, который роняет, увидев меня.
Ох, кузина Олимпия! Ох, только не это!
Я бы списала приступ тошноты на пищевое расстройство, но на лице м-ль Ланжерон написана вся правда. Глаза широко распахнуты, щеки и длинный нос покрылись испариной. Это лицо человека, чья тайна раскрыта.
— Олимпия, — я предупредительно поднимаю руку, но кузина отступает назад, глядя на меня исподлобья.
Что говорят в таких случаях?
Роза нашла бы к ней подход, успокоила бы ее, как тех жалких, всхлипывающих негритянок, которые даже не словом, а взглядом молили о помощи. Что угодно, только не роды в разгар полевых работ, когда надсмотрщик даже отлежаться не даст — погонит в поле, а если не выполнишь дневное задание, вечером получишь дюжину плетей и никто не посмотрит, что ты еле ноги волочишь. А ребеночек — ну кому сдался лишний рот? И так рожала шестерых, а из них четверо от лихоманки померли. Нельзя ли отвар какой?
Рецепты отваров я помню наизусть. Роза крепко вдолбила их в мою детскую память. Умение превратить ребенка в ангела она почитала первейшим для знахарки и добавляла, что те малютки были бы ей благодарны. Это не тот мир, куда хочется рождаться.
— Наверное, это не моего ума дела, но мне кажется, ты нездорова, — начиная я, крадучись. — Это ведь не в первый раз тебя тошнит после еды.
Загнанная в угол, кузина только и может, что недобро сверкать глазами.
— Ты права, Флоранс, — цедит она. — Это действительно не твоего ума дело.
— Олимпия, ты… в деликатном положении?
На острых скулах вспыхивают по красному пятну, и я начинаю сомневаться, уж не ошиблась ли я на ее счет. Но корсет модного фасона «кираса» плотно облегает бедра и живот ниже пупка, скрадывая любые недостатки фигуры, в том числе и те, что вызваны излишком плотской страсти. Какой же у нее срок?
— Забудь все, что видела. Поняла? А то ведь мне тоже есть что порассказать. — Кузина вдруг ухмыляется, и ухмылка у нее глумливая. — О твоей Дезире. Вовек от грязи не отмоется.
В груди у меня противно холодеет. Неужели письмо попало к ней в руки? Но как? А, впрочем, какая разница… Если Олимпия узнала нашу тайну, завтра же об этом растрезвонят во всех газетах, ибо смотрит кузина так, словно прикидывает, как бы побольнее уколоть. Черт меня дернул пойти в уборную!
— Не тебе судить мою сестру, — устало говорю я и поворачиваюсь к двери. В спину мне свинцовым шариком ударяет крик:
— Это Дезире разрисовала доску в детской!
Эхо отражается от мраморных плит на полу, от зеркал и плафонов из матового стекла. «Дезире, Дезире, Дезире!»
— Помнишь, после суаре ты допытывалась, кто нарисовал какую-то пакость на доске. Уж не знаю, что там было нарисовано, но тебе как шлея под хвост попала. Так вот, это была Дезире. Я слышала, как она бежала вверх по лестнице, пока ты разговаривала в карете с maman.
— Да я и без тебя догадалась.
Раз Олимпия не заклеймила Дезире «распутной квартеронкой», значит, письмо не у нее. Больше меня ничего не интересует.
— Но это еще не все. Ты спроси у Дезире, что она делала в ночь, когда убили maman.
Тут уж я не могу не обернуться. Заталкивая платок в рукав, Олимпия бурчит:
— Спроси, спроси, а ответ мне передашь. Любопытно узнать, как она отоврется.
Из музея я вылетаю, чуть не сбив с ног того бескорыстного служителя. Хорошо, что не потратила пенни, а то не хватило бы на кеб. Уже в экипаже пытаюсь разложить по полочкам новые сведения.
Приступы рвоты, измученный вид Олимпии, ее вечное раздражение — все указывает на беременность. А неприкрытый страх, промелькнувший в ее глазах, наводит меня на мысль, что мсье Фурье и отец ребенка — не одно и то же лицо. Узнай Иветт о грехопадении дочери, помолвленной с богачом, она бы со свету Олимпию сжила. Но теперь, став свободной от матери, Олимпия Ланжерон сама себе хозяйка и вольна поступать со своей жизнью так, как сочтет нужным. В том числе и узаконить свое нерожденное дитя, кем бы ни был его отец.
Cui bono?[42] Кажется, одного человека я уже нашла. А может, и двоих.
Другой сюрприз мне преподносит Мари. И что за сюрприз!
Несмотря на ее щенячью доброжелательность, я избегаю кузину, как нашкодившая пансионерка классную даму. По опыту знаю — не миновать совместной молитвы. Как и моя мама, Мари умеет поставить человека на колени и долго удерживать его в таком положении. Не могу сказать, что это мой любимый способ провести досуг. Хлопок собирать и то было б веселее.
Дезире, кстати, приохотилась читать с Мари розарий, хотя столь же исправно сыплет на порог кирпичную крошку. Как говорится, и Богу свечку, и черту кочергу. Поскольку моя суеверная сестрица не знает, где именно соломки постелить, то охапками разбрасывает ее повсюду — на всякий случай. Зато я сторонюсь Мари. Она вогнала иголку мне в сердце. Не тогда, на похоронах, когда трясущимися руками прикалывала брошку, а гораздо раньше. Порой выступает капелька крови, а за ней другая. Болезненные воспоминания. События, кои я предпочла бы предать забвению, как и все, что связано с братьями Мерсье.
Вечером, когда я только что проводила Джулиана, приехавшего оповестить меня о ходе расследования (увы, ничего нового), Мари переходит в атаку. Поднимаюсь по лестнице — а она тут как тут, стоит на площадке и призывно машет ручкой. Ни одна живая душа не проскочит мимо.
— Давай ты помолишься со мной? — без экивоков предлагает Мари. — У меня есть запасные четки.
— Давай, — говорю я обреченно.
Мы с Всевышним раззнакомились в свое время и по сей день храним натянутое молчание. А с Ними вообще бесполезно разговаривать без взятки. Из всех высших сил я интересна одному лишь Барону, но встречи с ним я отнюдь не жажду. Долго еще буду вспоминать выкопанную могилу и то, что лежало на дне. Чудо, что я вырвалась с того света! Да не просто вырвалась, а с третьим желанием в запасе, ведь если б я его потратила, Барон бы меня не отпустил.
Всякий раз, вспоминая об этом, я облегченно вздыхаю. Значит, Иветт убита не по моей злой воле и нет на мне греха.
Спаленка Мари походит своей обстановкой на комнату в кукольном доме, и даже траур этому не помеха. Розовые обои с белым орнаментом из птичек, лакомящихся виноградом. Под балдахином цвета зари — россыпь подушек, валиков и думочек, и каждая вышита гладью и украшена кружевными розанами. Ковер такой пушистый, что щекочет щиколотки, хотя у столика, переделанного под домашний алтарь, ковер проседает — уж очень часто и подолгу хозяйка простаивает на коленях. Светло здесь, чисто — глаз радуется. На подоконнике — огромный букет цветов, всякий день свежий. И улыбка Мари сияет, словно солнечный зайчик в рот попал.