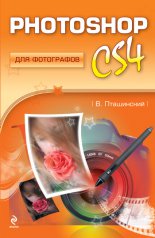Невеста Субботы Коути Екатерина
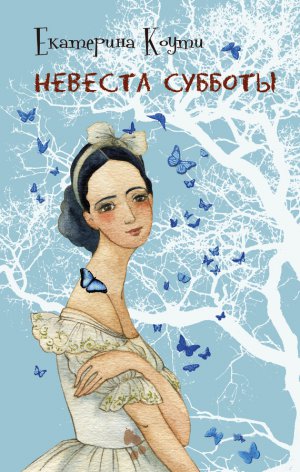
И тем более не позволю ей бежать из дому с повесой, который… который вместо теплого пальто и цилиндра нацепил на свидание плащ с капюшоном! Будто в оперу собрался, недоумок. Романтики захотелось. Поверить не могу, что когда-то я сама едва не влюбилась в эдакую пустельгу!
Уже не думая о том, что своим топотом могу поднять на ноги весь дом, я сбегаю по мраморной лестнице, едва не оступаясь на последней, не видимой во тьме ступеньке. От толчка бабочка пробуждается и щупает воздух острым хоботком. Крылышки легонько подрагивают, и меня, как обычно, начинает мутить. Настежь распахиваю дверь, впуская в переднюю зловонный туман, и бросаюсь влево, туда, куда несколько минут назад ушла Дезире. Напрягаю глаза до рези, пытаясь разглядеть впереди ее стройную фигурку, но в таком тумане запросто мог бы затеряться целый полк. Приходится брести наугад. На бегу я вспоминаю, что впопыхах позабыла не только накинуть шаль, но даже переобуться. Картонные подошвы домашних туфель мигом раскисают от слякоти, влага ползет вверх по чулкам, и щиколотки начинают противно зудеть. Идти босиком было бы так же зябко, но хотя бы не так скользко. Однако сейчас не до возни с подвязками. Я обязана догнать Ди. Догоню и скажу ей… ах, проклятье, я даже не знаю, что ей сказать?! Как ее отговорить?!
- Допоздна гулять, родная,
- Юным девушкам не след;
- В поздний час легко попасть
- К хитрым гоблинам во власть![45]
Наше счастье, что улицы пустынны. Одинокую девицу, оказавшуюся на улице за полночь, любой негодяй сочтет своей законной добычей, и мало кто осудит его, если он решит полакомиться.
Следуя на запад по Тэлбот-стрит, я миную кварталы, облюбованные фабрикантами и купечеством, и попадаю на внешний край своеобразного островка, где селятся те из лордов, кому не нашлось места в Белгравии и Мейфере. Стоящие полукругом дома чередуются с лентами сквериков. И тут до моего слуха доносится стук каблучков по мокрой мостовой. Совсем близко. В тумане я чувствую себя лошадью с плотными шорами над глазами, но можно положиться хотя бы на слух. Снова сворачиваю влево. По периметру этот идиллический островок рассекает улочка Лэндбрук-гров, и как раз здесь мне улыбается фортуна.
У запертых ворот сквера стоит Дезире. Издали я могу различить только светлое пятно лица и светлые же ручки, что трепещут, словно два мотылька на фоне тусклой бомбазиновой тьмы. В руках Дезире вертит дамские часики с цепочкой, и мне отчетливо слышно, как на цепочке позвякивают брелоки, которые не были отцеплены даже на время траура.
Но где Марсель? Неужели заплутал в тумане? Воспользовавшись его отсутствием — вероятно, кратковременным, я перехожу в атаку.
Сестра так глубоко погружена в раздумья, что мне удается подкрасться незамеченной, а когда я хватаю ее за плечо, Ди вскрикивает и выпускает из рук часы. Они разбились бы, не будь цепочка пристегнута к корсажу, а так раскачиваются, словно маятник, пока Ди хватает ртом тлетворный лондонский воздух.
— Святые угодники, как же ты меня напугала! — стонет она.
— Странные у тебя понятия о том, что страшно. Родной сестры боишься, а разгуливать в потемках, очевидно, нет, — наседаю я и, как сказала бы Нанетт, сразу беру ее за жабры.
— Фло, послушай…
— Так вот почему ты тогда от меня отселилась, Ди! Хорошенькое дельце. Сначала нарисовала знак на доске, вызвав меня на ссору, а потом перебралась поближе к черной лестнице. Ловко же ты все обстряпала.
— Фло, пожалуйста! Я так не каждую ночь!
— Не каждую, говоришь? Тогда расскажи, сколько ночей тебя носит невесть где.
— Сегодня второй раз, — понурившись, отвечает сестра.
— А первый был когда? Молчишь? Тогда я отвечу за тебя — в ночь с восьмого на девятое октября. В ту ночь, когда была убита Иветт Ланжерон. Странное совпадение, не правда ли?
— Ой, Фло, не смотри на меня волком! Да, я выходила из дому. Сразу, как только ты уснула. И не просто выходила — я и вовсе уйти собиралась. После всего того, что наплела про меня Иветт.
По ощущениям, слякоть в башмачках заиндевела, и, чтобы устоять на ногах, я прислоняюсь спиной к парковой решетке.
— Так ты все знаешь? Но откуда?
— У двери подслушивала, — сознается Дезире. — Когда Нэнси сказала, что ты у тетушки, я быстренько улизнула на третий этаж. Думала, вы будете обсуждать свадьбу, раз к этому все и шло. Попробуй тут усиди на месте! А услышала я кое-что иное. Вот уж не ждала, что мадам Селестина и через океан языком подцепит. Помню, ты велела мне горничных подкупить, а я решила, что и нужды нет. Больно надо мадам на меня чернила тратить. Сгинула я — и на том спасибо. А вот как оно все обернулось! — Она теребит пальцем родинку на подбородке, как всегда, когда бывает раздражена.
— Сначала я хотела пойти да булавок наглотаться, так мне тошно стало. А потом передумала. Решила, что попрощаюсь с тобой по-хорошему и уйду, чтоб тебе не пришлось выбирать. Вот уйду, и все тут.
— И куда же ты пошла, дурочка? На все четыре стороны?
— Нет, Фло. Я пошла к Марселю. Загодя передала ему записку через мальчишку-подметальщика, что вечно возле дома отирается. Назначила свидание здесь. Мы однажды гуляли тут и делились мечтами, как будем жить в одном из этих домищ, с пэрами по соседству. Счастливые будем, богатые.
— И Марсель пришел на свидание?
— Пришел. Всю правду я ему рассказывать, конечно, не стала. Ты пойми, Фло, он считает меня знатной южанкой. Если прознает, что я всю жизнь горшки за мадам Селестиной выносила, то сразу меня разлюбит. Служанки и так на него гроздьями вешаются… — И она опускает глаза, разглядывая булыжники, до блеска вылизанные туманом. — Я предложила ему бежать со мной. Обвенчаться тайно, без благословения. Наплела ему, что мы с тетей повздорили и она отсылает меня обратно.
— И что же Марсель?
— Сказал, что надо повременить. У него возник план, как разбогатеть одним махом. Оседлать комету, сорвать куш. Он умолял меня вернуться и подождать самую малость. Сказал, что вызволит меня совсем скоро. Что мне оставалось делать? Я поплелась домой. Решила, что теперь-то Иветт не застанет меня врасплох, а вот я ее запросто. И как только она спровадит куриц в храм Божий, я ей такой скандал закачу, что уши полопаются. Уж что-что, а глотку драть я умею — бабушкина закалка. Ишь чего выдумала — спровадить меня, так, поди, еще и без моих bijoux![46]
— Ты не помнишь, в каком часу вернулась?
— Откуда мне знать? Темень стояла, хоть глаз выколи.
— А когда уходила, оставила дверь на черную лестницу открытой?
Задумавшись, Ди прикусывает пухлую нижнюю губу.
— Господи, Фло… это я, что ли, впустила убийцу?
— Не бери в голову, он бы и так проник в дом. У него был дубликат ключа. А сейчас ты тоже пришла к Марселю?
— Ну да. За этим он и звал меня в Гайд-парк давеча — чтобы своей придумкой поделиться. Если б мерзавка Олимпия не подгадила!.. Пришлось снова слать мальчишку с запиской и уговариваться на полночь.
Краем глаза я замечаю шевеление, словно по тьме ночной пробежала рябь, и на ближайшем к нам крыльце замечаю чью-то фигуру. Полы плаща колеблются, когда наш молчаливый спутник ступает за колонну. Как долго Марсель стоял там и что успел услышать? Надеюсь, что многое, ведь тогда не понадобится переливать из пустого в порожнее. Если после всего услышанного он возьмет Дезире замуж, возьмет, невзирая на цвет ее кожи и отсутствие приданого… что ж, в таком случае я позволю им уйти.
В таком маловероятном случае.
— Марсель уже здесь, — говорю я.
Нужно покончить с ложью одним махом, ведь хуже точно не будет. Куда хуже-то?
— Где? — пугается Дезире.
— Вон, за колонной схоронился.
На сестру жалко смотреть. В глазах, приобретших в темноте оттенок малахита, застыла тоска, как в Тот Раз, когда Дезире лежала в телеге, стянутая по рукам и ногам. Не в силах выносить этот молящий взгляд, я чуть склоняю голову и рассматриваю грубый шов на бомбазине, там, где рукав смыкается с плечом.
— Ты все ему расскажешь, да? Про то, что я квартеронка?
— Да, расскажу.
— Тогда это конец.
— Или начало чего-то иного. Пойми, Ди, раз уж то письмо не в нашем распоряжении, рано или поздно правда всплывет. Будет лучше, если Марсель Дежарден узнает обо всем от нас, чем от злых языков. И если чувства его к тебе крепки…
— Фло, берегись! — вдруг вскрикивает сестра.
Наваливается на меня всем весом, буквально впечатывая в ограду сквера. Зубы лязгают, затылок больно бьется о чугунную перекладину, и если бы пучок волос под сеткой не смягчил удар, я проломила бы череп.
Раздается хлопок. Недостаточно громкий, чтобы нести в себе угрозу, но уж очень неуместный на тихой, сонной улочке. Недоумевая, перевожу взгляд на крыльцо, туда, где стоит Марсель, и вижу штрих света на дуле револьвера, которое наставлено прямо на нас. Неспешно, как будто выбирая, в кого целиться, стрелявший вытягивает правую руку, левой же поправляет капюшон плаща. Лицо скрыто тенью, и я не могу разглядеть, в очках он или нет. Все, что я могу видеть, это черный глазок револьвера. Зоркий, высматривающий.
Меня моментально сковывает страх. Конечности слабеют, словно бы всю живую силу из них всосала в себя бабочка, что мечется у меня в желудке. На каждом взмахе с крыльев сыплются чешуйки, колкие, как алмазная крошка.
Я бы и дальше стояла, прильнув к забору, играя в гляделки с револьвером, завороженно прислушиваясь к шевелению живого, отдельного от меня существа, но Дезире с силой дергает меня за руку.
— Шевелись, — бросает она, увлекая меня в туман, — это же не Марсель!
— А кто тогда? — задыхаясь, поминутно оборачиваясь, спрашиваю я.
— Мне почем знать? Кричи «караул»!
— Рехнулась, что ли?
Если нас застигнут на улице посреди ночи!.. В Англии лучше расстаться с жизнью, чем лишиться репутации — не так мучительно и меньше хлопот. Я не хочу терять Джулиана — но и жизнь терять тоже не хочу!
Хлопая платьями, как две мокрые птицы, мы бежим, не разбирая дороги. Куда — самим неведомо, лишь бы прочь от верной смерти. Корсет железным обручем давит мне на ребра, туман плотно набивается в гортань, и каждый новый шаг кажется последним. Сейчас запнусь, спеленутая юбками, сейчас упаду, а когда перевернусь на спину, в лоб упрется дуло револьвера. И раздастся выстрел. В промежутках между ударами сердца я слышу шорохи, и шум шагов, и отрывистое дыхание того, кто идет за нами следом. Убийца тети Иветт. Или это из моей груди вырываются хрипы? Проклятие, я совсем запуталась!
Полумесяц улицы круто изгибается, а затем резко смыкается с прямым проспектом, и центробежная сила вышвыривает нас на перекресток. Днем здесь не протолкнуться от кебов, а сейчас хоть бы один показался поблизости! Нет, никого. Перекресток пустует. Огибая лужи и бесформенные груды навоза, Дезире мчится через дорогу и машет мне уже с другой стороны — сюда, скорее! Я бросаюсь вперед, но под ногой скользит мокрый металл — люк угольного чулана, которые понатыканы на каждом тротуаре, — и мир теряет равновесие.
В глаза летят брызги грязи. Правый локоть и бедро взрываются болью, и со стоном я поднимаюсь на четвереньки. Узел волос распался в падении, и когда я мотаю головой, ажурная сетка хлещет меня по лицу. Судорожно открываю рот — и не могу вздохнуть. Плотные комки воздуха застревают в горле, не проникая в легкие, а в голове гудит, и посреди этого гула шаги доносятся уже отовсюду, спереди и сзади. Но так просто я не уйду…
— Фло!
Рывком, как тюк с хлопком, Дезире ставит меня на ноги и, низко нагнувшись, перекидывает мою руку через шею, принимая на себя весь вес моего обмякшего тела.
— Идти-то можешь? — озабоченно бормочет она. — А нет, так цепляйся мне за спину, как-нибудь доволоку.
Я киваю, покрепче стискивая губы, чтобы наружу не высунулся хоботок бабочки, чьи коготки скребут мне язык, а острые навершия крыльев оставляют глубокие бороздки на нёбе.
Ди успела вовремя.
— Где он? — спрашиваю я, как только крылатая спутница перестает меня беспокоить.
— Сгинул, окаянный, — говорит Ди и, не удержавшись, сплевывает на мостовую. — Это был убийца Иветт?
— Кто же еще?
Туман обволакивает улицу, бледно-желтый, как гной, прорвавшийся из какой-то неведомой раны — лучший друг грабителей и душегубов. Наш преследователь нырнул в него, но ему ничего не стоит вынырнуть вновь. Откуда угодно.
Мы опасливо оглядываемся по сторонам, а затем едва не вопим от радости, когда вдали, со стороны Гайд-парка, показываются боковые фонари кареты. Едва различимые вначале, как пара полумертвых светляков, они разгораются все ярче по мере того, как кеб приближается к нам, и вот уже доносятся надтреснутые голоса, которые с пьяной серьезностью тянут какой-то пошлый мотивчик. С появлением компании даже мне становится веселее, хотя бедро уж очень ноет, а язык саднит там, где его расцарапала бабочка. Долго любоваться кебом мы не смеем: боимся, как бы подгулявшие господа не приняли нас за уличных. Ди, живой костыль, ведет меня вперед, пока мы не попадаем на одну из тех крохотных прямых улочек, что, как зубья гребня, примыкают к Тэлбот-стрит. Вот мы и дома.
— Сможешь подняться по ступеням?
— Постараюсь, — вздыхаю я, но морщусь от первого же шага.
Правое бедро болит нестерпимо, в щиколотке что-то противно щелкает. Подошвы туфель давно превратились в мокрые ошметки.
— Не хнычь, я тебя так втащу. Своя ноша не тянет.
Не успеваю возразить, как младшая сестра крепко хватает меня за талию и чуть подкидывает вверх, а потом вносит на крыльцо, благо ступеней раз-два и обчелся. Я и позабыла, сколько в ней силы. И какие у нее руки. Крепкие, как у мужчины, и не дрожат, даже когда она бережно, по дюйму, опускает меня на крыльцо. Такие ловкие, уверенные в своей силе руки, каким не составит труда поднять любую тяжесть.
Дверь я не запирала, не до того было. Переводя дыхание, мы с сестрой таращимся на медную ручку, отполированную касаниями ладоней и замшей перчаток, и, словно повинуясь нашим мыслям, ручка начинает поворачиваться. От испуга Ди взвизгивает и крестится, я шумно втягиваю воздух, а из приоткрытой двери медленно высовывается голова в папильотках. В иное время эта сцена показалась бы комичной, но нам не до смеха.
— Ну что, кузины, с возвращением, — говорит Олимпия и улыбается торжествующе.
— …и эта непозволительная, можно сказать, непристойная выходка заслуживает строжайшего порицания…
Даже в гневе мистер Эверетт в достаточной мере владеет собой, чтобы не сорваться на крик, но его грозный, властный голос проникает в каждый уголок дома. Язвить словами заблудшие души для него, попечителя приюта, занятие привычное, чтобы не сказать будничное. Но до чего же мучительно стоять под каскадом жгучих слов! В который раз я бросаюсь к двери, но Олимпия меня не пускает. То, что происходит сейчас в гостиной, стало для нее одним из немногих развлечений, позволительных в период траура.
— …хуже того — вы не пощадили честь своей сестры, которой не оставалось ничего иного, кроме как искать вас по закоулкам, подвергая риску свое целомудрие. Как скверно вы поступили, Дезире!
— Д-да, сэр.
— Что «да», голубушка? Что именно вы поняли из моих слов, гораздо более благожелательных, чем те, которые вы заслужили на самом деле? Сказать ли, каких усилий мне стоило замять шумиху в прессе? А теперь эдакое непотребство! Стыдитесь, ведь вы не горничная, что бежит на свидание с подмастерьем, а, смею вам напомнить, леди. Общество вправе ожидать от вас безукоризненного поведения. И если за подобные выходки вы подвергнетесь остракизму — вам будет отказано от всех домов Лондона и вы станете парией! — то пенять можете только на себя. Хотя я, так уж и быть, приму вас в Приют Магдалины. Вы этого добиваетесь?
Хорошо, что Олимпия, снабдившая Джулиана сведениями о ночных событиях, ничего не знала про стрельбу. Если бы пред ним предстала зловещая картина во всей своей полноте, Дезире не отделалась бы выговором, пусть и таким хлестким. Любой на месте Джулиана разложил бы ее на коленях и как следует отшлепал.
И в лучшие дни мистер Эверетт держался с моей сестрой прохладно, сразу отсекая попытки пофлиртовать, а после смерти тетушки смотрит на нее как на пустое место. Он слишком увлечен мною — точнее, моим уголовным делом, чтобы обращать внимание на других женщин. Его предупредительность и забота, готовность примчаться по первому зову, невероятно льстят моему самолюбию. И как бы ни жалела я сестру, в глубине души мне приятно, что Джулиан вступился за мою честь и устроил ей разнос. Ди заслужила хорошую взбучку.
— …вы не можете не понимать, что я говорю как ваш доброжелатель и будущий родственник, говорю от чистого сердца, исходя из ваших интересов. — В голосе Джулиана зазвучали другие, более мягкие аккорды. — Посему надеюсь, что мой совет не будет вами отвергнут. Искушение может постучаться в любое сердце, но тем-то мы, цивилизованные люди, и отличаемся от дикарей, что умеем обуздывать свои низменные порывы. Контролируйте себя, Дезире Фариваль, не позволяйте чувственности верховодить рассудком. Могу ли я рассчитывать на ваше обещание?
Предвижу, что моя непокорная сестрица поднимет крик, но она лишь смиренно бормочет:
— Я больше не буду, сэр. Простите.
Даже бабушке не удавалось так легко укротить ее норов.
— Очень хорошо. Стало быть, я могу отдать вам это письмо.
По резкому вздоху я могу представить, как вспыхнули ее глаза.
— От Марселя?
— Да, — нехотя отвечает Джулиан. — Я долго колебался, отдавать ли его вам, но решил, что отдать все-таки следует. Прочтите его наедине и… последуйте моему совету, голубушка.
Не отскочи я в сторону, Дезире вышибла бы мне мозги дубовой дверью. Огонь в ее глазах мог бы растопить сургучную печать на письме, которое она крепко прижимала к груди — как ребенка, выхваченного из пожара, как самое дорогое, что только есть на свете.
Мистера Эверетта я застаю в гостиной. Поставив локоть на каминную полку, он поддевает носком ботинка бахрому на коврике и покусывает сухие, шелушащиеся губы. Мне еще не доводилось видеть его в столь мрачном расположении духа, но с другой стороны, подобные наблюдения бывают полезны. Иногда мне хочется нарочно его позлить, чтобы увидеть воочию, на что он способен в припадке ярости. А заодно разузнать, нужно ли мне вдобавок к «деньгам на булавки»[47] стребовать с него дополнительную сумму на пудру, чтобы прятать следы наших разногласий. Сколько раз я убеждала себя, что Джулиан Эверетт — не Жерар Мерсье и не поднимает руку на женщину, но опыт отметает все доводы рассудка. Раз обжегшись на молоке, я изо всех сил дую на воду. Мне еще не встречался мужчина, который в гневе не пускал бы в ход кулаки или плеть.
Когда я, прихрамывая, вхожу в комнату, Джулиан встречает меня церемонным поклоном, как между нами заведено, но рыжеватые брови досадливо сдвинуты:
— Что тут скажешь, Флора? Если в жилах течет дурная, порченая кровь, она рано или поздно даст о себе знать.
— Кого вы имеете в виду? — холодея, переспрашиваю я.
— Моего племянника, кого же еще.
Какое облегчение приносит мне его ответ!
— Отец Марселя приехал в Ирландию учиться хлопкопрядильному делу, а в итоге соблазнил дочь своего наставника. А теперь Марсель назначает девице свидание в полночь, да еще накануне своего отъезда во Францию.
— Так он уехал во Францию? В разгар таких событий?
Из вчерашнего выпуска «Таймс» мы узнали, что прусские войска стягиваются к югу Парижа и уже слышны пушечные выстрелы, предвестники массового обстрела французских фортификаций. Если пруссаки войдут в Париж, это будет пострашнее взятия Нового Орлеана войсками янки! Те, по крайней мере, не хотели нас уничтожить. Обескровить, выжав весь капитал, подчистую отнять наш сахар и хлопок, всячески оскорбить дам и унизить господ перед их же рабами — но не стирать Юг с лица земли. Прусская же армия напоминает полчище медведок, что ползет, сжирая все на своем пути. Как можно добровольно сунуться им в пасть?!
— А вы как думали? Потому и уехал. Как будто нет иного способа услужить родине, кроме как удобрить ее почву скудными брызгами своих мозгов! — Джулиан возводит очи к потолку, и мне становится радостно, что мы с будущим мужем сходимся во мнениях. — Под моим надзором он мог бы сделать блестящую карьеру здесь, в Лондоне. А что его ждет там, в этой богом забытой стране, которую каждые двадцать лет терзают революции? Как говорится, ломать — не строить.
Пока он сокрушается и ругает племянника, его рука покоится на каминной полке, недвижная, как окружившие ее фарфоровые ягнята, пастушки и пучеглазые спаниели. Мой отец, беснуясь, смахнул бы на пол всю эту аляповатую дребедень и, взревев от ярости, велел бы седлать коня, чтобы загнать его до кровавой пены на боках.
— Я уж было решил, что пребывание в Англии сделает из Марселя человека, что здоровый английский воздух развеет угар в голове этого несчастного мальчишки. Но наследственность взяла свое.
— Ужас какой! — поддакиваю я. — Но означает ли это, что содержание, которое вы ему выплачиваете, равно как и его наследство, будет… несколько урезано?
— Урезано? Господь да благословит ваше нежное сердечко, Флора! — умиляется на меня жених. — Марсель от меня ни пенни не получит.
— Даже если вернется с покаянием, как блудный сын?
— Как отец из притчи, я, конечно, зарежу для него тучного тельца, однако ни на что иное, кроме телячьих отбивных, Марсель может не рассчитывать.
Вот, значит, оно как.
Долговязый и сухощавый, Джулиан весь состоит из прямых линий и углов, но при это ему присуща деловитая стремительность, он из тех людей, про кого говорят «легок на подъем». Однако на моих глазах он каменеет. Крупный подбородок выдается вперед, губы смерзлись, блекло-голубые, почти прозрачные глаза превратились в ледышки. И тогда мне начинает казаться, что я слышу стрекот сотен станков, стрекот, не смолкающий ни днем ни ночью и порождающий мигрени, от которых единственное лекарство — абсолютная тишина. Знает ли сам Джулиан, что от родителя-англичанина он унаследовал не только лошадиное лицо, но нечто большее — умение, не моргнув глазом, оставить без средств самого родного человека?
Но я так зла на Марселя, что никакое наказание не кажется мне чрезмерно суровым. А раз уж этот олух остался без наследства, моей сестре он больше не пара. К чему множить нищету? Не за этим я привезла Ди в Англию.
— Вам, в свою очередь, следует сурово отчитать Дезире, — рекомендует Джулиан. — В том, что произошло ночью, она виновата ничуть не меньше, чем Марсель, а может, и поболе его. В конце концов, он мужчина, молодой повеса и подобные выходки ему простительны. От нее же как от женщины ожидается куда большее благоразумие.
Мое сердце заходится от острой жалости к сестре. Хватит ее казнить. Ну право же, сколько можно?
— По-вашему выходит, что только мужчинам все позволено? Пусть делают, что им вздумается, а нам, женщинам, потом расхлебывать? — задаю я вопросы, ответы на которые мне давно известны. Стоит только взглянуть на Нору — вот вам и ответ.
— Это не по-моему так выходит, Флора, — строго поправляет меня мистер Эверетт, — а так уж заведено от природы, что мужчины суть низменные создания, покорные зову плоти. Мужчинам труднее властвовать над своими страстями. На то и даны женщины — точнее, леди, цвет своего пола, — чтобы ежеминутно напоминать нам о добродетели. Так повелось испокон веков, и так будет всегда.
— Но вы-то хорошо справляетесь со своими страстями. Не так ли, Джулиан?
— Ну, я-то да.
Джулиан вздыхает и рассеянно щелкает по глянцевому пузу спаниеля, который таращится в пустоту глазенками навыкате.
— Грех впадать в уныние, однако же все складывается прескверно. Что Марсель, что Дезире — оба хороши. Но когда вокруг сгущаются тучи, есть лишь один достойный способ улучшить себе настроение.
— Какой? — спрашиваю настороженно. Мало ли.
— Навестить тех, кому в жизни повезло гораздо меньше, чем нам. Их печальный жребий подчеркнет все те блага, которыми нас незаслуженно одарили небеса. Посему я предлагаю вам составить мне компанию во время поездки в Приют Магдалины. У вас найдется время?
Заверив его, что поеду с ним куда угодно и когда он пожелает, я оставляю мистера Эверетта вымещать злобу на фарфоровой собачке, сама же отправляюсь на поиски Дезире, которую рассчитываю найти по оглушительным стонам. Бедная девочка! Бедро у меня еще побаливает, но ярость, которую я тщательно копила с полуночи, исчезает без остатка. Все, что мне сейчас нужно, это найти сестру и утешить. Бедная, бедная Дезире! Связалась с таким пустозвоном. Ну и пусть себе уезжает, другого жениха найдем. Получше.
Но Олимпия караулит меня в прихожей, за раскидистой пальмой, точно аллигатор в мангровых зарослях, и тараторит с несвойственным ей оживлением:
«Ну, что я тебе говорила? Что говорила-то? Вот и всплыла правда про твою полуночницу-сестру.
— Отвяжись ты от нее, наконец!
Обычно Олимпия стесняется улыбаться во всю ширь, пряча верхние зубы, желтые, да к тому же выросшие внахлест, но тут ее распирает от самодовольства. Есть же люди, чье счастье никогда не будет полным, покуда его не оросят чужие слезы.
— Наши желания совпадают, дорогуша. Я хочу того же — пусть Дезире requiescat in pace[48]. Она и ее сообщник.
Замираю, как громом пораженная.
— Ты же не думаешь…
— А что мне остается думать? Я своими глазами видела, как эта девчонка на руках тебя к двери несла.
Ручки-то у твоей сестрицы сильные, а, Флоранс? Сдается мне, ей бы не составило труда размозжить кому-нибудь череп.
…Дезире одним рывком ставит меня на ноги, Дезире волочет меня по улице, как будто это я ее малютка-сестра…
Такие сильные руки — сталь под нежным атласом кожи.
И как им не быть сильными, ведь не все же время она в комнатах прислуживала? Дезире сама рассказывала, что во время войны, когда разбежалась домашняя прислуга, ей приходилось и за водой к колодцу ходить, и дрова колоть, и сено таскать тюками, а когда мы с ней встретились после семилетней разлуки, она шла по двору, неся преогромную корзину апельсинов, которую уронила, едва заслышав мой голос. Апельсины, как солнечные зайчики, запрыгали по траве…
…Я представляю, как она берет с тумбы тяжеленную статуэтку Дафны, как заносит над головой и обрушивает вниз с сочным хрустом. И еще раз — чтобы наверняка…
Нет, все было не так! Не могло так быть!
— Уж не знаю, ради своей ли корысти они с Марселем убили maman или их науськал один из маминых завистников, но факты налицо. Неспроста мсье Дежарден удрал во Францию, куда за ним не дотянется Скотленд-Ярд. А Дезире он счел лишней обузой и бросил здесь. Значит, не судьба им в одной паре сплясать висельную джигу. Ничего, станцуют порознь.
Олимпия счастлива, но глаза светятся тускло, как траурная брошка из гуттаперчи, что скрепляет ее простой батистовый воротничок. На впалых щеках — ни намека на румянец. Как я ненавижу эту гадину! Так бы и прибила веслом, чтобы остановить «круговерть смерти».
— Этой ночью за нами кто-то гнался, — сознаюсь я. — Не Марсель Дежарден, а кто-то другой, да при том вооруженный револьвером. Это и был убийца. Он следил за нами от самого дома.
— Почему я должна тебе верить, кузина Флоранс? Назови хоть одну причину.
— Потому что говорю правду.
— Если бы твоя сестра сделала что-то дурное, разве ты не стала бы ее покрывать? — вопрошает Олимпия. — По мне, так это обычное желание — защищать своих.
— С такой же вероятностью я могу обвинить в убийстве тебя.
— На каком основании?
— На таком, что у тебя в глазах двоится от лауданума. А тошнит тебя тоже от опийной настойки? Обычно у непроходящей тошноты имеется иная причина.
— Ты не посмеешь об этом рассказать!
— Загони меня в угол — и сама увидишь, что я посмею, а что нет.
Судя по тому, как судорожно сжались ее пальцы, точно лапки издыхающего паука, Олимпия едва сдерживается, чтобы не наброситься на меня. Сегодня же начну поиски съемной квартиры. Нужно съезжать, и притом поскорее. Что ни день, Олимпия ярится все пуще, а когда уже никакой корсет не скроет ее тайну, она совсем озвереет.
Но Олимпия не кидается на меня с кулаками — она трет ими глаза. Она плачет. Слезы текут по щекам, словно капли жира по неровным бокам сальной свечи.
— Да пошли вы все к черту, — роняет она и, не глядя на меня, карабкается вверх по лестнице.
Перебранка истощила ее силы. Всем своим существом она стремится к склянке с заветной настойкой, красно-бурой, как загустевшая кровь. В последнее время она взяла за правило приносить бутылочку лауданума к столу и лить его в свое вино, не размениваться на такие мелочи, как счет капель. Пару раз я видела, как она прихлебывает из горлышка. Но лауданум плохой помощник в ее положении, и если таким образом она пытается облегчить свое бремя, то лишь здоровье погубит.
Зато я знаю, что может ее спасти. Роза называла мне с десяток разных трав. Асафетида, пижма, та же полынь — хоть что-то из этого отыщется в лондонских аптеках.
— Олимпия, постой! Я… я могла бы тебе помочь.
Кузина замирает. Впервые она выглядит не раздраженной и не осовело-счастливой, как после опийных капель, а какой-то обычной. Усталая, всеми позабытая старая дева в мятом траурном платье.
— Ты — мне? — усмехается она — Уж извини, Флоранс, но мне поздновато помогать.
— На вот, читай, — Ди сует мне письмо, и я пробегаю глазами по размытым от слез строчкам.
Любезная моя Дезире, слова не в силах выразить глубину отчаяния, испытанного мною, когда я не застал Вас в условленном месте и в тот час, который Вы сами изволили назначить. Я могу лишь строить догадки о причинах столь внезапного изменения Ваших намерений и уповать, что Ваши симпатии к недостойному Вас обожателю не ослабеют от уготованной нам разлуки, а перемена в обстоятельствах не повлечет за собой переворот в чувствах.
Да, Дезире, я возвращаюсь во Францию! Сразу по прибытии в Париж я вступлю в ряды защитников города и с оружием в руках буду оберегать его от германских орд. Но если Вы, подобно моему дядюшке, сочтете меня безрассудным юнцом, то будете далеки от истины. Природа наделила меня не только честью, но и честолюбием. Как Вам хорошо известно из газет, любезная Дезире, в начале сентября во Франции произошел государственный переворот. Имперский орел, годами клевавший печень честных тружеников, был наконец низвергнут. В эти дни, в дни великих свершений, моя родина нуждается в храбрецах, что займут место у кормила и поведут ее новым курсом. Это тот шанс, упустить который было бы преступной глупостью. Я верю — нет, я абсолютно уверен! — что в обновленной Франции сумею добиться многого. Снискав славу и обретя вес в обществе, я вернусь, дабы на коленях просить Вашей руки. Пока же я молю Бога о том, чтобы Вам хватило постоянства переждать разлуку.
В Париже я собираюсь остановиться в моем любимом «Отеле де Лувр» на рю де Риволи. Буду счастлив получить от Вас письмо, хотя ввиду тягот военного времени в нашей корреспонденции могут начаться перебои. Ваш пылкий поклонник,
Марсель Дежарден.
Кто бы мог подумать, что жениха у моей сестры отобьет сама Дева Марианна!
— Вдруг его убьют на войне, как папу? — рыдает Дезире и мечется по комнате, втаптывая кирпичную крошку в щели между половицами. Немного же пользы принесла ей магия вуду! — А коли не убьют, так он останется в этом своем Париже, а тамошние девки все как одна вертихвостки, мне бабушка говорила. Быстро его взнуздают. Почему ему в Англии не сиделось? Почему он бросил меня, Фло, чем я ему не угодила?!
— Ты хотела повязать нитку кузнечику на лапку, вот он испугался и ускакал. Туда ему и дорога, трусу.
— Нет, Марсель вовсе не такой! Он… ты его плохо знаешь!.. Это я виновата, это со мной все, все не так!
— Напротив, милая, ты всем хороша. Будут на твоем веку и другие женихи. Мы с мсье Эвереттом о тебе позаботимся. Ты достойна большего, чем этот великовозрастный мальчишка без пенни за душой. Забудь его, ладно?
— Забудь?! О, Фло, что же ты такое говоришь… Погоди-ка!
Трясущимися руками она открывает шкатулку и вновь достает медальон из чистого золота, но изрядно поцарапанный. Подарок от Марселя. Сестра несет медальон в пригоршне, благоговейно, как редкую жемчужину, мне же видятся две корявые устричные створки. Едва сдерживаю дрожь, когда безделушка падает мне на колени. Зачем она тут?
— На прошлой неделе я отстригла у Марселя прядь волос на память. Чувствовало мое сердце, что пригодится! Вот, погляди, — вытаскивает она из медальона черную прядь и подносит к губам. — Этого хватит, чтобы ты сделала приворот.
Я возмущена до глубины души.
— Приворот? На мсье Дежардена?
— Да, Фло. Пусть ему осточертеет Франция и он воротится сюда, ко мне. Верни мне моего любимого.
Опустившись на колени перед моим креслом, она с мольбой заглядывает мне в глаза — и я вижу себя. На том раскаленном добела перекрестке, перед облитой ромом и усыпанной табаком корягой. Неужели я тоже выглядела так нелепо и жалко?
— Если ты заинтересована в возвращении Марселя, почему бы тебе не сделать приворот самой? Ты крутилась рядом, когда Роза учила меня колдовать. У тебя получится не хуже моего.
— Нет, не получится! Тебе великая сила дана, ведь ты мамбо, ты избранница Барона, ты…
— Немедленно замолчи! — встряхиваю ее за плечи, пока она не назвала имя, которое я не считаю своим.
— Пожалуйста, Флоранс, что тебе стоит? Помнишь, ты сделала гри-гри тому негру-недоумку, груму в «Малом Тюильри», а потом неделю хвост распускала? Похвалялась, какая ты умница-разумница, как человеку помогла. Почему же ты не хочешь помочь мне, родной сестре?
— Роза говорила, что приворот — не детская забава, с такой магией шутки плохи, — втолковываю я. — Она источает сердце, лишает покоя, от нее попросту сходят с ума. Приворотом можно спасти семью, вернув загулявшего мужа, но никогда, ни при каких условиях не следует делать приворот на человека, который… который тебя совсем не любит.
Голова Дезире дергается назад, как от пощечины, и на щеках проступают алые пятна с неровными краями. Сестра встает, поправив сбившийся набок турнюр, и смотрит на меня сверху вниз, долго и молча. От тягостного молчания мне хочется втянуть голову в плечи, но я знаю, что должна быть тверда. Когда-то я принесла за нее жертву и намерена получить все, что мне причитается.
А причитается мне она. Она, Дезире. Это за ее жизнь я уплатила непомерную цену, и теперь она моя. Смерть никогда не упустит своего. Так почему же я должна уступить?
— Значит, не хочешь мне помогать, — подводит итог сестра. — Тогда я сама к нему поеду, раз уж его парижский адрес тут, в письме.
— Не вздумай! После такой дикой выходки он не возьмет тебя в жены.
— Что с того? Не женой ему буду, так любовницей — разница невелика.
Дезире вызывающе вскидывает подбородок, и гагатовые бусы подпрыгивают на ее пышной груди. Раньше траурные украшения не бросались мне в глаза, но сейчас я замечаю, что она увешана ими, как болотный кипарис — гирляндами испанского мха. Бусы с гагатовым крестиком, огромные продолговатые серьги-камеи, брошь в виде женской кисти, придерживающей венок, по три браслета на каждом запястье. Смерть тети для нее лишь повод обновить гардероб.
«Вот и всплыла правда про твою полуночницу-сестру».
- Нет, ты никуда не поедешь.
— Поеду. Или ты перехватишь меня на полпути, как давеча? — подбоченивается Дезире. — Впредь я буду шустрее, сестрица, не дам подкрасться ко мне со спины.
— Я найду тебя, где бы ты ни обреталась, и ты сама отлично это знаешь.
— А как ты меня найдешь? Как, Фло? Я не беглая посреди болот, чтоб спустить собак по моему следу… Или ты попросишь его, своего истинного жениха, приволочь меня силком и бросить у твоих ног?
— Может и попрошу.
Дезире привыкла добиваться всего нахрапом, оглушая оппонента истошным криком и сбивая с толку одним лишь масштабом своих притязаний. Но со мной этот номер не пройдет. Я-то знаю, что лишь тот выигрывает в битве, кто сможет дольше сохранять спокойствие. Как Джулиан Эверетт. Его главное оружие — улыбка, которая показалась бы жалкой гримасой, если бы за ней не скрывались невозмутимая мощь и способность в любой миг покарать ослушника. Вот так мы, белые, вершим дела.
Неужели ты еще этого не поняла, Дезире? Глупая моя сестренка, как же я тебя отпущу?
— Ты останешься здесь, — спокойно, без лишних драматических эффектов, говорю я. — И дождешься, когда я выйду замуж за мсье Эверетта, после чего у тебя появится и приданое, и репутация, и все, что пожелаешь. И вот тогда ты найдешь себе мужа, способного оценить тебя по достоинству.
— По достоинству? — восклицает Дезире, теребя бусы. — О господи, Фло, неужели ты сама веришь в эти сказки? В то, что хоть кто-нибудь пожелает взять меня в законные жены? Посмотри на меня, сестра. Увидь ты, наконец, кто я на самом деле. Я — квартеронка, я — бывшая рабыня, и мужчины хотят от меня только одного. И они правы. Я не богата и не знатна, не умна и не могу, как ты, рассуждать о книжках часами напролет, поэтому им нужно только мое тело. Ну и пусть берут что хотят. Я вещь, а вещи для того и нужны, чтобы ими пользовались.
— Почему же ты раньше мне не сказала, что предел твоих устремлений — стать чьей-то place?
— В таком случае ты не взяла бы меня в Лондон. Что, сестричка, удивлена?
Не то слово. В каких только грехах я не подозревала Дезире, но только не в том, что она с самого начала замыслила меня провести. Не только Нанетт и Селестину, но меня! Ведь мы же заодно. Мы же сестры.
— Я хотела урвать кусок побольше да проглотить, покуда не отняли. Я хотела все и сразу — наряды, вальсы, шампанское, потому что хорошее не может длиться долго, о, я же знаю! Мне нужно было одно — подцепить какого-нибудь лорда, любителя свежего мясца, чтобы он снял мне квартирку в доме с белыми стенами и возил меня на Ривьеру, а взамен вытворял с моим телом все что пожелает. Я бы все, все ему позволяла! И надо же мне было втрескаться в Марселя!
Губы сестры кривятся, и злобный оскал превращается в жалкую, испуганную улыбку, которая, впрочем, не вызывает у меня сострадание. Только гадливость.
— Я готова жить с ним на чердаке и давиться черствым хлебом или стать его полковой женой и скитаться с ним по гарнизонам. Ты бабочка, Флоранс, ты ночная бабочка с синими крыльями, а я мотылек-подёнка, но у меня тоже есть чувства. Отпусти меня к нему.
— С какой стати мне тебя отпускать?
«Признайся, Ди, — молю я про себя. — Скажи мне правду, и я клянусь, что провожу тебя на вокзал, а сама останусь махать платком на перроне. Это ты сделала? Чтобы не дать Иветт оклеветать тебя перед Марселем, чтобы спасти свое мишурное счастье? Убила ее, как только вернулась с запоздалого свидания? А выходя из комнаты, увидела, как я бьюсь в припадке, — и прошла мимо? Это, по крайней мере, объясняет, почему убийца пощадил меня, а не прикончил как лишнего свидетеля. Ты сохранила мне жизнь — а я сохраню твою. Олимпия права: Скотленд-Ярд не сунется в то пекло, каким сейчас является Франция, и там ты будешь надежно защищена от мистера Локвуда и иже с ним. «По мне, так это обычное желание — защищать своих»./em> Помоги мне отпустить тебя, Дезире. Дай мне повод».
— Потому что это моя жизнь, — печально, но твердо отвечает сестра. — Моя и ничья больше. И я вольна распоряжаться ею так, как хочу. Пойми же это, Фло. И освободи ты меня, наконец.
Неправильный ответ.