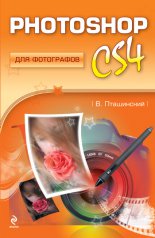Невеста Субботы Коути Екатерина
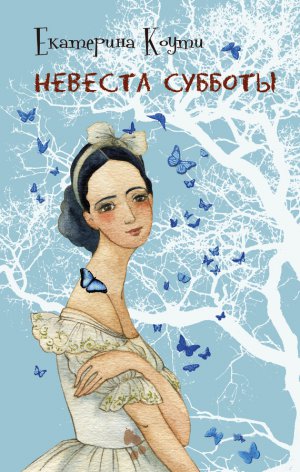
Правда подобна хромому ослу, и далеко на ней не уедешь, особенно если кожа у седока черная. Так, по крайней мере, она объясняла, почему в глаза хозяйкам говорит одно, а стоит им отвернуться — совсем иное. Меня Роза уверяла, что раз уж приходится мне скорее наставницей, чем нянькой, в наших отношениях вранью не будет места. Мне-то она расскажет все без утайки — и про себя, и про принципы, на коих зиждится мироустройство, и про то, как извлечь из этих принципов выгоду или как с их помощью отвести беду. Она станет моим проводником в мире непознанного. Ни «Букварь Эпплтона», ни катехизис меня такому не научат. Рассказывала Роза много. До сих пор помню наши разговоры, особенно те, что велись на свежем воздухе. Нянька сидит на плетеном стуле и штопает мой чулок. Слово — стежок, слово — стежок. Говорит она вполголоса, но, кажется, все вокруг прислушивается к ней. Стрекот цикад смолкает, ритмичное пение рабов на поле затихает почти до шепота. Или это только нам так кажется, уж очень мы поглощены рассказом?
Я лежу в гамаке, натянутом между деревянными колоннами на веранде. Ди распласталась на дощатом полу и подпирает кулачками скулы, от чего щеки наползают на глаза, а губки смешно топорщатся, придавая ей карикатурно-негритянские черты. «Лучше б ты такой и родилась, погань мелкая!» — замечает бабушка, возвращаясь из конторы. Вслед за ней семенит черный мальчуган, неся ее гроссбух — почтительно, на вытянутых руках, словно Святые Дары. «О чем ты тут раскудахталась?» — расспрашивает бабушка Розу, и та, вскочив, отвечает: «Дак сказку рассказываю, мадам, как Братец Кролик надурил Братца Лиса». Мы с Ди поддакиваем. Проворчав, что работать надо, а не языком молоть, бабушка уходит в сопровождении своего алтарника. Роза кланяется ее тени и возвращается на место. «На чем мы остановились?» «На том, как снимать порчу», — с готовностью отвечаю я. «Ах, да, — говорит няня, всаживая иголку в чулок. — Снять порчу, как и навести ее, есть способов немало…»
О себе Роза тоже любила поговорить, но расставляла многоточия то там, то тут.
Родилась она не в Джорджии, а на острове Гаити в 1823 году. Ровно через тридцать лет после того, как там отменили рабство. Отец ее принадлежал к числу gens de couleur, свободных чернокожих, и получил образование в Париже, как и многие другие сыновья плантаторов. В отличие от наших соседей, тех же Мерсье, что без зазрения совести продавали с молотка своих отпрысков-мулатов, плантаторы на Гаити (тогда еще Сан-Доминго) отличались большей щепетильностью. Дать вольную и наложнице, и детям было обычной практикой. Своих цветных дочерей плантаторы обеспечивали приданым, сыновьям помогали встать на ноги и обзавестись имением. А где плантация, там и рабы.
К своим рабам gens de couleur относились с подчеркнутым презрением и драли с них три шкуры даже в тех случаях, когда белый хозяин проявил бы снисходительность. Трудно было забыть, что их деды рубили тростник и собирали кофе, а их самих та же участь миновала исключительно благодаря родительскому распутству. Такие мысли отравляют существование. А если господин вечно недоволен, то и рабам приходится несладко.
Молодого мулата, отца Розы, занесло в Париж в конце 1780-х, когда там зрели революционные настроения. В 1790-м он вернулся на родину завзятым республиканцем. И к смятению своему, стал свидетелем того, как французы заодно с gens de couleur устраивают охоту на противников рабства. Что бы там ни творилось во Франции, а господа из Сан-Доминго и не думали отпускать на свободу негров. Кто тогда будет работать на плантациях?
Не дожидаясь, когда у соплеменников проснется совесть, в 1791 году рабы сами подняли восстание. Началось оно с языческой церемонии. Под бой барабанов мятежники передавали по кругу чаши со свиной кровью и клялись перебить угнетателей всех до единого. Отец Розы, хоть и числился католиком, тоже примкнул к восставшим. Во время одной из вылазок он сдружился с черным парнишкой, ставшим впоследствии его верным боевым товарищем. Вместе они сражались под началом Туссена-Лувертюра[21], а когда тот захватил власть над Сан-Доминго, радовались тоже заодно. Однако радость была преждевременной. Французы заманили вожака мятежников в ловушку, а на дерзновенный остров Наполеон спустил чудовище в эполетах — виконта де Рошамбо.
Каким только казням французский генерал не подвергал повстанцев! Их не только расстреливали и вешали, но и варили в котлах с патокой, засекали до смерти, живьем закапывали в землю. Однако жестокости Рошамбо возымели противоположный эффект: от французов открестились даже их сторонники-мулаты. Объединившись, все жители острова дали захватчикам отпор и разгромили их в 1803 году.
Именно тогда, в битве при Ветье, погиб лучший друг Розиного отца. А перед смертью просил разыскать свою сестру и позаботиться о ней, что и было сделано. Год спустя родители Розы обвенчались. На свет они произвели восьмерых детей, и Роза была младшей.
Рассказы о семье Розы я слушала, как сказки Шахерезады в переводе Антуана Галлана. Мятежи, чаши со свиной кровью, могилы, где, присыпанные землей, шевелятся еще живые люди, — все это смахивало на выдумку!
Еще больше я любила слушать о ее земляках. Конечно, я знала, что и в Новом Орлеане проживает немало gens de couleur, чье прадеды получили свободу в прошлом столетии. Мужчины держат лавки и торгуют табаком, тканями, галантерейным товаром, а женщины, бывает, и чем иным приторговывают. Бабушка на чем свет стоит ругала «квартеронских шлюх», что становятся places — содержанками белых богачей, — и, как я понимала из разговоров взрослых, мой папа недаром подолгу задерживается в Новом Орлеане… Однако так далеко меня не вывозили. «Азалия» Валанкуров севернее и «Малый Тюильри» южнее — то были границы моего мира. Негр-вольноотпущенник здесь был редкой птицей, а мулаты с достатком обходили нашу глушь стороной — и правильно делали. Тем удивительнее казалось существование мира, где чернокожие рождаются свободными. Все как один. Мне проще было поверить в джиннов и пери, чем в эдакую вольницу, но слушала я с неугасимым интересом.
Семейное счастье родителей моей нянюшки было бы полным, если бы не ее бабка. По слухам, бабка приходилась дочерью самому Франсуа Макандалю, жрецу, наводившему ужас на белых в середине прошлого века. Правую руку Макандаль потерял в давильне, когда перемалывал тростник, но сноровки у него не стало меньше, а злоба на господ утроилась. Он подстрекал рабов бежать с плантаций, и если б только бежать! Знаток ядов, Макандаль подучивал их готовить отраву и подсыпать в еду хозяевам, чтобы те умирали в страшных муках. В середине XVIII столетия дерзкого мстителя схватили и сожгли на площади, а на казнь согнали рабов со всего острова. Пусть поглядят, как заканчивают дни смутьяны. Пусть своими глазами убедятся, что Макандаль не был всемогущим колдуном, какого даже пламя не берет. Всякая плоть горит одинаково. Но Розина бабка клялась, что, охваченный пламенем, Макандаль не погиб, а превратился в комара и улетел с эшафота. А затем уж он нагонял тучи москитов, чтобы те несли в стан французов желтую лихорадку. И по сей день «повелитель ядов» бродит по Гаити, принимая обличье то игуаны, то лохматого черного пса, то коня, что неистово бьет копытами, то ночной бабочки…
Так все было или нет, но своим предком бабка гордилась, поэтому сразу невзлюбила зятя. Ей претил цвет его кожи. Мулат, говаривала она, все равно что кофе с плевком. Кто станет пить кофе после того, как туда харкнул белый? Да и как позабыть предательство мулатов, которые лебезили перед французами, а черных пинали, точно шавок?Всегда норовили урвать свой кус. Кому война, кому мать родна. Надо было Дессалину и мулатов под нож пустить, когда он вычистил остров от белых[22].
С рождением детей встал вопрос, в какой же вере их растить. Зять считал себя католиком, хотя не исповедовался лет десять, а теща… она ту свиную кровь по чашам разливала. И Розу, последнее дитя, делили так, что она чуть не трещала по швам. Отец требовал, чтобы она, подобно трем старшим сестрам, стала благонравной женой, чтобы много рожала и укрепляла с трудом завоеванное народное счастье. А бабушка зазывала ее по своим стопам. Должен же хоть кто-то в семье сохранить древние традиции. Розе же хотелось лишь одного — развлекаться. Желательно с мальчиками. И еще желательнее — с симпатичными.
Не перечесть, сколько раз она была бита за то, что бегала в порт зубоскалить с юнгами. Ни ругань, ни удары бамбуковой тростью — ничто ее не брало. Она твердо решила, что свое от жизни урвет. Не станет брюзгой, как папа, или ссохшейся, пропахшей ромом и асафетидой старой перечницей вроде бабули. В свои тринадцать лет она была полна амбиций.
В порту ее и подкараулил матрос с судна, приплывшего за единственным продуктом, который тогда экспортировал Гаити, — кофе. Последним ее ощущением была боль в затылке, от которой мир хрустко треснул и распался на осколки, а пробудилась девочка от запаха кофе. Густого, невыносимого. Казалось, что она утонула в огромной кофейной чашке и, как кусок сахара, тает на дне, растворяясь в удушливо-благоуханной тьме. Там, в трюме корабля, среди набитых мешков, ей предстояло коротать неделю, а может и две. Когда ее вытаскивали на палубу, она жадно хватала ртом воздух, и даже зловоние гниющих водорослей и запах немытых тел казались ей изысканным ароматом.
Вытаскивали ее по нескольку раз на дню, а ночью и того чаще. Дважды она пыталась выброситься за борт, но в первый раз остановилась, разглядев в воде скошенные треугольники акульих плавников. А во второй, когда уже перевесилась через гнилую балку, ее поймали и втянули обратно. За голые ноги. Одежду у нее сразу отобрали.
На этом месте Роза обычно умолкала. Ее губы, тоже черные, а не розовые, как у других негритянок, беззвучно шевелились, словно она не могла не продолжать, но пугать меня тоже не хотела.
— …В следующем порту меня продали в рабство.
— Отчего же ты не сказала, что вольная?
— Кто бы мне поверил?
— А домой написать?
— Кто бы отослал мое письмо? Да и не принял бы меня отец восвояси — бесчестную.
— А что же дальше? — допытывалась я, ожидая, что она вспомнит еще какую-то интересную деталь.
— Все то же, о чем я рассказала твоим. Сначала Джорджия, потом Алабама. Потом меня продали сюда.
— Ну, а грабители? А то, как ты не выдала, где деньги? Про это же ты не соврала, да, Роза?
— Конечно, тут-то все чистая правда, — не сморгнув, отвечала она, а я радовалась, что, если нападут на нас разбойники, нянька обязательно меня защитит даже ценой другой щеки.
Лучше бы она сразу сказала, откуда на самом деле взялись те ожоги! Тогда бы я не стала слушать дальше и бросилась бы наутек из детской.
Но Роза никогда бы не допустила такую оплошность. Я была нужна ей. Ученица, подруга, дочь, которой у нее никогда не было, дитя с колдовским даром — я стала для нее всем сразу. И приручала она меня постепенно. Вымачивала мою душу в яде, как фрукты вымачивают в роме, чтобы и дамы могли вкусить крепкий напиток, не нарушая приличий. Надкусишь — во рту расползается осклизлая пьянящая мякоть.
Я сижу с открытой книгой на коленях и смотрю на черно-белых чудовищ, что волокут корзины с лакомствами. Наверное, я тоже такая. Жрица-недоучка. Искусительница с корзиной сладкой отравы. Черно-белое чудовище.
Знаешь ли ты, Джулиан, с кем связался? И нужна ли тебе такая женушка? Ведь секрет мой ты так и не разгадал.
Глава 5
Вскоре я начинаю чувствовать себя так, словно мы с мистером Эвереттом знакомы не без года неделю, а целую вечность. Будто мы выросли по соседству, в детстве играли в салочки, а подростками целовались под омелой и обменивались валентинками — кажется, так англичане выражают друг другу приязнь.
Порой я сожалею, что все это лишь фантазии. Если бы мое детство прошло под знаком Джулиана Эверетта, я стала бы совсем другим человеком. Хотя, наверное, это вообще была бы не я. Так что и рассуждать не о чем.
Тетя Иветт пускает дело на самотек и слагает с себя обязанности дуэньи. Объясняет, что слишком занята: она и вправду часто отлучается из дома, чтобы встретиться со своим стряпчим. Однако я склонна рассматривать ее равнодушие под иным углом. Будь я нежной, едва распустившейся розой, меня бы стерегли как следует, но раз уж я — товар лежалый, тетушка рассчитывает поскорее сбыть меня с рук, не считаясь с этикетом. На прогулки с мистером Эвереттом я частенько хожу одна да и дома беседую с ним тет-а-тет. «Не нанимать же для вас миссис Дженерал»[23], — отшучивается мой суженый.
Впрочем, Иветт и так знает, что он не покусится на мою честь. Джулиан Эверетт — джентльмен без страха и упрека. Если бы мы по прихоти судьбы оказались в одной постели, вместо меча он положил бы между нами свою трость с набалдашником в виде спящего бульдога. Прошлой субботой, когда мы прогуливались по ботаническому саду Кью, Джулиан, не глядя на меня, согнул левую руку, а я, не глядя на него, подсунула ладонь ему под локоть. То был самый интимный жест, какой мы пока что себе позволяли.
Что за контраст с креолами! Наши страсти кипят, как адская смола, лишают рассудка. А чувства Джулиана ко мне похожи на чай — горячий, но не обжигающий нёбо, в меру сахара и молока. Таким хорошо согреться, вернувшись промозглым вечером с прогулки. Как раз то, что мне сейчас нужно.
Щепетильный до мозга костей, Джулиан не засыпает меня комплиментами, зато всегда готов выслушать и помочь советом. С ним не приходится ждать словесной подножки. А какие подарки он мне дарит! Недостаточно дорогие, чтобы выставить меня охотницей за роскошью, но всегда продуманные, подобранные под меня.
Я показываю Джулиану несколько карандашных зарисовок — виды на Миссисипи, тростниковые поля, закат над болотами, — а через день посыльный доставляет мне альбом для рисования в модном переплете под позолоченную бронзу. Я сознаюсь, что близорука и не могу в деталях разглядеть костюмы актеров на сцене — Джулиан приносит в театр прелестную штучку, дамский бинокль в перламутровой оправе. Расспрашиваю его о поездках по Италии, которую он исколесил вдоль и поперек, — и в награду за любознательность получаю атлас. Джулиан просит меня карандашом пометить те места, которые, с его слов, пробудили мой интерес. Зачем? «Когда-нибудь я это узнаю», — загадочно улыбается даритель.
Олимпия предлагает мне складывать все подарки в отдельную коробку — проще будет возвращать, если у нас с мсье Эвереттом ничего не выйдет!
Каждый визит Джулиана вызывает у Ди бурю восторгов, ведь за ним, как на буксире, следует племянник. Убедив себя, что виноград зелен, я уже не заглядываюсь на Марселя Дежардена. Разве что изредка полюбуюсь, как играют его мускулы, когда он подсаживает Дезире в седло.
По нескольку раз на неделе он зовет Дезире кататься верхом по Роттен-Роу в Гайд-парке, где они будоражат своим смехом других, более сдержанных наездников. Сестра держится в дамском седле уверенно, будто сидит на диванной подушке. Прямая осанка, горделиво приподнятый подбородок, туго завитые локоны рассыпались по плечам и мягко подпрыгивают от каждого движения. Когда она пускает коня рысью, английские джентльмены сворачивают шеи, провожая ее взглядом. Другой на месте Марселя свирепо таращил бы глаза, но он настолько уверен в своей неотразимости, что мало кого считает за соперника. Знаки внимания, оказываемые его спутнице, лишь ласкают его самолюбие. Выходит, что на скачках он взял первый приз.
«Французы, что с них взять», — говорит про них Джулиан. С такими же улыбками — эх, дети природы! — мы с Аделиной наблюдали за рождественским пиршеством негров, когда по рукам ходит блюдо с жареным поросенком и баклажка с ромом, а после того, как едоки набьют животы, наступает время танцев, и под барабанный бой Самбо пускается в пляс с Молли, а Зип выделывает коленца, чтобы впечатлить гордячку Хлою. Ах, забавы старины!
Меня отчасти задевает, что в глазах Джулиана мы такие же милые, смешные дикари, каковыми считают негров. Однако же его снисходительность мне больше по сердцу, чем все те штуки, какие откалывал Жерар. Вот уж кому всякое лыко было в строку. За любую промашку взыскивал.
Неделя тянется за неделей, и наши отношения с девицами Ланжерон тоже теплеют. А сплачивает нас, как это ни странно, война. Каждое утро мы вырываем друг у друга газеты, чтобы прочесть о развитии событий во Франции. Немцы неумолимо движутся на Париж, и от этих страшных вестей в наших жилах вскипает кровь. А когда мы узнаем, что парижане валят Булонский лес, готовясь к обороне города, никто не может сдержать рыданий — как будто это наш сад порубили на дрова. С карандашом наперевес Мари листает газеты и выписывает имена погибших офицеров. Этими списками она делится с подругами, такими же пылкими католичками, и вместе они устраивают молитвенные собрания. Беда Франции становится нашей бедой. Значит, у нас есть хоть что-то общее.
Вечера мы проводим в гостиной в обществе дам Ланжерон. Тетушка греется у камина, кромсая серебряным ножиком страницы романа. Олимпия играет на фортепиано, усердно, как механическая кукла, а Дезире заливается соловьем, выводя сентиментальный романс или какую-нибудь из арий Оффенбаха. Мари, вопреки своему имени похожая на хлопотунью Марфу, сама варит нам кофе. Настоящий, правильный кофе. Согласно креольской поговорке, он должен быть «черным, как дьявол, горячим, как ад, чистым, как ангел небесный, и сладким, как сама любовь».
Но о дьяволе в присутствии Мари лучше не упоминать. Набожность играет в ее душе, как молодое вино в мехах, и я отгоняю от себя мысль, что когда-нибудь вино превратится в уксус. В одно из воскресений я наблюдаю, как Мари вместе с шиллингом сует в корзину для пожертвований сложенный вчетверо листок и смущенно улыбается мальчику-служке. Тот понимающе кивает. «Требу заказываешь?» — шепотом спрашиваю я, а кузина прикрывает рот перчаткой. «Нет, просто письмо. К ангелу-хранителю», — и глаза ее сияют от радости.
В отличие от сестры, Олимпия себе на уме. Ей по-прежнему трудно выносить присутствие Дезире, которая хорошеет день ото дня. Иногда кузина ездит с нами на прогулки и в театр, но все больше отмалчивается. А если ее сопровождает жених мсье Фурье, то она молчит особенно зловеще, словно призрак, объявившийся на своих похоронах.
Олимпия не делает секрета из того, что ее грядущий брак — не более чем союз двух кошельков. Вниманием жениха она тяготится, тем более что оно исчерпывается шуточками, которые мсье Фурье отпускает по любому поводу. Он считает себя светским острословом и не устает радовать нас своими bon mots. «Может, на дуэль его вызвать?» — предлагает Марсель после того, как мсье Фурье использовал новую шляпку Олимпии как оселок для своего остроумия. Сдвинув густые брови, кузина обдумывает это предложение. Долго и всерьез.
В конце сентября мсье Фурье пропадает из виду. «Во Францию укатил, по делам», — буркает мадам Ланжерон. Тотчас забыты все обиды. Мужество мануфактурщика потрясает наше воображение. Неужели он примкнул к защитникам Парижа? Или, располосовав на бинты весь свой запас хлопка, умчался помогать солдатам, раненным в битве при Седане?[24]
Через неделю после его таинственного исчезновения мы с Ди замечаем мсье Фурье в Ковент-Гардене.
Едва не вываливаемся из ложи, пытаясь разглядеть на круглом лоснящемся лице следы картечи. А следующим утром в «Иллюстрированных лондонских новостях» появляется реклама:
ПАНИЧЕСКИЕ ЦЕНЫ!!!
ДЕШЕВЫЕ ШЕЛКА у ГИЛДРИДЖА и ФУРЬЕ.
Черные и разноцветные, однотонные и с узором.
Военная паника позволила господам Гилдриджу и Фурье закупить в Лионе высочайшего качества ткани по самым дешевым ценам с 1848 года.
Приходите и убедитесь сами!
Понятно, что всяк ищет выгоду где только может, но меня передергивает от омерзения, словно на моих глазах стервятник когтит дохлого опоссума. Бедняжка Олимпия! Мистер Эверетт не стал бы наживаться на чужом несчастье — это я знаю твердо.
Возвращаясь домой после субботней прогулки в Кью, я не могу удержаться, чтобы не завести разговор о добродетелях. Мне любопытно, как обернулась бы жизнь Джулиана, родись он в Луизиане. Неужели щелкал бы плетью да тискал мулаток по углам?
Конечно же нет! Отнюдь не все плантаторы были жестоки, и если оставить в покое наши низовья, я бы даже сказала, что нравственных людей среди них было больше, чем дурных. Взять хотя бы Валанкуров. В любое время суток мадам Валанкур бежала в негритянский поселок, чтобы принять роды у исстрадавшейся молодой матери или влить микстуру в беззубый рот дедушки Сиза или тетушки Фиби. И крепко же доставалось Эдмону и Аделине Валанкур, если они забывали сказать «спасибо» негритенку, разливавшему за завтраком кофе!
— Давно хотела спросить, мистер Эверетт, как так вышло, что из прожигателя жизни вы преобразились в хорошего человека? — вопрошаю я, поправляя на голове крохотную и плоскую, как оладья, бархатную шляпку.
— Вы слишком снисходительны ко мне, мисс Фариваль, — смеется он, хотя слепому понятно, что он весьма польщен.
Заботливые мужчины тоже падки на лесть. В глубине души им хочется, чтобы окружающие признали их заслуги.
— Ничуть. Я шнурки на ваших ботинках завязать недостойна. Ну так что? На вас повлияла смерть сестры?
— Скорее, знакомство с мистером Гладстоном[25]. Наша королева его недолюбливает, но премьер — поистине великий человек. Жаль, что нашу эпоху, вероятно, назовут «викторианской», а не «гладстонианской», потому как не многие способны оценить масштаб его личности. Мы, островитяне, любим соленую шутку, а мистера Гладстона Господь обделил чувством юмора. Но это не мешает нашему премьеру бороться за автономию Ирландии и совершать другие благие дела.
— Какие, например?
— Например, спасать падших женщин.
Джулиан испытующе смотрит на меня — уж не запылают ли мои щеки? Еще чего! Выходцев с плантации ничем не проймешь, мы и не такое видывали. Ободренный, он продолжает:
— На этой, прямо скажем, тернистой почве мы с ним и сошлись. Меня увлекли рассказы о том, как мистер Гладстон после парламентских сессий бродил по улицам и убеждал падших оставить стезю порока. Он устраивал их в дома призрения, подыскивал им честные занятия. Встретив мой живейший отклик, мистер Гладстон вовлек меня в свою деятельность — и жизнь моя изменилась. Я понял, что «действовать справедливо и любить дела милосердия»[26] на самом деле вполне осуществимый план. И что вести себя хорошо — это и в правду хорошо.
Его слова очаровывают меня, как некогда байки Розы о ее детстве на Гаити. Иные миры. Они похожи на отражение моего мира, но не в зеркале, а на боках мыльного пузыря. Отражение зыбкое и хрупкое, в радужных разводах. Притронешься к такому миру — и он лопнет, осядет каплями на кончиках пальцах. Безопаснее любоваться издали, но я не могу удержаться.
— Я хочу помогать вам, мистер Эверетт, — застенчиво говорю я, разглядывая крохотные пуговки на желтых лайковых перчатках. — Если вы, конечно, не сочтете меня помехой.
— Что вы! — восклицает Джулиан. — В таком случае я приглашаю вас посетить приют Магдалины, замечательное заведение, которое я имею честь курировать. Бывших блудниц там приучают к честному, достойному труду.
— С превеликим удовольствием.
— Условились! — И он отцепляет попону, прикрывавшую мою юбку от брызг.
Кеб остановился у дома тети Иветт. Иногда, заговариваясь, я называю его своим домом.
— Передайте мадам Ланжерон, — мимоходом говорит Джулиан, помогая мне сойти с приступки, — что я прошу уделить мне пару часов ее драгоценного времени. Нам нужно кое-что обсудить.
По его довольной улыбке я догадываюсь, о чем пойдет речь. Тетя Иветт выступает моим опекуном in loco parentis, посему мою руку он будет просить у нее. Складывается впечатление, будто девичья рука есть не что иное, как палка колбасы, которую опекун, точно лавочник, берет с полки и предъявляет платежеспособному покупателю по первому требованию!
На меня накатывает внезапная обида. Мне двадцать три года. Давно уже совершеннолетняя, чтобы не сказать — перезревшая дева. Мог бы начать с меня, в самом-то деле. Любые вопросы, в том числе и достаточно деликатные моменты, связанные с брачным договором, я обсудила бы с Джулианом за милую душу, а заодно расспросила его о состоянии финансов Марселя. Их с Дезире отношения развиваются столь же стремительно, что и наши, и меня уже не раз посещали видения двойной свадьбы.
Но пререкаться — не в моей природе.
— Хорошо, мистер Эверетт, я поговорю с тетушкой.
Обменявшись рукопожатиями, мы расстаемся.
В прихожей я сбрасываю плащ на руки Нэнси и собираюсь идти в гостиную, откуда раздаются стоны мучимого Олимпией пианино. Однако служанка сообщает мне, что мадам ожидает меня в своей опочивальне. У нее ко мне какое-то срочное дело. Подхватив юбки нового платья — бирюзового, Ди и Марсель битый час нахваливали мне этот цвет, я взбегаю по лестнице. Запыхавшись, прикладываю руку к груди. Сердце любопытным птенцом трепещет под ладонью. В моей жизни начинается новый этап — отчасти пугающий, но такой желанный!
— Не заперто, — отзывается на стук Иветт.
Прикрываю за собой дверь, чуть не прищемив шлейф. Спальня тети огромна, здесь есть место и кровати, и столу из мореного дуба с десятками полочек и ящичков. Тетушка сидит за столом, быстро водя металлической «рубиновой» ручкой по листку бумаги. Платье на ней красное с черным отливом, под стать пламени за каминной решеткой. Расчесанные на пробор волосы прикрыты кружевным фаншоном[27].
— Звали меня, тетенька?
— Звала. Поди сюда.
Подхожу к ней, лавируя между тонконогими столиками и массивными мраморными тумбами — тут причудливая статуэтка, там «ящик Уорда» с папоротниками. Не спальня, а лавка древностей.
— Преклони колени.
Выполняю, что мне сказано, и готова поцеловать руку, которая осенит меня крестным знамением. Миг настал.
Не вставая, тетушка наклоняется вперед и вместо благословения дает мне пощечину. Промельк белой кожи — жгучая боль — и тьма. Сердце пропускает удар, и за этот миг во тьме вспыхивают синие зарницы.
— Наглая лгунья! — шипит тетя, отдергивая руку. — Кого ты приволокла в мой дом?
«С прискорбием вынуждена добавить несколько строк касательно некоей Дезире, цветной служанки, приставленной к моей дочери. Служанка сия есть нечто иное, как распутное, низменное создание, бывшая рабыня и плоть от плоти безнравственной матери. Рука моя дрожит, когда я пишу сии строки, однако я не могу не упомянуть, что по крови она — квартеронка! Думаю, мадам, Ваш опыт и знание жизни позволят вам самой сделать надлежащие выводы о тех обстоятельствах, в коих была она зачата. Упомянутая особа сочетает в себе все пороки, присущие ее расе, как то леность, вздорный нрав, пагубное пристрастие к роскоши и дерзость, коя, не будучи вытравленной на корню, принимает поистине устрашающий размах. Как сказано в Писании, «Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями»[28], посему заклинаю Вас, мадам, сразу же пресечь ее попытки «прыгнуть выше головы». В противном случае я трепещу от одной только мысли о том, что присутствие оной особы развратит Ваших дочерей».
Двумя пальцами, словно боясь замараться, тетя Иветт забирает у меня письмо и кладет в плоскую хрустальную вазочку. О, если бы взгляд мог испепелять! По краям письма поползла бы черная хрусткая бахрома, аккуратный мамин почерк исчез бы в клубах дыма.
В панике у меня отбивает память, но я готова поклясться, что давала Ди поручение поговорить с горничными. По-свойски, она же умеет. Отрез шелка на воскресное платье, брошка там какая-нибудь, перчатки — много ли надо, чтобы купить дружбу служанки? А девушки пусть передают нам все письма из дома. Мадам Ланжерон не должна увидеть ни строчки.
И надо же было попасть впросак!
— Квартеронка! — Шея Иветт дрожит, как у индейки. — Квартеронка! Чтобы обуздать этих тварей, еще в конце прошлого века их обязали носить тиньон! Так что ты думаешь? Навертит бестия на голову шелков да тафты, перьев понатыкает и идет по улице, задницей крутит! А за ней мужчины трусцой, будто кобели! Или ты не слышала о балах квартеронок в Новом Орлеане, на которых продажные твари искали себе патронов?
Еще б не слышала. Но Дезире — не такая, как те распутницы! Ничуть на них не похожа.
— И как я сама не догадалась? Ведь при мне же она, подлая, строила глазки мсье Дежардену! Вот кто будет локти кусать, узнав, что доступную девку принял за недотрогу! Такой кинь бусы и делай с ней что хочешь.
Возразить мне нечего. Марсель Дежарден — само обаяние, он остроумен и галантен, как мушкетер из романов Дюма. Скорее бросит свой плащ даме под ноги, чем подпустит к ней оборванца с метлой, чтобы тот расчистил слякоть. Однако его легкомыслие граничит с бесчувственностью.
Однажды он пригласил нас в Сент-Джеймс-Холл послушать «менестрелей Кристи». Сказал, что будет весело — обохохочешься. И что же вы думали? На сцену выбежала шестерка перемазанных ваксой певцов, которые, кривляясь и наяривая на банджо, все два часа услаждали наш слух песенками вроде «Пересмешника» и «Весточек из дома». Завершился вечер водевилем «Опера черномазых, или Негритянка-сомнамбула». Кто как, а я живот не надорвала. Заскучавший Джулиан щелкал пальцами и приговаривал «да уж», зато Марсель и Ди аплодировали так, что перчатки треснули. А на выходе Марсель спросил Дезире, играет ли она на банджо. В шутку спросил, но улыбка сразу сползла с ее лица…
— А твой мсье Эверетт? Ему-то каково будет узнать, что он расшаркивался перед рабыней! Папаша его держал хлопкопрядильные фабрики в Белфасте. Спроси, на чьей он был стороне в тысяча восемьсот шестьдесят втором году: южан, которые поставляли ему хлопок, или чертовых янки, взвинтивших цены до небес? Думаешь, сын такого человека захочет рабыню во свояченицы?
Джулиан Эверетт — человек широких взглядов, но он не простит мне ложь. И какую! Дерзкую ложь, упрямую, обрастающую подробностями, как черствый хлеб плесенью. Нам с Ди доставляло удовольствие дополнять рассказы о детстве несуществующими подробностями. Что мы делали, где бывали. Как вместе отмечали именины, устраивая пикник под разлапистым виргинским дубом. Какие подарки получали на Рождество. Не молчать же нам, когда Олимпия хвастается напропалую. Теперь наши милые враки покажутся Джулиану симптомами неистребимого криводушия, а меня, старшую, он сочтет коноводом.
И бросит меня, конечно. Бросит, бросит, бросит! Под руку с такой, как я, нельзя «смиренномудро ходить пред Богом».
Пытаюсь нащупать голос, но вместо отповеди получается какой-то скулеж:
— Что же мне делать, тетенька?
— Раньше думать надо было. Поздно нюни разводить.
Тетя смотрит на меня, как возница на кролика, чью лапу задело колесом телеги. Пусть себе уползает в кусты да там и сдохнет. Или добить из милости?
— Врать у тебя получалось куда складнее, чем оправдываться. Стану я тебе помогать, как же! Больно надо. Своим умом живи, раз такая выжига.
Горло сжимает спазм. Будто я не понимаю, что я дурнушка двадцати трех лет от роду и мое состояние мимолетно, недолговечно, каким, по сути, и является сахар. Случись беда, и все мои деньги растворятся в ней, как белые крупицы в воде. Только сладковатый привкус останется.
На меня было возложено столько надежд — а я их не оправдала. Ни одной!
— Я, конечно, могла бы тебя простить. — Голос тети выводит меня из ступора. — На первый раз.
— Могли бы?
— Уж сделала бы скидку на молодость да глупость. Историю эту можно замять тихо, без последствий. Мне, как понимаешь, скандал тоже ни к чему. Если обо всем узнает мсье Фурье… — Она возводит очи горе.
— Что же вы предлагаете?
— А вот что. Завтра я отправлю Олимпию с Мари не на обедню, а на заутреню. Что я, дура, им рассказывать? Мари теля телей, только прослезится, зато уж Олимпия вся в меня, достоинства не уронит. Если узнает, что я сажала ее рядом с рабыней, она мне вовек этого не простит. Знать девочкам ничего не нужно. Сами разберемся.
Ослепившая меня надежда тускнеет. Я пугаюсь ее слов.
— В девять утра пошлю за экипажем. Этой потаскушке как раз хватит времени пожитки собрать. Посадим ее, голубушку, в карету и пусть себе едет до ближайшего порта. Обратный билет я ей, так и быть, оплачу. Ты же должна вести себя как ни в чем не бывало, а завтра уговорить ее поехать в порт. Не знаю, как у тебя это получится, да и знать не хочу. Но если сделаешь все, как велено, я утаю правду от мсье Эверетта. Тоже тебе подыграю. Вот что еще учти: если после свадьбы ты вздумаешь вернуть ее в Лондон, чтобы она вращалась в одном обществе с моими дочерьми, я пущу письмо в ход. Квартеронка должна исчезнуть — и точка.
«Куда они увозят меня, Фло? Что со мной будут делать?»
— А если загодя разболтаешь о моем плане той девке, я вас обеих ушлю с глаз долой. А знакомым такое расскажу, что вас ни в один приличный дом не пустят даже с черной лестницы. — Сощурившись, тетушка сверкает на меня глазами.
Я чувствую себя утопающей, которой вместо руки протянули нож лезвием вперед. Хочешь жить — раскровени себе руку, нет — так и помирай. Но что мне остается? Обнять Дезире и вместе с ней пойти на дно? Или спасаться, но уже в одиночку?
— Ну, что приумолкла? — Тетя склоняет голову набок. Краешек фаншона подрагивает в воздухе. — Будешь держать язык за зубами?
Но я не готова дать ответ так скоро. Мне нужно подумать. Мне нужно выгадать время.
— Мне нужно помолиться, — смиренно говорю я.
В церкви Французской Богоматери на Лейстер-сквер непривычно светло и пахнет не ладаном, а свежей краской от панелей над алтарем. Сама церковь, рассчитанная в основном на эмигрантов, открылась полтора года назад. Большой орган здесь еще не установили, обходятся пианино, посему гимны звучат как-то слишком светски, словно те песенки, которые наигрывает Олимпия. Вздыхаю от облегчения, когда детский хор заканчивает практику, и регент распускает школьников по домам. Слышу, как он шаркает, спускаясь с хоров, а потом затихает где-то в недрах ризницы. Церковь остается в моем распоряжении до самой вечерни.
Стою на коленях около часа, а кажется, будто целую вечность. Ноги одеревенели, китовый ус корсета немилосердно давит на ребра, выжимая из меня вздохи — но не слова. Я могла бы тараторить литанию, пока от «miserere nobis» и «ora pro nobis»[29] не опухнет язык, но какой в том прок? Я же знаю, что никто меня не услышит. Мои молитвы, как плевелы, упадут на землю и не дадут доброго плода. Разве не так говорила Роза? До сих пор помню ее слова:
— Богу — Бондье — нет до нас никакого дела.
— Да как же это? — возмущалась я, причастница в белом кисейном платьишке. — Ведь он послал к людям своего единородного сына!
— А люди его распяли.
— Но ведь не просто так, а во искупление грехов!
— Всё верно, — соглашалась нянька. — Но после того случая Господь наверняка понял, как опасно с нами связываться.
Это утверждение я не решалась оспорить. Окружающие имели пагубную склонность открываться предо мною не с лучшей стороны.
— Но есть и Они, — утешала меня Роза. — Им не все равно.
— Получается, что Бог — это хозяин плантации, а Они — его надсмотрщики? — пыталась я объяснить ее теорию на доступном мне уровне, но аналогия выводила Розу из себя. Она хмурила брови, почти незаметные на черном морщинистом лбу.
— Нет, Они — не надсмотрщики! Потому что Они — за нас.
Они… Даже в этой церкви — чистенькой, аляповатой, точно литография в журнале мод — мне мерещатся древние лица. Они в каждой мраморной статуе, на каждом витраже. Соскреби белую краску с надалтарных панелей и увидишь черноту… Лики святых — лишь маски, за которыми прячутся Они. Так говорила Роза. Она много лгала. Но только не об этом.
Кто Они такие? — спрашивала я. Может, ангелы небесные? Силы и власти, престолы и господства, и эти… ну как их там… в общем, все девять чинов ангельских. А если не ангелы, то кое-кто похуже?
Загадочно улыбаясь — каждая ее улыбка казалась или загадочной, или недоброй, — Роза объясняла, что Они ни то и ни сё. Они просто есть в природе и были всегда. Они последовали за своими детьми, когда тех ловили, точно диких зверей, заковывали в железо и грузили в трюмы кораблей, где пленники задыхались от слез и от запаха нечистот. Они рыдали, глядя, как их детей заставляют плясать на палубе, чтобы за долгое плавание не усохли мышцы. Они раскачивались и царапали себе лица, если тех, кто отказывался плясать, засекали до смерти и сбрасывали в море на корм акулам. Тот мир, каким Они его знали, бился в корчах, и Они страдали вместе с ним. Горе и гнев ожесточили сердца. Из нежных любовниц и товарищей по охоте Они превратились в мстителей. Их слезы обратились в яд, песни — в проклятия, их ласковые ладони сжались в кулаки. Они стояли за спиной Макандаля, когда тот сыпал отраву в колодцы. Они плясали с мятежниками и лакали свиную кровь из чаш. А потом, когда стихали звуки битвы, Они вернулись, чтобы вырыть могилы павшим. Ибо никто не умрет, покуда Они не выроют ему могилу.
Мои глаза скользят по новенькой церковке. Кто этот бородач с огромным ключом? Святой ли Петр? Но я вижу, как бороздки ключа отъезжают от дужки, сам ключ вытягивается, пока не превращается в клюку. Скорбно поджатые губы кривятся в ухмылке. Нет, это папа Легба, привратник, хранитель тайн. Проложи мне дорогу, папа Легба, открой ворота, пусть я увижу в дорожной пыли следы босых ног и оттиски твоей клюки, возьми меня за руку и приведи к Ним. В награду ты получишь все острое, горькое и терпкое. Я ведь помню, как ты входил в мою няньку, и она начинала хромать, потому что ты выворачивал ей ногу в колене, а рабы охали и падали ниц при виде твоих чудес. Оседлай меня, папа Легба, я не боюсь боли.
Но ты меня не услышишь.
А этот святой в золотой тиаре и зеленом одеянии? Не клевер в руке привлекает мой взор, а змея под ногами. Дамбалла, белый змей мудрости. Когда он оседлывал Розу, она извивалась на полу, а сквозь стиснутые зубы прорывалось шипение, в котором мало кто мог разобрать слова. Мне даже казалось, будто ее зрачки сжимаются в щелки. Совета Дамбаллы испрашивают только в самых важных делах, но разве мое — не важное? Я бы вызвала тебя, Дамбалла, я бы накормила тебя рассыпчатым рисом и напоила парным молоком. Ты любишь все белое, я не забыла.
Но ты тоже меня не услышишь.
Вот два отрока, отличные друг от друга лишь цветом одежд. Святые Козьма и Дамиан — гласит извилистая надпись под витражом. Но мне-то лучше знать. Вспомните, близнецы Марасса, как мы с Дезире скручивали куколок из листьев кукурузы, потому что более других даров вам приятны игрушки. Неужели вы не придете нам на помощь? Ведь нас хотят разлучить.
Но вы молчите, как и все остальные.
Впереди торжественно белеет алтарь, а за ним Христос протягивает руку Богородице. О, Мария, отврати от меня лик, ибо я тебя недостойна. Вижу ли я тебя плачущей или счастливой, мне представляется Эрзули любящая и любимая. Тебе, Эрзули, открыто сердце моей сестры, ведь она, как и ты, любит переливы шелка и мягкое колыхание вееров, утопающие в глазури пирожные, ароматы, от которых кругом идет голова. Неужели ты за нее не заступишься? Я застелю атласом твой алтарь, окроплю его духами и поставлю для тебя хрустальную чашу с прозрачным липовым медом. В нем увязнут стручки ванили, коричные стружки и звездочки аниса.
Но даже перед этими дарами ты сможешь устоять.
Потому что я отдала себя одному из вас, отдала душу и тело, все, что есть у меня моего. И лишь он откликается на мой зов. Он всегда весел — точнее, он всегда навеселе. От него несет ромом и дешевыми сигарами. И сегодня суббота, его день.
«Три желания, Флоранс Фариваль. Как в сказке. Но следующая могила, которую ты выкопаешь, будет твоей».
За окном церкви сгущаются сумерки, а я так ничего и не придумала. Времени мне остается до завтрашнего утра.
Глава 6
На Тэлбот-стрит я возвращаюсь после вечерни, полдевятого, когда на улице уже тьма кромешная. Туман настолько густой, что на нем можно рисовать, как на холсте. Говорят, в туман прохожие сбиваются с пути и, оступившись, падают в Темзу, а там уж камнем идут на дно. Подобный исход решил бы многие из моих затруднений. Открывает Августа, вторая горничная, которая замещает Нэнси, пока та прислуживает в столовой.
— Уже десерт подали. — Служанка поджимает губы, и без того тонкие и бледные. Суровые нитки, а не губы.
— Я не голодна.
— Но ведь барышни вас дожидаются! Все спрашивали, где вы, не вернулись ли.
— А мадам про меня спрашивала?
— Мадам Ланжерон сегодня ужинает в ресторации.
В таком случае можно заглянуть в столовую. От долгого стояния на коленях, а еще пуще от запаха краски меня немного подташнивает. Чашка горячего чая успокоит желудок. Удивительно, как быстро Джулиан приохотил меня к чаю. Раньше этот напиток — «пойло янки», как называет его бабушка, — казался мне чем-то вроде водицы из лужи, в которой долго прели палые листья. А теперь я во вкус вошла. Ах, Джулиан, Джулиан. Что бы он сказал обо всем этом? О моем обмане?
На столе мой любимый чайный сервиз, все приборы в виде капустных кочанов, но сегодня даже он меня не радует.
— Милая кузина, а вот и ты! — приветствует меня Мари, а Дезире торопится налить мне ароматного чая.
Судя по ее улыбке, сестра ничего не знает о тетушкином замысле. Как и о том, что этот ужин для нас все равно что Тайная вечеря. В таком составе мы трапезничаем в последний раз.
— А мы уж подумали, что ты в церкви решила заночевать, — бурчит Олимпия, налегая на рулет с изюмом. В отсутствие матери она ест за семерых. — Кстати, завтра мама гонит нас к заутрене. Представляешь — в шесть утра вставать. В воскресенье.
— Мы будем славить Господа с первыми птахами! — радуется понятно кто.
— Скорее уж со всяким сбродом, что привык вставать спозаранку. С ирландскими торговками и шарманщиками из Палермо. Шесть утра! Что ж мне теперь, лауданум на ночь не пить?
— А ты пьешь лауданум? — не могу удержаться от вопроса.
— Да. Без него не уснуть. Иногда у меня так живот бурчит от голода, что я просыпаюсь. И эта еще бубнит через стену!
— Я не бубню, — поправляет ее Мари, — я состою в общении со своим ангелом-хранителем.
Олимпия посылает мне мрачный взгляд через весь стол. В ее глазах — неприкрытая ненависть ко всем формам жизни и в особенности к младшим сестрам.
— Шесть так шесть, — соглашается Дезире.
— Нет, мы с тобой дома останемся, — говорю я, принимая от Нэнси тарелку с десертом. Ко мне оборачиваются все головы.
— Так сказала тетя Иветт. На нас с Дезире у нее какие-то свои планы.
И тут же чувствую, как Ди наступает мне на ногу каблуком-рюмочкой.
«Джулиан сделал предложение? — всем своим видом допытывается сестра. — Уже?»
Откуда же ей знать, что Джулиана мы больше не увидим, да и Марселя тоже. А если увидим, Марсель будет зубоскалить над ней, как над мисс Диной, негритянкой из того водевиля. Уж тетя Иветт расстарается. Если Ди заартачится, тетя покажет Марселю письмо да и от себя кое-что присовокупит.
Письмо…
Рулет застревает у меня в горле, точно кусок сухой губки.
Письмо от мамы!
А что, если оно все еще лежит в той вазе? Вдруг тетя не успела его перепрятать? Тогда я могу завладеть им, и одной уликой станет меньше.
Да, тетя может выставить нас из дому, но доказать, что Ди — дочь рабыни, у нее не получится. Англичане дотошны. Без бумажки не поверят. А если она сделает запрос… что ж, корреспонденция идет медленно. Как минимум две недели до Нового Орлеана, а в нашу глушь и того дольше. На берег тюки с письмами спускают на длинных шестах с проплывающего мимо парохода, и ловят их те, кто окажется поблизости. Белые, негры, на кого попадешь. А что с письмами дальше случается, один Господь ведает. Когда доходят, когда нет. Кто-то их вообще на самокрутки пускает.
Стоит потянуть время, и мы спасены. К тому моменту, как Иветт раздобудет еще одно доказательство, я, может статься, уже буду повенчана.
Допиваю чай и вскакиваю прежде, чем Нэнси успевает отодвинуть мой стул.
— Я к себе. Что-то мне дурно.
— Помочь тебе с корсетом? — спрашивает Ди, тоже приподнимаясь, но я давлю на спинку ее стула.
— Сиди, сиди. Сама управлюсь.
— Ты рулет не доела. В следующий раз так много не бери, — прощается со мной Олимпия.
— Добрых снов, милая Флоранс! — прощается со мной Мари.
Августы в вестибюле не видно. Наверное, спустилась в кухню, ужинать копченой пикшей и судачить с кухаркой. Что есть духу взбегаю по лестнице, точно кошка, в которую запустили сапогом, и заскакиваю на третий этаж.
Тетина комната — слева. Дверь приоткрыта. Проскальзываю в спальню, осторожно придерживая юбки, чтобы ничего не задеть. Темно, как на дне колодца, приходится двигаться ощупью и по памяти. Упираюсь животом в столешницу. Руки осторожно, дюйм за дюймом, скользят по столу. Здесь столько всего, что можно перевернуть — чернильницы, баночки с песком для посыпания писем, серебряное пресс-папье. Если нашумлю и меня застанут с поличным… о, тогда к репутации лгуньи прибавится клеймо воровки!
Наконец пальцы нащупывают ребристую поверхность вазы. Запускаю в нее руку — о, чудо из чудес! Письмо еще там!
Напряжение моментально отпускает меня, и я едва не теряю равновесие. Натянутые до скрипа, до последнего предела нервы обвисают, как струны разбитой скрипки. На обратную дорогу уходит больше времени, ведь я запинаюсь и едва не падаю. Ноги меня не держат. Но главное, что я победила — письмо у меня в кармане.
Оставляю в двери щель на два пальца — кажется, так оно и было — и спешу к лестнице, но шарахаюсь в сторону. Кто-то поднимается наверх. Топ-топ. Гулкий мрамор превращает легкий девичий шаг в тяжелую поступь Командора. Охваченная паникой, мечусь по коридору. Мое присуствие на третьем этаже в любом случае выглядит подозрительно. Нечего мне тут делать. Наконец, за неимением другого укрытия, юркаю в кладовку для белья, что зажата между уборной и спальней Олимпии. Едва втискиваюсь между полок с бельем. Замираю в спертой, зернистой от крахмала тьме. Долго ли мне так сидеть? Вдруг не удержусь и чихну? Сложенные стопками простыни чихать не умеют.
Справа от меня хлопает дверь в уборную. Готовлюсь услышать звуки, кои обычно сопровождают подобного рода вылазки, но то, что происходит дальше, сбивает меня с толку. Через стену раздаются утробные хрипы, бульканье и звук спускаемой воды. Похоже, кого-то тошнит. Рулет сегодня и вправду был нехорош, но не до такой же степени.
Скрип двери возвещает мою свободу. Выждав с минуту, я высовываюсь из убежища, боязливо, словно черепаха, готовая сразу же втянуть голову в панцирь, если окружающий мир не оправдает ее ожиданий.
Никого.
Наверх я поднимаюсь по черной лестнице, благо она как раз напротив кладовой. Но едва лишь подхожу к детской, как в коридоре появляется Дезире.
— Ну и видок у тебя, Фло! — замечает сестра, проходя за мной в комнату. — Все в порядке?
— Разумеется.
— Точно? С тобой же… ну… ничего не приключалось в последнее время?
— Нет, — говорю я и, кажется, только сейчас осознаю, что за все это время я ни разу не видела бабочек. За исключением того розыгрыша, но он не считается. У той бабочки не было острого хоботка.
— Слава Пресвятой! — всплескивает руками Ди и хлопает себя по бедрам, как негритянки на плантации. — Значит, ты была права. Это не их земля.
Я слабо улыбаюсь.
— Не их.