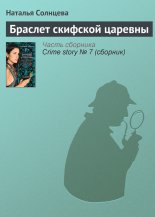Гончарный круг (сборник) Кушу Аслан

– Наддай ему, Валер, наддай! – стала подбадривать рота.
И Кирнос, будто бы вспомнив об унижающей форме не по размеру, невезение с постельным и нательным бельем, о набившем оскомину армейском укладе для «молодых», сложил руки в один кулак и неистово врезал Рыскулу в левое ухо, отчего тот грузно опрокинулся.
– Отставить, отставить! – поторопился к ним Гнездилов, но, увидев перекошенное в ненависти лицо Кирноса, ретировался.
Утром, после доклада Гнездилова Добычину и Мишину о происшедшем в бане, он вызвал у них такой смех, что курсанты, находившиеся перед завтраком в самом дальнем кубрике, встрепенулись.
– Яйценосный победитель! – хохотал на всю казарму Мишин, вероятно подразумевая под этим «венценосного», – и сквозь слезы – Говоришь, схватил за… и свалил?
– Так точно, товарищ старший лейтенант! – Схватил! – отвечал Гнездилов.
– Не могу… – не унимался Мишин. – А ну-ка, кликни этого молодца!
Кирнос вошел в канцелярию.
– За захват ниже пояса – два наряда вне очереди, – наконец, успокоившись, объявил он. – А вот за характер и проявленную смекалку, назначаю тебя командиром первого отделения, а товарища твоего, Кайметова – второго.
– Служу Советскому Союзу! – не к месту соответственно совершенного «подвига» ответил Валерий, чем рассмешил офицеров пуще прежнего.
Постановка на должность не давала курсанту в «Майли-Сае» никаких привилегий. Создавалось впечатление, что здесь их не было, нет и не может быть ни у кого. Все, как в идеале жесткой армейской централизации: командир части держал в ежовых рукавицах офицеров, они – сержантов, последние – курсантов.
Хлопот, однако, командирство Кайметову и Кирносу прибавило. Так, например, теперь, по тревоге к привычному набору обмундирования, амуниции, оружия и боеприпасов, которые тянули килограммов на двенадцать, они еще взваливали на плечи собственные покрывала в скатку. И не дай бог, при пятикилометровом марш-броске кто-то из отделения не выдерживал, выпадал из строя. Его не доставляли назад, а вчетвером несли на покрывале к месту следования, если же не оклемается к нему – обратно. Рядовые носильщики при этом менялись, а командиры отделений – нет. Таков был марш-бросок, приравненный к боевым условиям, сдабриваемый разными «штучками» старшего лейтенанта Мишина. «Командир в ответе за каждого своего солдата, – любил назидать при этом он, – в том числе и за его физическую подготовку».
Еще в первые дни в «Майли-Сае» Гумер заметил у Мишина странную особенность – он никогда и нигде, даже в канцелярии и казарме, не снимал своих лайковых перчаток. Гумер полюбопытствовал об этом у Гнездилова.
– До «Майли-Сая» Мишин был элитным офицером, – рассказал тот, – окончил ракетное училище с отличием, нес боевое дежурство за ракетным пультом. Все было ладно в жизни: жена красавица, квартира в большом городе. И так до тех пор, пока однажды, уходя с дежурства, не увидел горящий электрический трансформатор. Бросившись к нему, он обнаружил в «ящже» пылающего солдата. Вытащил его, потушил, сильно обжег руки. Потом выяснилось, воин тот, «молодой», решил спрятать в трансформаторе картошку, что утащил после наряда на кухне. Обожгло парня хорошо, несовместимо с жизнью, помер в госпитале. Мишина же после той истории с пульта списали, кто же станет держать на ней офицера с такими руками. А он попросился в какую-нибудь учебную часть, будто вину перед тем молодым солдатом чувствовал. Приехала с ним в Бетпак-Далу и жена, но, насмотревшись на офицерских жен, стареющих здесь «год за пять» от недостатка кислорода и воды нашей, которой по ее вредности каторжан при царе поили, насмотрелась и уехала. Мишин отговаривать ее не стал, да и вдогонку не бросился. Настоящий офицер. Мужик!
Через некоторое время после этого разговора, Гумера, отсыпавшегося с караула, подняли и вызвали к командиру роты.
– Кайметов, – обратился Добычин, – позавчера вечером, отправив вас в караул, поутру Мишин не вышел на службу Я выписал на тебя увольнительную в город. Сходи к нему, узнай причину, зараз и зарплату передашь. Адрес на конверте.
– Есть! – ответил Гумер.
– Парадную форму получишь у старшины, – продолжил Добычин. – И смотри мне, не шали, немногие удостаиваются чести на увольнительную за весь период обучения.
Через минут двадцать Гумер уже был за контрольно-пропускным пунктом. Впервые за последние три месяца полной грудью вдохнул свободу и пошел по припорошенной снегом улице. Адресат на конверте нашел быстро, поднялся, позвонил в дверь.
– Входите, открыто! – донесся хрипловатый голос командира. Мишин сидел на кухне. Перед ним на столе была початая бутылка водки, рядом лежал раскрытый конверт. На удивление, офицер тоже был при параде.
– Присаживайся. Гумер, – впервые назвал его по имени Мишин – Добычин прислал?
– Так точно, товарищ старший лейтенант.
– Ты эти церемонии оставь. Не на службе, а в гостях, – грустно сказал он и пояснил. – Жена моя неделю назад умерла, боялась, что это случиться здесь, из-за климата, а скончалась в Питере. От инфаркта. Телеграмму не соизволили дать вовремя родственнички, чтобы по-человечески попрощался…
Мишин был без перчаток и ломал при этом обожженные пальцы, словно видел в них первопричину своих бед, а теперь и смерти жены.
– Соболезную вам, Владимир Иванович, – сказал Гумер.
– Мишин кивнул, безнадежно махнул рукой, а потом к двум стопкам, своей и поминальной, под хлебом, налил третью.
– Давай помянем жену мою любимую, рабу божью Татьяну, земля ей пухом! – глухо предложил он и разом выпил горькую. Гумер замешкался.
– Пей, пей! – настоял Мишин. – Положено.
Потом Гумер передал командиру конверт, а тот небрежно отбросил его на шкаф при мойке, будто бы деньги теперь ничего не значили в жизни, еще раз налил Гумеру и себе.
– Жалела она вас, курсантов, – вновь грустно сказал командир. – Ребятишками называла…
Выпив с Гумером по второй, продолжил:
– А можно ли быть вообще счастливым в этой пустыне, которую еще древний тюрок назвал Бетпак-Дала – «злосчастная»? Что мы делаем здесь, Гумер, я, новгородский мужик, и ты, парень с Кавказа?
– Родину защищаем! – по уставному ответил Гумер.
– Родину!? Где ж она родина-то, и где мы? – он вновь стал нервно ломать пальцы, а затем, успокоившись, прибавил. – Впрочем, экспансия и взаимопроникновение народов, наверное, и есть те высшие инструменты, что движут цивилизациями. И никуда от них не деться. Нет в мире народа, который с кем-нибудь, когда-нибудь не воевал, не захватывая бы чужие земли. Что судьба твоя, счастье в этом стремительном движении миллионов – пылинка, былинка под копытами несущейся в будущее орды…
Почувствовав, что Мишин выговорился и вновь нуждается в одиночестве, Гумер, попрощавшись, вышел. Над Голодной степью шел снег, продолжая пеленать в белое ее унылую наготу. Хмель от непривычки быстро ударила в голову, но, к счастью, патрульных, которые в городе на каждом шагу, он не встречал, будто бы та, далекая, совсем далекая женщина, по-прежнему любимая Мишиным, оберегала его, одного из сотен тех, кого при жизни тепло звала ребятишками.
После третьего месяца обучения курсантам стали разрешать ходить в «чипок», то бишь кафе. И хотя к этому времени они уже «нарубывались», то есть наедались, и не испытывали, как в первые месяцы, дефицита сладкого, «чипок» посещали с удовольствием. Здесь Гумер впервые и увидел Айгюль, восточную звезду, изящную фарфоровую статуэтку, испуганно взирающую на место торжества грубой мужской силы и мата. Сидя в тот день в углу, за прилавком, она иногда отворачивалась, чтобы не видеть нагрянувших курсантов, раскрасневшихся до неприличия от строевой подготовки на морозе, прикрывала пальчиками ушки, чтобы не слышать их ругани. Гумеру показалось все это забавным.
– Поработаешь немного, Гулечка, и ко всему привыкнешь, – наставляла ее нынешняя буфетчица. – Двадцать лет назад и я была такой – услышу чуть грубое слово, – и в слезы. А потом поняла, что они лепечут это без зла, а так, для связки слов, пар выпускают. Теперь-то и вовсе их не слышу.
Однако на следующий день Айгюль, став за прилавок и наслушавшись за несколько минут «гвалтирующего», «грассирующего», «галопирующего» и прочих мастей мата, зажмурившись и закрыв ладонями уши, обескураживающе и строго крикнула:
– Прекратить!
В кафе установилась такая тишина, что было даже слышно осторожное тиканье настенных часов.
– Чаво-чаво? – опомнился один из ефрейтеров. – Это солдатский «чипок». Не нравятся наши разговоры, проваливай буфетчицей в ресторан!
Гумер поднялся:
– А ведь она права.
– Тоже мне защитник выискался, – смерил его взглядом ефрейтор и оглянулся, ища по залу поддержки.
В нем по-прежнему стояла тишина, и явно не в его пользу. – Чаво уж там! – стушевался он.
– Она прежде всего девушка, а уже потом буфетчица, – поставил в конфликте точку Гумер и подумал: «А ведь прав был тот классик, что утверждал: в любом обществе к женщине относятся так, как она требует этого и заслуживает. Или, что-то вроде…»
Потом они встретились взглядами с Айгюль и по выражению другого классика «узнали друг друга».
Слух о «грозной буфетчице» быстро пронесся по «Майли-Саю». В кафе больше не сквернословили. А Гумер стал все чаще и чаще заходить к ней и находить больше достоинств в этом прелестном «цветке прерии», внезапно появившемся на его пути, влекщий молодостью, красотой облика и души. «Цветок» тоже потянулся к нему, но с какой необъяснимой тревогой в глазах и нерешительностью.
Однажды после обеда Гумер забежал к Айгюль на минутку. В зале было пусто.
– Съешь это, – соблазнительно протянула она кондитерский орех, начиненный медом.
Гумер съел его и решил, что ничего более вкусного не пробовал никогда и, что никто не может любить так трепетно и нежно, как несвободный человек…
В другое время она ставила на стол десерт, садилась напротив и любовалась тем, как он ест, а Гумер, испытываемого дискомфорта в таких случаях, совсем не ощущал.
Потом в Голодную степь пришла весна, не крадучись, а полновластной хозяйкой, с жарким солнцем, быстрой оттепелью, с тихими ручьями. Но Айгюль в эту пору любви почему-то загрустила.
Нет будущего у горного орла и орлицы-степняки, – как-то, отвернувшись, сказала она.
Гумер пожал плечами:
– Что это значит, Айгюль?
– Так говорит моя мама, – ответила она, – не желая, чтобы я повторила ее судьбу. Ведь я, Гумер, дочь ссыльного чеченца и казашки. Как только им разрешили вернуться на родину, он еще несколько лет едва продержался здесь, потом, оставив нас, уехал. И с тобой так будет.
– Не будет! – постарался уверить ее он.
Она не поверила… И в твердой уверенности в своей правоте бросила на него холодный взгляд, в котором совсем не теплились вера и понимание.
– Любят, Айгюль, не рассудком, а сердцем, – вспылил он, – больше ему доверяй!
Через несколько дней в «Майли-Сае» стали создавать роту почетного караула, которая должна была пройти маршем по городской площади в день юбилея соединения. Подготовку роты возложили на лучшего строевика части-старшего лейтенанта Мишина. Правофланговыми в первое каре он взял Гумера и Валерия. Несколько дней они с утра и до вечера пропадали на плацу, а потому Айгюль он теперь видел только изредко и издалека.
В день юбилея Гумер пошел в строю по городской площади церемониальным маршем и поймал себя на мысли, что гордится своими формой и выправкой, высокой, словно кивер, фуражкой, подрагивающим на груди аксельбантом, собственным чеканным шагом и четкой отмашкой, карабином на плече, друзьями рядом, идущим впереди с вытянутой саблей командиром. Он стал солдатом и гордился собой, ибо каждый мужчина прежде всего воин, а потом уже все остальное. Пролетели последние деньки в «Майли-Сае». Перед отъездом Гумер зашел попрощаться с Айгюль.
– Уезжаю в часть, – сказал он.
Ее губы задрожали, но потом, подавив вновь нахлынувшие чувства, волнение, она, стараясь выглядеть спокойной, ответила:
– Рано или поздно это должно было случиться.
– Мне предлагали остаться и дослуживать в здешнем клубе, но я попросился в степь, – пояснил Гумер. Она отвернулась, как и в тот день, когда они рассорились, тихо сказала:
– В степи сейчас красиво. В ней цветут тюльпаны… Гумер пошел к выходу, но она окликнула и одела ему на шею обшитый черной тряпицей треугольник с мусульманской молитвой, пожелала: – Да хранит тебя аллах! – а потом нервно и умоляюще добавила. – Иди! Ну, что же ты стоишь?..
Он вышел, оставляя с ней свое сердце и недопетую их дуэтом песню любви.
Заглянули с Валерием они и к командиру.
– Спасибо, Владимир Иванович! – протянул руку Гумер.
– Дождался – таки благодарности хоть от кого-то из курсантов, – улыбнулся он. – Ну, держите мою марку!
Где-то через час «чугунка», громыхая по рельсам, повезла новоиспеченных младших сержантов в часть. Гумер долго стоял у окна и в диковинку, раскрыв широко глаза, любовался проносящейся Бетпак-Далой, усеянной до горизонта миллионами ярко-красных тюльпанов. «Наверное, тот, кто в древности назвал эту степь голодной и злосчастной, – подумал он, – не созерцал ее весной. – Стоит прожить жизнь, чтобы только раз насладится этой красотой, увидеть и спокойно умереть».
Поэтически приподнятое настроение полностью овладело им и он представил Айгюль и себя в этом океане цветов, а потом от несбыточности мечты совсем загрустил: «А может быть, тюльпаны красны на крови тех, кто когда-то бился здесь в жестокой сече, воинов той орды, которая, по словам Мишина, несется в будущее, теряла и будет терять их под своими же копытами. Или, может быть, они на крови тех смельчаков, которые в числе первых уходили с этой благословенной земли в космос, и чьи бездыханные тела она приняла обратно?..».
Это были дни, когда в Советском Союзе пришел к власти Михаил Горбачев и речи нестандартного генсека слушал с удивлением весь мир. Он, призывая к гласности и открытости, мало-помалу раздвигал некогда более надежный, чем Великая Китайская стена, «железный занавес», создавая предпосылки для развала соцсистемы и выхода ее людей в мир. «Истина в экспансии и взаимопроникновении народов» – стучало под колеса «чугунки» в висках Гумера в какой-то необъяснимой тревоге.
Родная войсковая часть встретила их все той же обшарпанной казармой, пасущимся на территории верблюдом и лениво позевывающими в предвкушении «дембеля» «дедами».
– Ну, как там в санатории? – спросил один из них.
– Когда мы уезжали, вы считали «Майли-Сай» Бухенвальдом, а когда прошли его, он вдруг стал санаторием, – съязвил Гумер.
«Дед» глупо хмыкнул, а потом, будто бы вокруг его уже ничего не касалось: ни устав, ни командиры, ни армия и, что он вообще человек без пяти минут гражданский, равнодушно ответил:
– Вешайтесь, куски.
«Кусок» из-за тонких лычек на погонах значило на местном сленге «сержант».
– Сам вешайся! – брезгливо осмотрел неопрятного «деда» Гумер.
Тот, как старый и обрюзгший дворняга, такой немощный, что уже совсем не мог подняться на ноги и даже ходил по нужде под себя, по привычке рявкнул:
– «Бурые» нынче пошли «куски».
Однако никаких силовых мер к новоиспеченным сержантам старослужащие не приняли, потому как опасались за благополучие своего «дембеля». Бывало перед ним с наиболее усердными в неуставщине рассчитывались солдаты других призывов, более молодых. А самых ярых даже сопризывники сбрасывали с бегущего по безлюдной степи «дембельского» поезда. Вот таким иногда мог быть итог службы в Бетпак-Дале. В ней, как и при любом мужском сообществе, не прощалось ничего. Здесь человек раскрывался глубоко до своей сути, живя по неписанным законам, представлявшим страшный симбиоз устава и обыкновенной уголовщины.
Новоиспеченных младших командиров построили в канцелярии начальник первого производственного ракетного потока подполковник Ночеваленко и командир роты Похомов.
Ночеваленко, рослый и плечистый, остановился возле Гумера и спросил:
– Откуда, маш-помаш, будешь, сынок?
– С Кубани, товарищ подполковник!
– Земляки, значит, – заключил он.
После небольшой паузы Гумер обратился к нему:
– Фамилия у вас редкая, товарищ подполковник, да и обличьем кое-кого напоминаете. Не родственник ли вы нашему кубанскому Герою соцтруца Петру Семеновичу Ночеваленко?
Подполковник более пытливо рассмотрел его и ответил:
– Одна колодка! Брат он мне, к тому-же родной. Ты знался с ним?
– После института на работу к себе в станицу звал.
– А что же ты, сынок. Голодную степь, маш-помаш, на его колхоз почти санаторий променял. Он бы и бронь тебе состряпал?
– Все надо попробовать в жизни.
– Похвально, – отметил Ночеваленко. – Ко мне пойдешь, как вы говорите, – «умирать», замкомвзводом на первый поток. «Умирать» – значило «испытывать тяготы и лишения воинской службы».
– Есть! – ответил Гумер.
Валерия же назначили замкомвзводом на банно-прачечный комбинат, отчего бывшие курсанты, свидетели его драки с Рыскулом, едва удержались от смеха.
Касаемо слова сорняка в речи Ночеваленко, «маш-помаш», которое означало «понимаешь», то по нему солдаты данной войсковой части составили целую инструкцию поведения перед подполковником. В первоначальном, этом варианте, Ночеваленко использовал его, когда был спокоен и в хорошем расположении духа. Если же употреблял «пум-помаш», – начинал выходить из себя. «Машли – пынды-помашли-машли» – был апофеозом коверкания и признаком гнева. Провоцировать на это и попадаться под горячую руку в такие минуты к бывшему тяжеловесу – гиревику не советовали никому.
В Голодную степь пришло жаркое лето. Чтобы предохраниться от дизентерии, солдаты и офицеры пили отвар из верблюжей колючки, чай. По ночам Гумер плохо спал, но состояние бессоницы компенсировалось удивительной песнью пустыни, великой ночной песней Азии. В ней были вздохи, избавившейся от зноя земли, шуршание по полыни ветерка, мириады звуков, издаваемых насекомыми и зверьками, которыми была так непонятно богата Бетпак-Дала. Замиравшая днем природа, по ночам оживала, оживала и торжествовала. Изредка на постах, при смене, перекликались разводящие и караульные, и казалось, что они в дозоре не только за объектами, но и, как зеницу ока, оберегают это торжество. Гумер безвозвратно влюблялся в Голодную степь и чувствовал себя в эти минуты обветренным и лихим кочевником, чья душа, не нуждаясь в горячем ахалтекинце, летит и летит в полную таинств ночь.
При этом Гумер не мог смириться с потерей и забыть Айгюль, с которой так нелепо расстался «Впрочем, – как-то рассудил он, – когда два человека любят друг друга, их расставание всегда кажется нелепым. Разочаровал ее? Нет, вроде не давал повода. Разлюбила? Тоже, кажется, нет. Послушалась свою мать? Может, женщины более просты и благоразумны в этих обстоятельствах? Но как же можно так с любовью?!» – никак не смирялось его существо.
В Голодную степь пришла осень с пронизывающими и холодными ветрами, ощетинился на солончаках биюргун – ежовник, опечалилась на песках карагана с осыпающимися бобами, потянулись на юг тучные стада сайгаков. С уходящим теплом степь, казалось, покидало все сущее, ее величие, и она превращалась в безжизненную пустыню.
Гумер сильно затосковал в эту пору по родным горам в зеленом ельнике, в смешанных лесах, одевшихся в золотую листву, по предгорным равнинам и оврагам, на которых обособленно, «папахами» рос терновник. «Может и правда, что нет будущего у союза горного орла и орлицы – степнянки, – усомнился при этом он, – а потом опешил. – Что за бред!». И стал искать в осенней степи свои прелести, любовь к чему могла бы роднить его с Айгюль. Он представил биюргун стойким оловянным солдатиком, кому холодные ветры нипочем, готовым хоть сейчас пожертвовать собой и накормить тысячи сайгаков и верблюдов. А карагану уставшей, но счастливой роженицей, что положила начало своими бобами жизни другим.
Лютой зимой все те же холодные ветры закрутили вьюги, погнали по безбрежной степи поземки. В один из таких дней, поутру, в отсутствии старшины, Гумер построил роту у столовой на завтрак. Как раз в это время, словно из под земли, возник перед ней начальник политотдела части, коротыш Поплавко, большой любитель длинных речей. Свои беседы с личным составом он обычно начинал с того, что, дескать, не любит «лить воду», а будет говорить коротко и по существу, однако «лил» очень долго и исправно, за что был прозван солдатами «птахой-водолеем». На сей раз свою беседу о том, как предохраниться от обморожения, он растянул перед личным составом, который был без верхней одежды, почти на 10 минут. В жаркие дни его речи о том, как предохраняться от дизентерии и солнечного удара, были еще длиннее, и случалось, что кто-то из солдат, не выдержав, падал в обморок от этого же удара. «Вот-вот!» – подкреплял довольно примером на практике свои слова полковник, и дождавшись, пока пострадавшего отнесут в казарму, «лил воду» дальше.
На сей раз обошлось без обморожений. Отправив роту после завтрака на производственные потоки, Гумер остался за старшину в казарме. К обеду же в ней настойчиво зазвонил телефон.
– Кайметов, быстро бегом на поток! – скомандовал из трубки басовито Ночеваленко.
Гумер нехотя оделся, потому как знал, что этот вызов не сулит ничего хорошего. А дело было вот в чем: если случался непорядок, Ночеваленко всегда обращался к нему только по фамилии, а Гумер подчеркнуто называл его подполковником, если же все было хорошо, командир звал по имени, а он, сглатывая «под», величал его не иначе как полковником… Здесь, хоть и скрыто, но любили подтрунивать друг над другом. – Как же так, Кайметов, – набросился на него Ночеваленко, – ты спокойно торчишь в роте, когда твоему подчиненному Порепко целым генерал-лейтенантом, пум-помаш, начальником политотдела соединения, объявлено трое суток ареста!
Порепко был в наряде на кухне и вместе с помощником дежурного по части развозил пищу по караулам. Что он мог сотворить при этом, Гумер никак не соображал.
– За что, товарищ подполковник, трое суток ареста? – спросил он.
– В кузове пищевоза сидел, – ответил командир. – А это зимой не допускается уставом, пум-помаш.
– Сколько служу, столько и поражаюсь этому дурдому! – вырвалось невольно у Гумера. – Чем больше в армии «дубов», тем крепче оборона.
– Чего-чего, машли – пынды-помашли – машли? – чуть не задохнулся Ночеваленко.
– Рассудите сами, товарищ подполковник, – стараясь успокоить его, предложил Гумер. – В кабине пищевоза находятся водитель и помощник дежурного по части, третьему по уставу не положено. Так где же теперь сидеть раздатчику Порепко, если ему не положено и в кузове?
Гумер задал задачу без решения и ждал, а Ночеваленко тяжело призадумался, но потом переспросил:
– Где сидеть, говоришь? – и, обрадованно решению, осенился. – Как где? На гауптвахте!..
Гумер, не выдержав, прыснул со смеху. Еле сдержался, поняв о нелепости отданного генералом приказа и Ночеваленко. – Иди, иди! – затем скомандовал он. – Нечего тут юморины устраивать, маш-помаш. – И лучше работай с личным составом.
Вернувшись в часть, Гумер зашел в солдатское кафе и был приятно поражен, увидев за его прилавком свою фарфоровую статуэтку – Айгюль. Она же совсем растерялась и впала в то состояние, когда женщина нуждается в участии и помощи.
– Здравствуй, Айгюль! – удивленно произнес он.
Она виновато потупила взор и ответила:
– Здравствуй!
Удивление еще насколько мгновений не сходила с его лица, пока Айгюль, покрывшаяся приятным румянцем, не пояснила:
– То, что в сердце, оказалось сильнее всего.
Гумер кивнул, а вечером проводил ее на «чугунку».
– Не обижайся на меня, – перед посадкой попросила она. – Тогда я не хотела расстраивать серьезно больную мать.
– Что же изменилось теперь?
Айгюль пристально посмотрела ему в глаза, но не холодно, как в тот день, когда они рассорились, а в тихом раскаянии, с надеждой на прошение.
– Я изменилась, и мама все поняла и приняла. Я решилась: чему быть, того не миновать.
– Так ты полагаешься только на судьбу, а я хочу, чтобы ты верила и мне.
– А я верю, верю и люблю, – ответила она и, игриво помахав ладошкой, скрылась за дверью вагона.
Через несколько дней он уехал в командировку на Урал, и жадно разглядывая из окна теплушки аккуратно рассаженные матушкой – природой пирамидальные ели, тянущиеся к вершинам гор, подумал о том, что хотел бы родиться и жить среди этой строгой и правильной красоты, не будь на земле родного Кавказа.
В Голодную степь Гумер вернулся, когда на ней вновь расцвели тюльпаны, а с юга потянулись тучные стада сайгаков и она стала оживать. Однажды в один из теплых весенних вечеров его вызвал – в канцелярию командир роты Пахомов и сказал:
– Там, Гумер, «кызымочка» твоя на «чугунку» опоздала, просит, чтобы ты ее проводил. Хорошая девка, гарная, и к тому же душевная, был бы помоложе, обязательно отбил».
Айгюль ждала у входа в казарму и через минуту другую они уже были в дороге. Быстро стемнело и луна залила степь искрящимся серебристым светом, превратив ее в космический пейзаж, уходящий в бесконечность вселенной. Он слышал, как бьется ее сердце и свое в унисон ему, как осторожно тревожат тишину стук ее каблучков и его ботинок по «бетонке». Они молчали, были вдвоем в этой бесконечности и бесконечно счастливы. Потом замаячили огни Сарыкагана, и сожалея, что столь длинная дорога, оказалась для них такой короткой, – они остановились. Гумер обнял ее и стал нежно целовать в дрожащие от участившегося сердцебиения губы, которыми она шептала и шептала о своей любви…
– Тебе скоро увольняться, а я не могу с тобой, пока не поправится мать, – взгрустнула она на прощание.
– Не беспокойся об этом, – ответил Гумер. – Я подписал контракт на сверхсрочную на год, там будет видно.
Служба и жизнь шли своим чередом. На первомайский праздник Гумер и Валерий оказались рядом, оба заступали разводящими: один на ближний, другой – в дальний караул. Назывались они так по расстоянию от части, но между ними было не более полукилометра.
Проводил развод заступивший в праздник дежурным по части подполковник Ночеваленко. Едва же помощник его отдал первую команду строю и направился к нему на доклад, чуть восточнее, на плацу, появились, пришедшие с хоздвора, верблюд и две коровы-пеструшки. Ночеваленко ткнул пальцем первого попавшегося на глаза солдата и приказал: «Прогнать и немедленно!» Тот понуро поплелся к животным. Однако темп исполнения приказа не устроил командира. «Эй, воин! – окликнул солдата Ночеваленко. – Что же ты, торопишься, приляг, отдохни, потом пойдешь». По строю прокатился смешок.
– Кто это? – поинтересовался о солдате Гумер.
– Шохпуди – таджик, – ответил Кирнос. – А что он так доходит?
– Беда приключилась, письмо получил от своей девушки, замуж за другого выдают.
– Что в отпуск не просится?
– Просил, отказали, – ответил Валерий. – Не положено по такому обстоятельству.
– Азиатщина, сплошная азиатщина, – вздохнул Гумер и добавил. – Такого в караул брать нельзя, поди узнай, что у него сейчас на уме, а мы ему в руки оружие. Поставили, – отмахнулся Валерий.
Сменив предыдущий наряд, Гумер расставил на постах часовых и вернулся в караульное помещение. С сумерками в степь приходила прохлада, а с ней, словно стараясь разогреть связки перед исполнением ночной рапсодии, стали осторожно подавать голоса зверьки и насекомые.
В карауле из-за подъемов через каждые два часа нарушается режим сна, испытываются легкое недомогание, сонливость и головная боль. Не лишен был их и Гумер. Начальник караула под утро заметил это и предложил ему:
– Поспи, разводной, а я подменю тебя пару раз.
Он прилег в четвертом часу и спал, пока не забрезжило.
– Товарищ сержант, товарищ сержант! – растолкал его на рассвете один из бодрствовавшей смены. Кажется, произошло нападение на дальний караул. Там стреляли…
– Где наш начкар? – поинтересовался Гумер.
– Пошел менять часовых.
Гумер поднял отдыхавшую смену, распорядился о принятии ею обороны, сообщил о стрельбе в часть и, вооружившись, с двумя бодрствовавшими побежал к дальнему караулу. «Мне точно будет дано знать, когда умру, – думал он, – если еще на разводе вычислил этого Шохпуди. Наверняка, в этом переполохе что-то связано с ним».
Потом он увидел в беседке-курилке расстрелянных Кирноса и начкара, старшего прапорщика Фарухутдинова, а рядом трех напуганных караульных, среди которых Шохпуди не было.
– Аника – воины! – в исступлении крикнул Гумер и стал поспешно расстегивать гимнастерку Валерия. – Как вы могли допустить это?
На груди Кирноса была большая рана…
Гумер безнадежно стащил панаму, вытер ею вспотевшее лицо, склонил голову…
– Все произошло так быстро, – осторожно прояснил ситуацию один из караульных, мы толком и проснуться не успели. Сначала было два выстрела, а потом Шохпуди ворвался в караульное помещение с пистолетом, забрал из «оружейки» свой автомат, выпотрошил из наших подсумков магазины с патронами в вещмешок и сбежал.
– По крайней мере кто-то из вас не должен был спать! – стукнул по столу Гумер и с тоской добавил, – вы допустили не только расстрел командиров, но и отдали ему такой арсенал, что он теперь может воевать с целой ротой.
Отправив своих караульных обратно, Гумер пошел за Шохпуди, но перед этим рассудил: «Не дурак, в степь не пойдет, заблудится, не выживет, да и найти смогут быстрее. Пойдет скорее к дорогам и постарается сбежать, пока не начнут баражировать вертолеты и не поднимут на ноги все соединение».
Он хорошо знал, что нарушает устав, покинув свой пост, но был убит его друг и оставить безнаказанным преступника не мог, не мог допустить и того, чтобы вооруженный до зубов безумец пришел туда, где ходили по улицам мирные люди.
В километрах пяти от Сарыкагана увидел у «бетонки» раненого майора и солдата, сидевшего рядом.
– Машина наша ему была нужна, – пояснил, превозмогая боль, офицер. – Я вышел, схватился за кобуру, а он в меня из автомата по ногам… Ты, сынок, обязательно догони его, пока он еще бед не натворил. А о нас не беспокойся, скоро все на службу поедут, подберут.
Гумер не стал задумываться над тем, был ли теперь смысл гнаться за Шохпуци, захватившим автомобиль, поспешил дальше.
В привокзальном кафе Сарыкагана в то утро было немноголюдно. И Гумер вызвал пристальное внимание. А когда он поинтересовался у трех почтенных казахов, попивавших чай, не видели ли они в окрестностях подозрительного солдата, один из них, помотав головой, ответил: «Солдата много. Подозрительного не видел». Буфетчица же вышла вслед и тихо, словно боялась чего-то, прошептала: «Чабаны тут до тебя были, говорили, что машина военная застряла в солончаках у Балхаша, и солдат какой-то, бросив ее, помчался в сторону каменной пади».
Гумер вышел за станцию. Балхаш спокойно и чуть лениво нагонял волну за волной. Сияя белизной на солнце, кружили над ним чайки, важно ступали по прибрежной воде, выискивая добычу, бакланы и цапли. Гумер, как вероятно и Шохпуци, неплохо ориентировался в этой местности, потому что заготавливал здесь рыбу для части, которая по весне кишила на мелководьях, летом приезжал со всеми на помывку. Знал он хорошо и каменную падь, бывал в ней с Ночеваленко, собирал для его жены мумие на скалах.
«Скорее всего, Шохпуци сообразил, что дороги уже перекрыты и по ним не выбраться, – продолжил анализировать он, – посему и рванул по бездорожью на восток. Когда же застрял, решил переждать день в пади, а ночью уйти».
Падь была чем-то вроде метеоритной воронки, поросшей кустарником. По краям ее возвышались островерхие скалы, словно перевернутые сталактиты. Осторожно ступая между «живыми камнями», готовыми вот-вот скатиться и наделать шуму, Гумер спустился недалеко во впадину и залег за первым валуном. Стояла тревожная тишина. Он взял камень и, бросив вниз, породил грохот. После этого, в метрах двадцати, в зарослях, послышалось, как Шохпуди осторожно щелкнул затвором.
– Зачем ты их убил? – крикнул Гумер. – Мог бы, если невтерпеж, сбежать с поста.
Шохпуци не ответил. Тогда Гумер тоже перевел затвор.
– Кто ты? – спросил затаившийся.
– Сержант Кайметов, друг Кирноса.
– Его я не убивал, – ответил Шохпуди. – Это сделал начкар, старший прапорщик Фарухутдинов.
– Я вышел из того возраста, когда слушают сказки.
– Не веришь? – крикнул Шохпуди. – Вот-вот, это я и предполагал, потому и сбежал.
– Ты дурака не валяй! Может, и офицера на подъезде к Сарыкагану не расстреливал?
Прошла минута.
– Что молчишь? – продолжил Гумер.
– Мне нужна была машина, – выдохнул Шохпуди.
– Сдавайся!
– Еще чего! Сдавайся… Мне теперь вышка светит!
– Думать надо было, прежде чем стрелять, Валерию до «дембеля» оставалось меньше месяца, а ты, мерзавец, его в расход.
Ненависть переполняла Гумера. Все пережитое рядом с Кирносом промелькнуло в сознании горькой вереницей.
– Да не убивал я Валерия! – крикнул снова беглец. – Он даже вступился за меня.
– Вступился? – задумался Гумер. – Впрочем, это было в его характере. Расскажешь ты, наконец, как это произошло?
– Фарухутдинов давно задумал вооруженный побег. А когда узнал, что мою девушку против воли замуж выдают, предложил бежать вместе. Брат у него на спецпоселении под Алма-Атой. Он хотел освободить его, мою девушку, чтобы вместе рвануть через Пяндж к афганским моджахедам.
– Безумная идея!
– И я так считал, – поддержал Шохпуди, – но не смог его отговорить. Ночью он поставил вопрос ребром, но я долго не соглашался. Валерий вступился за меня и получил пулю. Я же набросился на Фарухутдинова, вывернул руку с пистолетом к его груди и нажал курок. Теперь вот, – два трупа, и ни одного свидетеля, который мог бы оправдать меня.
– Сдавайся! – снова приказал Гумер. – Если сказанное правда, в прокуратуре разберутся.
– Нет! – ответил Шохпуди и задумчиво дополнил, – когда ты убил кого-то, то обязательно чувствуешь себя способным на поступок, перестаешь быть покладистым и восстаешь против несправедливости. Я хочу и могу теперь посчитаться кое с кем.
– Не усугубляй ситуацию, – предложил Гумер. – Как ты собираешься рассчитываться, когда все соединение уже на ногах. Мышь незамеченной в степи не проскочит.
– Все в милости аллаха и в твоих руках, – ответил Шохпуди. – Может быть, ты уйдешь, сержант, оставишь меня? А ночью я как-нибудь сам…
– Нет! – отрезал на сей раз Гумер.
– Значит, хочешь изловить меня, орден заработать?
После этого Шохпуди нервно засмеялся и, к удивлению Гумера, тихо затянул песню. Гумер, хоть и не понимал слов, но явно почувствовал, что она чем-то связана с происходящим, – уж больно трагичен был ее мотив, грустны и тревожны нотки.
– О чем ты пел? – спросил он, когда Шохпуди закончил.
– Это очень древняя таджикская песня «Нашептал шайтан судьбу», – ответил тот. – Она о юноше, который рожден, чтобы терять свободу, родных, любимую, жизнь…
Оба смолкли, тишина, казалось, еще более сгустилась, тяжело и угнетающе стала давить на них. И так могло бы продолжаться недолго, потому что у кого-то не выдержали бы нервы. Потом они услышали шум винтов приближающегося вертолета. Он завис над падью. Видимо, команда его, обнаружив брошенную в солончаке машину, решила поискать беглеца здесь.
– Вот и все! – крикнул Шохпуди.
Положив у ног автомат и размахивая панамой, Гумер стал кричать сквозь шум винтов: «Не стреляйте! Не стреляйте!».
А Шохпуди сорвался. Вышел из укрытия и, угрожающе размахивая автоматом, снова что-то выкрикивая, закружился в предсмертном танце… По нему начали стрелять…