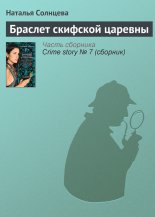Гончарный круг (сборник) Кушу Аслан

Приказ на поражение был выполнен.
Проверив документы Гумера и расспросив о нем по рации в части, командир поисковой группы спросил:
– С нами полетишь или сам доберешься?
– Вам в город, а мне в часть, – опустошенно ответил он и побрел к Сарыкагану. В том же привокзальном кафе попросил стакан водки, выпил ее залпом и, по-матерински склонившейся над ним буфетчице, рассказал о происшедшем за этот самый тяжелый в его жизни день, облегчил душу. Потом пошел в степь. Почти бессонная ночь, пережитые потрясения, подкашивали ноги и он прилег в густую полынь, ощутив сразу покой и какую-то защищенность. Высоко в небе, как будто ничего не произошло, тянули свои весенние и жизнерадостные трели жаворонки, где-то рядом повизгивали хомячки, стрекотали насекомые. Голодная степь, безнадежно махнув на неисправимых людей, зажила дальше своей полнокровной жизнью. По возвращению его вызвал командир части, полковник Вдовиченко, которому он и рассказал все о происшедшем.
– Да-а, – протянул тот. – Чтобы солдат стрелял в сослуживцев в нашей практике было, но вот начкар!.. Это же позор на всю страну! Он протер носовым платком вспотевший широкий затылок и, обдумав при этом, хоть какой-то, но выход из положения, предложил:
– Сегодня, сержант, следователь к тебе из военной прокуратуры приедет. Так вот, о начкаре промолчи. Скажи, так, мол, и так, во всем виноват рядовой Шохпуди Шарахутдинов. О проблемах сердечных этого солдатика накануне расскажи.
– Я не смогу, товарищ полковник, – ответил Гумер.
– Как это не сможешь?!
– Не хорошо, не честно выходит.
– Я вам приказываю, товарищ сержант!
– Вы не можете приказать мне врать следователю, – возразил Гумер.
Последнее очень рассердило командира:
– Правдолюб нашелся, едри твою налево! Смерти моей хочешь?
Гумер отвернулся и пояснил:
– На «гражданке» мне случилось некоторое время жить возле городского кладбища. Не раз довелось видеть, как хоронят нашего брата военного или милиционеров. Если мужественно погиб на посту или добросовестно и честно делал свое дело, обязательно со всем почестями: с речами, салютом. Видел я как хоронят и тех, кто погиб с позором. Сегодня, товарищ полковник, вы хотите, чтобы я соврал, и тот, кто застрелил моего друга, спровоцировал на побег и гибель ни в чем не повинного Шарахутдинова, упокоился на родине под салют, как герой. Не бывать этому!
Полковник тоже отвел взгляд.
– Вот смотрю я на тебя, сержант, – сказал он, – весь ты какой-то из правил без исключения. О командире своем Ночеваленко подумал бы. Пятый год из-за «самострелов» и «залетов» на вашем потоке очередное звание ему никак не присвоят. А тут еще расстрел, когда он был дежурным по части.
– Для Ночеваленко в данном случае никакой разницы нет, – ответил Гумер. – Расстрел есть расстрел, и уже не важно, кто его совершил – начкар или солдат.
– Для него-то точно нет! – прикрикнул командир, – а вот для меня есть. В представлении к очередному званию, пойди ты на мои условия, я мог бы забыть про этот факт.
– Не пойду, – ответил Гумер. – Да и Ночеваленко, по-моему, очередного звания за такую цену не надо.
– Да пойми же ты, какая теперь разница на кого укажешь, – попытался в последний раз убедить его Вдовиченко. – Мертвые не имут сраму.
– Зато его имут живые! – закончил Гумер.
Вечером он рассказал все, о чем знал, следователю.
Через сутки после того злополучного утра Ночеваленко, еще не отойдя от трагедии, с усталым лицом и красными глазами, узнав о разговоре Гумера с командиром части, скажет ему: «Полковничья папаха – не шапка Мономаха, маш-помаш, того не стоит. Лучше оставаться человеком».
Следствие же установит неопровержимые доказательства виновности Фарухутдинова. У него на квартире найдут поддельные паспорта и несколько комплектов гражданской одежды разных размеров и многое другое.
Всплакнула по поводу и Айгюль. «Валерий был хорошим человеком и другом, – утерла слезы она. – Тебе его очень будет не хватать».
В армии, как и при любой несвободе, кажется, что время тянется необычно долго. По этой, наверное, причине о расстреле караула через несколько месяцев в части стали подзабывать. Но Гумер никак, потому что, даже, как герой пустякового фильма, не смог наказать убийцу друга. Потом страсти в душе поулеглись, но горечь утраты осталась надолго. Во второй год правления Михаила Горбачева народ еще праздновал День Великой Октябрьской революции, но уже без былого воодушевления, словно в общество закралось сомнение в прогрессивности события. В праздник Гумер был в Заозерске и хорошо прочувствовал это. Несколькими днями позже, находясь на экспериментальном запуске в степи, он развернул одну из центральных газет и прочитал внизу; в уголке, скромный некролог: «На 95-м году умер Вячеслав Михайлович Молотов, политический деятель СССР…» «Скончался реликт уходящей эпохи, – подумал Гумер, – намного пережив своих учителей, соратников и некоторых учеников, оставив на память смертоносный коктейль под собственным партийным псевдонимом и пакт на пару с Риббентропом. Умер один из гуру социализма, вуду из лачуги, кто, казалось, несмотря на свое забвение, строго следил за всем, колдовал над незыблемостью установленного в племени миропорядка. Ушел из жизни «великий старец», а достойного места некрологу в газете и более крупного шрифта не оказалось». При этих мыслях, напуганные кем-то, взмыли в небо кормившиеся рядом вороны, и полетели вон, но, будто бы не из страха, а от всего сущего на земле, брезгливо не желая из него ничем поживиться. Как-то незаметно на редкость теплая осень перекочевала в зиму. В один из декабрьских дней Гумера вызвал с потока командир роты. – Готовь свой взвод, – приказал Пахомов. – Через час в Алма-ату вылетаем. Там беспорядки казахская молодежь затевает в связи с назначением Колбина первым секретарем ЦК компартии Казахстана. – Внутренних войск для этого им, что ли, не хватает? Мне не докладывали, – ответил Пахомов. – Будем исполнять приказ. Вылетев с местного военного аэродрома, они прибыли к вечеру на площадь имени Брежнева перед ЦК. На ней лежал подтаявший снег и стояли несколько тысяч демонстрантов с плакатами: «Мы за добровольное сближение нации, а не принудительное!», «Каждому народу своего вождя!». Подустав за день, демонстранты, в основном студенчество, с кончающимся терпением смотрели на двери ЦК и ждали ответов на поставленные вопросы. Власть безмолвствовала. Демонстрантам противостояли курсанты военных училищ, милиционеры. Характер этого митинга вроде бы был мирным, но Гумер вдруг почувствовал, как в воздухе повисло что-то зловещее и неладное, а наползающая ночь чем-то походила на молох, требующий крови и жертв. «Грядет страшный бунт, – решил он, – страшный потому, что всегда стихия: сотрясения в душах, наводнение пьянящей свободы в сознании, лавина человеческих тел, сносящая все и вся на своем пути». По толпе тем временем пронесся ропот. «Обещали, что выступит Динмухамед Кунаев и не дали слова!» – выкрикнут кто-то. «Наши кандидатуры отвергнуты!» – вторил ему другой. «Чего мы ждем?» – озадачил толпу третий. Она всколыхнулась и пошла в наступление. Солдаты и курсанты с криком «Ура!» бросились бить демонстрантов саперными лопатами и дубинками. Те же, в свою очередь, стали отрывать мраморные плиты от зданий, разбивать их в камни и забрасывать военных и милицию. Бунт грянул под вопли раненых и задерживаемых. Вспыхнули автомобили и автобусы, припаркованные к площади, зазвенели стекла, заалел подтаявший снег… Высшие инструменты цивилизации в экспансии и взаимопроникновении народов, – вспомнил Гумер вновь Мишина, а потом добавил – и, как следствие их, – во взаимоотторжении». «Не подведите, братцы!» «Вперед!» – крикнул Пахомов и бросился в толпу. Никогда Гумеру так не хотелось исполнять приказ, насилие над собственным советским народом не прельщало, было даже противным. Затем он увидел, как милиционер тянет к автозаку молоденькую девушку, похожую на Айгюль. Наивная девчонка, она пришла на митинг протеста с букетом мимоз. Они рассыпались по мокрому асфальту и их топтали и мяли также, как и их хозяйку. «Сволочь!» – вырвалось у Гумера – сволочь!». И он бросился к милиционеру, но тут же увидел, что три дюжих демонстранта повалили и избивают Пахомова. Повернулся и ударил в подбородок самого, на его взгляд, настырного из них. Тот отлетел в дерущуюся толпу. По демонстрантам ударили из водометов. «Бегущая в будущее орда», преодолев заслоны, вырвалась на прилегающие к площади территории и беспорядки продолжились до вечера следующего дня. «Бикфордов шнур» под локальные конфликты в СССР был подожжен. Он волею судьбы увидел это. Потом будут Литва и Грузия, Баку и Фергана, Ингушетия, Абхазия, Карабах, Чечня и много других трагедий, которые раскачают некогда могущественную империю. Будут, но Гумер не был провидцем и не знал этого. Испытанные же в те декабрьские дни потрясения, еще долго знобили его, воскрешая в памяти девушку с букетом мимоз, окровавленные тела на главной площади, крики и стоны раненых. – Ты стрелял в них? – строго спросила его Айгюль, когда он вернулся. – Там не стреляли, – уклончиво ответил Гумер и вновь вспомнил обо всем… Через несколько недель умерла ее мать и она в своей печали, в искренней и глубокой способности сожалеть стала еще прекрасней. В это же время его прошлое из декабря погналось за ним… Однажды кто-то подбросил на контрольно-пропускной пункт части пакет с фотографией Гумера на площади Брежнева и отрезанную голову собаки. Дежуривший в тот день сержант Кайнар Мусин пояснил ему: «Это уйгуры, точно! Под предлогом, что хотят увидеться с родственником, который служит у нас, они крутились у КПП около часа, а потом внезапно исчезли». Стало это достоянием и начальника особого отдела части Галямзина. Для выяснения ситуации он выехал в военную прокуратуру Алма-атинского гарнизона. Вернувшись через пару дней, вызвал в отдел Гумера. – Ну и угораздило же тебя, Кайметов, – сочувственно посмотрел он. – Вы о чем, товарищ майор? – А ты вспомни 17 декабря и парня, студента Хатира Мансурова, к которому хорошенько приложился. – Но у меня не было другого выхода, – ответил Гумер. – Что я должен был смотреть, как они втроем избивают Пахомова? – Так-то оно так, – снисходительно произнес Галямзин, – но и убивать его тебе не приказывали. – Как убивать?! – Гумер покрылся холодным потом. – Я не Мухаммед Али и не Джо Фрезер убить кулаком человека. – А вот медэкспертиза говорит о другом, – продолжил майор, – что Мансурова ты ударил в теменную часть тупым предметом, отчего он и скончался. Наверное, ты видел, что в тот день фотографировали многие. Так вот, те двое, которые были с Мансуровым, тебя и опознали? – Не было у меня никакого предмета. Да и не в темя его бил, а в подбородок. – Доказывай им теперь, – вздохнул Галямзин. – Конечно же, с точки зрения закона и устава ты прав, потому что исполнял приказ и защищал командира, противную же сторону обвиняют в национализме. Но есть одно «но». Скажу по секрету, сержант, что Мансуровы довольно влиятельный уйгурский клан. Пока ты под погонами, надеюсь, не тронут, а вот, когда поедешь домой, тут тебе гарантий безопасности никто дать не сможет. Подумав о том, что нет ничего неблагодарнее, чем быть солдатом слабеющей империи, Гумер усмехнулся. – Впрочем, – предложил Галямзин, – мы можем перевести тебя в другую часть и подальше от Казахстана. – Я не согласен! – был категоричен Гумер. – Не согласен, потому что не чувствую за собой вины. И потом – нашли здесь, найдут и там. – Чудак-человек, – закончил Галямзин, – о тебе же пекусь! Иди и подумай. – А тут и думать нечего! – Гумер вышел. По весне он снова поехал на экспериментальный запуск ракет. В перерывах ходил на озера, где и подружился с беркутчи Куцайбергеном. Весна в этом году была ранняя, травы вытянулись быстро, и он пригнал отару и табунок на выпас уже к середине мая. Настоящий степняк, обветренный, как камни в пади, с не-по-азиатски простоватыми глазами, Кудайберген каждый день терпеливо и старательно делал то, чем занимались его отец и дед: стриг на лето овец, доил кобылиц, поил и пас их, охотился. Он очень гордился своим беркутом, который бил не только зайцев и лис, но и волков, сожалея о том, что в Бетпак-Дале осталось мало беркутчи, а молодежь предпочитает охотиться на быстрых машинах, при свете фар в ночи. «Иногда наведут такой переполох, что зверье надолго и далеко уходит из этих мест, – однажды посетовал он. – А ведь охота прежде всего утеха для души, а не нажива. В прошлом за хорошего беркута несколько скакунов давали, потому что всегда нелегко выследить гнездло орлов, еще труднее извлечь птенца. Деду моему, Бейсали, как-то при этом орлица глаз выбила, но он все равно не отдал добычу. Однако и это половина дела. Не любому удается приучить орла жить в неволе. Он, хоть и хищная птица, но доброту, внимание к себе любит, любит также сильных. Иногда Гумеру казалось, что Кудайберген живет не одну жизнь в этой степи, потому что он очень глубоко знал ее природу, нравы и характер народа, его историю. Многое вместил в себя. Рассказывая о событиях далекого прошлого, он повестовал так, будто бы был очевидцем, стоял рядом с теми, кто вершил их. Однажды он странно встретил и приветствовал Гумера. – Будь гостем и проходи в юрту, Черный пастух. – Черный пастух? – ничего не понял Гумер. Кудайберген хитровато погладил бороду с редкой и седой щетиной и пояснил: – Все в вечности повторяется, Гумер. В древние времена, сказывают, жил в наших краях мирный и трудолюбивый народ огузов, имел стада лошадей, верблюдов и овец. А слова о его шорниках, гончарах, и прочих ремесленных дел мастерах простирался по всему Шелковому пути. Богатство огузов часто было приманкой для врагов. Они приходили, нещадно грабили и убивали их. И так продолжалось до тех пор, пока в наши края не явился черный человек со своей отарой, который придумал чудо-пращу, сплетя ее из конского волоса и овечьей щерсти. Когда приближался к огузам враг, он вкладывал в нее мешок с камнями и верблюжьим жиром и с такой силой забрасывал его в небо, что плавился жир и воспламенялся. Камни, объятые огнем, сыпались на головы врагов, приводя их в животный ужас и сея смерть. Бояться они стали его и надолго воцарился в степи мир. Народ окрестил того человека Черным пастухом. Закончив свое повествование Кудайберген на некоторое время ушел в себя, затем стал блуждать взглядом в спустившейся ночь, словно хотел найти в ней подтверждение сказанному хоть призрак того, кто когда-то был защитой и опорой этой земли. – В незапамятные времена, – продолжил он – когда первая ракета взлетела над степью, ослепляя округу своим огнем, мой отец, прошедший всю Великую Отечественную войну солдатом, несказанно обрадовался этому событию: «Слава Аллаху, – сказал он, – Черный пастух в нашу землю вернулся! Надолго воцарится теперь мир». И еще одна черта. Куцайберген по-детски и простодушно верил в том, что рассказывал, и имел талант заражать этой верой собеседника. В тот вечер, когда Гумер пришел к нему, он грузил мешки с шерстью в машину из заготконторы. Помог, а затем они проговорили за чаем допоздна. По утрам в юрте спится так же крепко, как и ночью: первые лучи солнца не попадают в нее, не щекочат назойливо человека в неге, не будят. По этой причине Гумер не проснулся на рассвете, а Кудайберген по зову «внутренних часов» уже был на ногах. Три всадшжа, появившиеся в степи спозаранку, удивили его. – Салам алейкум, – произнес старший из них, державшийся в седле спесиво, как хан. Гумер проснулся, чуть развел вход в юрту. – Аллейкум ассалам! – ответил Кудайберген. – Кто вы и что вас беспокоит? – Негостеприимен ты, Куцайберген, коль сразу спрашиваешь у гостей, кто они и зачем пожаловали, – ответил старший. – Налги бы прежде чаю людям с дальней цороги, – и нехотя добавил, – Тагир я Мансуров из Модынты, такой же бетпакдолинец, как и ты. Может, слышал? Как же не слышать, – ответил Кудайберген. – Только вот не доводилось мне встречаться, не знал, что можешь приветствовать старшего, сидя в седле, смотря на меня сверху вниз. Не почтение это. Они спешились. – У тебя, Кудайберген, есть тот, кто мне нужен, – сказал с ходу Тагир. – Солдат, что ли? – Он самый. Отдай его мне. – И что он плохого сделал тебе? – Убил в недавние беспорядки в Алма-ате моего племянника – большую надежду нашего рода. Взяв ружье Кудайбергена, Гумер вышел из юрты и сказал: – Я никого не убивал! – Разберемся. Положи оружие, щенок! – блеснул глазами Тагир. Кудайберген прищурился. – Давай, Тагир, я отдам тебе лучше жаворонка, – указал он на птицу в небе. – Отдал, возьми же? Тагир промолчал. – Ответить нечего, – улыбнулся Кудайберген. – Так знай, я не могу отдать то, что мне не принадлежит. – Мы можем не только перестрелять друг друга, – обратился к беркутчи Тагир, – но и разойтись полюбовно. Он твой гость, но нужен мне, называй свои условия. Кудайберген смерил Тагира взглядом и предложил: – Говорят, что в ваших краях ты знатный борец в аударыспаке, непревзойденный на сабантуях. Давай разрешим наш спор, как делали деды. Тагир согласно кивнул. Потом они сели на коней и будто бы слились с ними, чем-то напоминая кентавров. Каждый взял сыромятный кнут в зубы, дабы не поддаваться соблазну покусать соперника в борьбе, крепко схватились. Захватами и рывками один пытался выкинуть другого из седла. Тагир был явно сильнее, а Кудайберген ловчее. Боролись очень долго, взмокли, лошади под ними стали сопеть и фыркать. Гумеру же показалось, что спины коней под тяжестью этой борьбы даже чуть прогнулись. Несколько раз Тагир почти выталкивал Кудайбергена из седла, но тот, замысловато выскальзывая из его могучих рук, водворялся на место. Гумер очень переживал. В конце-концов случилось совсем неожиданное. Изловчившись, Кудайберген обхватил грудь соперника и при глубоком вдохе сбросил его на землю. Тот свалился, но быстро и ошеломленно вскочил. Куцайберген же вскинул ладонь, показывая, что закончил борьбу. – Ничего, ваша сегодня взяла, но будет и завтра, – зло посматривая на Гумера, вернулся в седло Тагир, махнул сотоварищам и пришпорил коня. Не отойдя от схватки и тяжело дыша, Куцайберген объяснил: – В аударыспаке, как и любой борьбе, много сил и времени уходит на поиск слабого места соперника. У него очень сильные руки, но слабые ноги, и потому хуже держится в седле. Потом, после некоторой паузы, он спросил Гумера: – Что с тобой произошло в Алма-ате? – Это недоразумение. Не скрою, я уцарил его племянника, но не убил. Гумеру, как некогда Шохпуди, очень захотелось, чтобы вступившийся за него, поверил. – Расследование установило, – продолжил он, – его ударили в темя тупым предметом. Я же бил только кулаком. – Поди разберись теперь, кто кого бил и чем, – сказал Куцайберген. – Большая, говорят, там была заварушка. Что-то происходит с этой страной, если солдаты бьют свой народ, а народ солцатов… Ты когда увольняешься? – К концу этого месяца, надеюсь, отпустят. – Я к тому спрашиваю, – пояснил Куцайберген, – что серьезных врагов ты себе нажил, думаю, аударыспаком не ограничатся. Свои люди у них везде: через Сарыкаган они тебя не выпустят, через Модынты тем паче. Степью надо уходить к возвышенности Жильтау, на ней Джамбул, в нем затеряться легче и выехать. – Начальник особого отдела меня предупредил, что Мансуровы влиятельный род, – ответил Гумер. – Но я не знаю степь, а до Джамбула, небось, несколько сот километров. – Я провожу тебя до первого коша, а дальше пойдешь с проводниками от одного пастбища к другому. И так до реки Чу. За ней и начнутся пески Муюнкум. Там найдешь Саина. Он приведет тебя в Джамбул. – Спасибо Куцайберген, – ответил Гумер, – но сбежать от них – это признать свою вину. Я всего лишь солдат и исполнял свой долг, а получилось, что подставлен в чужой игре. – Ты совсем не знаешь Мансуровых, – оспорил Кудайберген. – Они способны на многое. Им эта власть нипочем. Может, они тебя и не убьют, зато, к примеру, разрежут пятки, вставят в них по конскому волоску, подождут, пока заживут, да и выбросят где-нибудь далеко в степи. Вовек не выберешься из-за адской боли. Лучше уйти от греха подальше. И потом – с какой стати давать себя кому-то подставлять? Не ты затеял эту бойню. Не тебе отвечать. Айгюль же была очень встревожена последние дни и тоже спросила: – Ты всю правду рассказал мне об Алма-ате? – Ты спросила, стрелял ли в кого-нибуць, я ответил, что нет. – Можно убить человека и не стреляя, – возразила она, – Кенжегуль, внучка моей соседки, после тех событий скончалась в Ташкентской больнице. Говорят, пострадало много людей. Ты никого не бил? – Я никого не убивал, – ответил он. Почему тогда возле моего дома околачиваются какие-то подозрительные люди, расспрашивают о тебе и обо мне, следят? – вырвалось у нее. – Я боюсь за нас! – Не бойся, потерпи недельку, а потом мы уедем. Прошли последние дни мая. В один из них молодой немецкий пилот Матиас Руст посадил свой легкий спортивный самолет на Красной площади. То, что не удалось сделать армаде немецких асов в годы войны, совершил в одиночку юнец. – Держава оголилась второпях, как засидевшаяся в девках, и стала доступна всем! – сплюнул старый ракетчик Ночеваленко и подписал Гумеру обходной. Они тепло попрощались. – Может, тебе охрану дать? – спросил напоследок командир. – Не хочу, да и не положено, – отказался Гумер. Солнце уже перевалило за зенит, когда они пришли к Кудайбергену. – Это Айгюль, – представил он ее беркутчи. Куцайберген некоторое время в недоумении разглядывал его спутницу, а потом отвел Гумера в сторону. – Эта девушка, или как ее там, не может ехать с тобой, – прошептал – Почему? – попытался возразить Гумер. – Айгюль неплохо держится в седле. – Да не в этом дело. Кто она тебе? – Невеста. Куцайберген улыбнулся: – Невеста, и ничего не говорила? – О чем? – Х-м… Потом, посматривая в степь, Кудайберген пояснил: – Для меня, что кобылица жеребая, что женщина, разницы нет, узнаю об этом по походке… Гумер удивился: – Айгюль в положении, не может быть! – Не знаю, как беременные ходят у вас на Кавказе, но наши казашки, подобно твоей Айгюль, – уверил Куцайберген. – Верный у меня насчет этого глаз, пятерых детей, как никак имею, и трех внуков. Гумер был поражен, но некоторый шок, как и бывает, прошел. – Что же ты ничего не сказала? – пожурил он Айгюль, когда они остались одни. – В таком положении тебе нельзя со мной. – Этого-то я и боялась, потому и не говорила, – тихо взгрустнула она. – Глупышка! – обнял ее он. – Сейчас нельзя. – На юг поезжай, – распорядился Кудайберген, когда Гумер уже был на коне. – Приедешь прямиком ко второму озеру. Найдешь там чабана Мейрама, скажешь, что от меня, он проведет тебя к следующему кошу. Сам понимаешь, Айгюль теперь оставлять одну здесь нельзя. Надежно спрячу до лучших времен, а потом велел отправлю. – Спасибо, Куцайберген, за все спасибо! – поблагодарил Гумер и, оглянувшись на безмолвно стоящую у юрты Айгюль, тронул уздечку. Опасения Куцайбергена были не напрасны. Когда Айгюль, за которой Мансуровы тщательно следили, зная о ближайшей демобилизации Гумера, не вышла вечером из «чугунки», в их стане всполошились. – Ищи теперь ветра в поле! – расстроился один из них. – В том-то и дело, что в поле, – призадумался Тагир, и сказал, – не знаю, как с ветром, но стань он даже рыбой и кань в воду, иль птицей взмой в небо – все равно изловлю. С последним поездом, оставив на всякий случай родственников на стороже в Сарыкагане, Тагир выехал в предместье реки Чу, к которой, по его разумению, должен был обязательно выйти преследуемый. Гумер же несколько дней шел и ехал от коша к кошу меняя проводников и поражаясь великодушию этих людей. Иногда он очень уставал, но старался не отставать. Друзья Кудайбергена уводили его все дальше и дальше от зарождающихся противоречий эпохи перемен, в которые он попал. А потом была Чу, тихо и безмолвно разделяющая Бетпак-Далу и пески Муюнкум, загадочные, барханные, в редких зарослях белого саксаула. «Верх по реке пойдешь, километра два с гаком, там кош Саина, – объяснил последний проводник Мухтар. – Своенравный он, чужих не любит, но Кудайбергена уважает, сразу скажи, что от него». Гумер стал привыкать к местным своеобразным меркам расстояния. «С гаком» – значило тут почему-то в три раза больше, до Саина оставалось добрых шесть километров… Он оглянулся на Бетпак-Далу и снова вспомнил Мишина, задавшегося вопросом – можно ли быть счастливым в пустыне, названной «злосчастной». Гумер потерял в ней друга, но нашел свою любовь, прекрасных людей, гонялся за Шохпуди, а теперь стал гоним сам. «Все как в жизни, все как в жизни, – подытожил он. – Может быть, в этом то и счастье, что живешь». Когда Мухтар уехал, он разделся и вошел в реку, как и любой путник, не сумевший бы лишить себя такого удовольствия после дальней дороги. Вода освежила, донеся в пустыню холодок ледников и снегов Тянь-Шаня. Затем он прилег на горячий песок и задремал. Через некоторое время, услышав чьи-то шаги, открыл глаза. Над ним стоял сухопарый и колченогий человек. По его лицу от брови и почти до скулы тянулись два глубоких шрама, словно сделанные когтями орла. Взгляд был недружелюбным и недоверчивым. – Кто ты? – поинтересовался он. – Если я назову тебе свое имя, это что-то скажет обо мне, – ответил Гумер. – Я солдат, который идет домой. – Дорог тебе для этого мало? Что степью пошел? – Есть на это причина, – сказал Гумер. – Я иду к Саину. Он проведет меня в Джамбул. Подошедший усмехнулся: – И кто тебя направил к нему? – Кудайберген. Ответ обрадовал и воодушевил незнакомца. – Ну и как поживает старина Кудайберген? – поторопился он. – Неплохо, – ответил Гумер и предположил, – Никак вы и есть Саин? – Он самый, – более доверчиво произнес тот. – Кому еще быть здесь. Чужие не ходят, геологи разве что или геодезисты. Ночь в Муюнкуме была холодная, а потому Саин развел на коше огонь. – Я не спрашиваю, от кого и зачем ты бежишь, – ломая ветки и подкладывая в костер, говорил он, – так как верю Куцайбергену, который не мог бы приютить подлеца и труса. – Он убедил меня в бессмысленности доказывать свою правоту тем, кто глух, – объяснил Гумер. Саин несколько секунд смотрел в темную ночь и сказал: – Наша жизнь, Гумер, как во мраке, не знаешь, что произойдет после каждого твоего шага, но быть готовым ко всему человек просто обязан. Огонь мягко, без языков освещал его лицо, скрадывая, как гримом, шрамы, и оно показалось Гумеру теплее и приветливее, чем днем. В молодости я работал на шахте в Караганде, – начал он повествование о себе, – дослужился до мастера участка. Но, признаюсь, не любил этого дела. Степняку, Гумер, даже в городе тесно, не то что под землей. А тут все чаще и чаще стал мне сниться мой Муюнкум. Вижу себя то в поле у отары, то бредущим на солнце по пескам, и ничего с собой поделать не могу. Уволился. Обосновался здесь. Все поначалу шло хорошо, пока не повадился как-то зимой ко мне волк: прийдет, уволочет овцу и поминай как звали. Долго я пытался выследить его, капканы везде расставил, но все было тщетно. Однажды совсем опустил руки, решив, что не волк ко мне ходит, а шайтан, хитрый и продуманный, чувствующий меня за версту, знающий все, что готовлю против него. Так продолжалось до тех пор, пока он не загрыз в метельной ночи моего «туркмена» – пса Акбара. Это почти довело меня до истерики и окончательно вывело из себя. Собравшись с силами, я неделю не отходил от овец, спал, пил и ел с ними в загоне. Вероятно, волк чувствовал это и долго не приходил, но голод оказался сильнее и подвиг его на прямую схватку со мной. Такого ужаса мне не приходилось испытывать никогда, даже, когда нас завалило в забое. Матерый оказался волчище, первые минуты рвал меня и ворочал, как овцой. И откуца только взялись силы, я выстоял и зарезал «шайтана». Шкура его и сегодня, если ты заметил, покрывает почти треть пола юрты, а эти шрамы на лице остались как память о нем и той ночи. Саин смолк, словно еще и еще раз переживал ту схватку, а потом завершил: – Не для бахвальства я рассказал тебе это, а для того, чтобы знал: у каждого человека даже летом в судьбе может состояться «зима», и то, как важно нам найти в себе силы победить волка, волка из людей. Утром они сели на коней и, проехав несколько десятков километров, заметили, что их преследует какой-то всадник. Он держался на приличном расстоянии, но Гумер узнал его по манере сидеть в седле. Велик был Муюнкум, но и здесь ему не удалось скрыться от казавшегося теперь вездесущим Тагира. – Кто бы это мог быть? – спросил с опаской Саин. – Тагир из Модынты, – ответил Гумер. – Один из тех, кто преследует меня. Они несколько раз останавливались, чтобы дать отдохнуть лошадям, останавливался и он. – Нервы нам треплет или выжидает удобного момента, – предположил Гумер. – Досточтимый в мусульманском мире халиф Али, – заметил спокойно Саин, – когда-то давно сказал, что никогда не пойдет войной против своих соперников – харпджитов, пока они не начнут ее сами. Но я не такой благопристойный, как Али, и, если он не отстанет от нас, ничего хорошего ему не обещаю. Показалась высокая барханная цепь. Скорее всего, опасаясь, что преследуемые займут за ней оборону, а он останется в голой пустыне, Тагир начал стрелять. Конь под Гумером упал, Саин быстро подобрал спутника, но, на удивление, не поскакал за барханы, не схватился за ружье, а, петляя, помчался на запад. Тагир же, пустив коня во весь опор, стреляя, устремился за ними. Через несколько секунд Гумер оглянулся и то, что увидел, приятно превзошло ожидания: конь Тагира, прорвав сплавину – тонкий травяной покров, стал увязать в зыбуне. Хозяин быстро спрыгнул с него с ружьем наперевес, но тоже стал вязнуть. Теперь Гумер понял хитрость Саина. Петлял он не только потому, что так в них было труднее попасть, но и проезжал между зыбунами. Тагир же помчался напрямик и попал в первую ловушку. Победил в погоне тот, кто лучше знал Муюнкум. Болото стремительно втягивало лошадь и Тагира. Саин остановился, а Гумер спешился. – Спасти хочешь? – усмехнулся Саин. – Не можем же мы спокойно смотреть, как они тонут в трясине? – Коня, пожалуй, уже не спасти, а с ним будь поосторожней, может выстрелить, – предупредил он. – Пусть стреляет, – ответил – Гумер, – если собственная шкура не дорога. Тагир уже был по груць в зыбуне и, ухватившись за приклад, торопливо протянул ствол Гумеру. На мгновенье жерло ружья почти уперлось ему в живот, дав Тагиру возможность выбрать между жизнью и смертью обоих. Он, не раздумывая, выбрал первое. Гумер вытащил его на твердь и Тагир, грязный и напуганный, плюхнулся на нее и долго лежал неподвижно. Затем Саин пристрелил уже достаточно увязшего коня, а Гумер выбросил ружье преследователя в болото. Они отъехали. Очнувшись, спасенный зло колотил кулаками по песку. – Тебе не отказать в благородстве, – заметил на это Саин. – Но оценит ли его твой враг? – Может, такая победа над ним и есть самая настоящая, – ответил Гумер. – А оценка моего поступка Тагиром, и тем более его благодарность, мне не нужны. Он уже второй раз проигрывает с позором и, думаю, что это должно чему-то научить. – Набороться не может тот, кто постоянно проигрывает, – возразил Саин. Попрощавшись с ним, последнюю сотню километров Гумер проехал с разведчиками нефти. На возвышенности Жильтау предстал перед ним Джамбул, в грохоте промышленных гигантов, дыму из колоссов труб, подернутый легким смогом. Он уже почти дождался своего поезда, когда на вокзале, озираясь, появился Тагир. Гумер ему даже не удивился, не стал прятаться. – Защитники у тебя были хорошие, очень хорошие, – подсел к нему пришедший. – Но мне не терпится узнать, что сам ты из себя представляешь. В том, что я из себя представляю, ты смог убедиться в муюнкумской трясине, – ответил Гумер. Тагир, как-то брезгливо к тому случаю и презрительно к своему спасителю, ухмыльнулся. – Там, откуда я, говорят, – продолжил Гумер, – если ты не можешь остановиться, верша зло, то обязательно найдется тот, кто остановит. – Не ты ли? – ухмылка по-прежнему косила лицо Тагира. Я! – твердо ответил Гумер и вышел в ночь, на переход над железнодорожными ветками. Тагир набросился сзади и согнутой в локте рукой перехватил ему горло. «У него на самом деле сильные руки», – мелькнул в голове Гумера вывод Кудайбергена, и как ключ к спасению, – но слабые ноги». Он сполз вниз, взвалил на себя Тагира и перебросил его через ограждение перехода. Тот повис, но не отпустил его шею, стараясь увлечь за собой. В груди Гумера, словно открылся запасник воздуха, он с силой разжал локоть Тагира и сбросил его вниз, на рельсы. Чей-то женский тонюсенький голосок провизжал на слабо освещенном перроне: «Человек с перехода сбросился! «Сбросили!» – деловито и уверенно заключил кто-то другой. Гумер быстро вернулся в зал. Приехала «Скорая». «Живой! – заключил в ночи ее врач. – Только вот сотрясение, похоже, получил и кости изрядно подробил». Тагир не оставил Гумеру выбора, потому он и не почувствовал ни тени сожаления в содеянном, ни толику жалости к нему. Потом он спокойно сел в свой поезд, что стремительно помчал его на запад, оставляя позади Муюнкум и Бептак-Далу, ставших дорогими его сердцу места и людей, поверженного врага. Прошли годы и Советский Союз, как старое одеяло, под которым уже было тесно его народам, отнесли на утиль истории. После этого они стали строить свои отношения по-новому. К этому времени он уже нажил с Айгюль сына и дочь. Прошли годы, но несмотря на это, ему часто снились те края, хотя и пустынные, но в какой-то величавой пассионарности и тени летящей в будущее орды, среди которых он видел свою и других, на местах, отведенных им богом и временем.