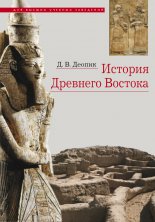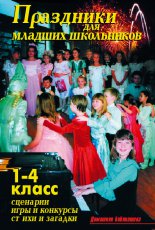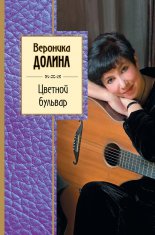Михаил Булгаков. Три женщины Мастера Стронгин Варлен
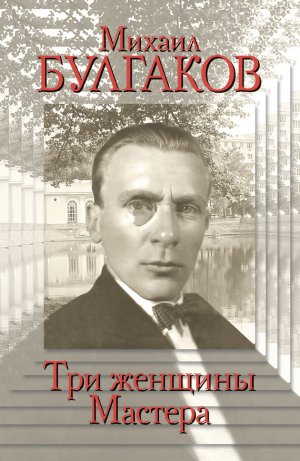
«Н. В. Егоров, по своей невытравимой скупости, нашел, что за собак, которые лают в “Мертвых душах”, платят слишком дорого, и нанял собак за дешевую цену, – и дешевые собаки не издали на сцене ни одного звука…»
«20 января. В театре Немировича – генеральная “Леди Макбет”. Музыка Шостаковича – очень талантлива, своеобразна, неожиданна – в сцене у старика, полька у священника, вальс у полицейских…
Василенко в антракте говорил:
– Шостакович зарезал себя слишком шумной музыкой…»
«Сегодня днем заходила в МХАТ за М. А. Пока ждала его, подошел Ник. Вас. Егоров. Сказал, что несколько дней назад в Театре был Сталин, спрашивал, между прочим, о Булгакове – работает ли в Театре?
– Я вам, Е. С., ручаюсь, что среди членов Правительства считают, что лучшая пьеса – это “Дни Турбиных”.
Вообще держался так, что можно думать (при его подлости), что было сказано что-то очень хорошее о Булгакове. Я рассказала о новой комедии, что Сатира ее берет.
– Это что же, плевок Художественному театру?
– Да вы что, коллекционируете булгаковские пьесы? У вас лежат “Бег”, “Мольер”, “Война и мир”… “Мольера” репетируете четвертый год. Теперь хотите сгноить новую комедию в портфеле? Что за жадность такая?..»
«В адрес МХАТа письмо из Америки: Йельская университетская драматическая труппа запрашивает оригинал “Турбиных”…»
«Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать за Мандельштама – он в ссылке. Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого…»
«Хлеб подорожал вдвое…»
«Вчера было созвано собрание актеров с Судаковым и Станиславским. М. А. не пошел. Ему рассказывали, что Судаков разразился укоризнами по поводу того, что актеры раньше времени съедают закуску, которую подают в “Мертвых душах”…
– Если бы еще был восемнадцатый год, тогда!.. Тут попросила слова Хамотина и произнесла следующее:
– Да как же им не есть, когда они голодные!
– Никаких голодных сейчас нет! Но если даже есть актеры и голодные, то нельзя же есть реквизит!..»
«19 ноября. После гипноза у М. А. начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь – если бы он мог еще ходить один по улице…»
«В “Известиях” напечатано, что убийца Кирова – Николаев Леонид Васильевич, бывший служащий Ленинградской РКИ. Ему тридцать лет.
Не знаю, был ли в Ленинграде Киров в театре, – возможно, что последняя пьеса, которую он видел, были “Дни Турбиных”…»
«Оказывается, что Анатолий Каменский, который года четыре назад уехал за границу, стал невозвращенцем, шельмовал СССР, – теперь находится в Москве.
– Ну, это уже мистика, товарищи! – сказал М. А.…»
«28 декабря. М. А. перегружен мыслями, мучительными. Вчера он, вместе с некоторыми актерами, играл в Радиоцентре отрывки из “Пиквикского клуба”…»
«Спускают воду из труб. Батареи холодные. Боюсь, что мы будем мерзнуть. Сегодня на улице больше двадцати градусов…»
«В девять часов вечера Вересаевы. М. А. рассказывал свои мысли о пьесе. Она уже ясно вырисовывается…»
«31 декабря. Кончается год. Господи, как бы и дальше было так!..»
«18 февраля 1935 года. М. А. играл судью в “Пиквике”…»
«26 марта. М. А. продиктовал мне девятую картину, набережная Мойки. Концовка – из темной подворотни показываются огоньки – свечки в руках жандармов, хор поет “Святый Боже…”»
«7 апреля. М. А. приходит с репетиций у К. С. Измученный. К. С. занимается с актерами педагогическими этюдами. М. А. взбешен – никакой системы нет и быть не может. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо…»
«13 апреля. М. А. ходил к Ахматовой, которая остановилась у Мандельштамов. Ахматовскую книжку хотят печатать, но с большим выбором. Жена Мандельштама вспоминала, как видела М. А. в Батуми лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре».
«Станиславский, услышав, что Булгаков не пришел на репетицию из-за невралгии, спросил:
– Это у него, может быть, оттого невралгия, что пьесу надо переделывать?..»
«23 апреля. Бал у американского посла. М. А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее, с бледно-розовыми цветами… Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков. Афиногенов в пиджаке, почему-то с палкой. Берсенев с Гиацинтовой. Мейерхольд и Райх. Вл. Ив. с Котиком. Таиров с Коонен. Буденный, Тухачевский, Бухарин в старомодном сюртуке, под руку с женой, тоже старомодной. Радек в каком-то туристическом костюме. Бубнов в защитной форме… В зале с колоннами танцуют, с хор – прожектора разноцветные. За сеткой – птицы – масса – порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера – до пят.
Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углах столовой – выгоны небольшие, на них козлята, овечки, медвежата. По стенкам – клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники, запели петухи. Стиль рюсс. Масса тюльпанов, роз – из Голландии…
Привезла домой громадный букет тюльпанов…»
«30 октября. Приехала Ахматова. Ужасное лицо. У нее – в одну ночь – арестовали сына [Гумилева] и мужа [Н. И. Пунина]. Приехала подавать письмо Иос. Вис. В явном расстройстве, бормочет что-то про себя…»
«31 октября. Отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пильняку…»
Анна Андреевна показывала Булгакову свое письмо Сталину. Писатель давно считался «специалистом» по составлению писем вождю. Ведь Сталин не арестовал его за крамольные произведения. Даже разрешил работать. В те времена случай исключительный. Отреагировал на письма писателя – и в общем-то положительно. 10 июня 1934 года Булгаков написал Сталину очередное письмо с просьбой разрешить ему и Елене Сергеевне двухмесячную поездку за границу с целью сочинить книгу о путешествии по Западной Европе: «Отправив заявление, я стал ожидать один из двух ответов, то есть разрешение или отказ нам в ней, считая, что третьего ответа быть не может. Однако произошло то, чего я не предвидел, то есть третье. ИНО исполкома продолжали откладывания ответа по поводу паспортов со дня на день, к чему я относился с полным благодушием, считая, что сколько бы ни откладывали, а паспорта будут».
20 мая Елена Сергеевна записала в дневнике: «Шли пешком возбужденные. Жаркий день. Яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.
– Неужели не арестуют? Значит, я не узник! Значит, увижу свет!»
Последующие записи в дневнике: «Ответ переложили на завтра. 23 мая. Ответ переложили на 25-е. 25 мая. Опять нет паспортов. Решили больше не ходить…»
4 июня был подписан официальный отказ, о котором Булгаковы узнали 7-го: «У М. А. очень плохое состояние. Опять страх смерти, одиночества, пространства. Дня через три М. А. написал обо всем этом Сталину, я отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было». Письмо заканчивалось так: «Обида, нанесенная мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьезнее, что моя четырехлетняя служба в МХАТ для нее никаких оснований не дает, почему я прошу Вас о заступничестве». Булгаков умышленно сваливал вину на произвол чиновников ниже рангом, чем Сталин, который, конечно же, знал о двух братьях-белогвардейцах Булгакова в Париже и о том, кем он был во время Гражданской войны, только ему было подвластно решить судьбу писателя. Это было его очередным психологическим давлением на вольнодумца в надежде, что он «сломается» и начнет писать «правильные» произведения. Булгаков вынужден принять игру вождя. Елена Сергеевна отмечает в дневнике 24 мая 1935 г.: «Были на премьере “Аристократов” в Вахтанговском. Пьеса – гимн ГПУ. В театре были: Каганович, Ягода, Фирин (нач. Беломорского канала), много военных, ГПУ, Афиногенов, Киршон, Погодин».
Булгаков в конце концов принял решение писать пьесу о Сталине, думая, что, узнав об этом, вождь переменит к нему отношение, что вдруг случится чудо и оживут запрещенные его произведения.
«9 сентября. Из МХАТа М. А. хочет уходить. После гибели “Мольера” М. А. там тяжело.
– Кладбище моих пьес. Иногда М. А. тоскует, что бросил роль в “Пиквике”.
Думает, что лучше было бы остаться в актерском цехе, чтобы избавиться от всех измывательств…»
«14 сентября. Приезжали совсем простуженный Самосуд, Шарашидзе и Потоцкий… М. А. в разговоре сказал, что, может быть, он расстанется со МХАТом.
Самосуд:
– Мы вас возьмем на любую должность. Хотите тенором?
Хороша мысль Самосуда:
– В опере важен не текст, а идея текста. Тенор может петь длинную арию: “Люблю тебя… люблю тебя…” – и так без конца, варьируя два-три слова».
Булгакова «сватают» в либреттисты Большого театра.
«15 сентября. М. А. говорит, что не может оставаться в безвоздушном пространстве, что ему нужна окружающая среда, лучше всего – театральная. И что в Большом его привлекает музыка. Но что касается сюжета либретто… Такого ясного сюжета, на который можно было бы написать оперу, касающегося Перекопа, у него нет. А это, по-видимому, единственная тема, которая сейчас интересует Самосуда…»
«3 октября. Шапорин играл у нас свою оперу “Декабристы”, рассказывал злоключения, связанные с либретто, которое писал Алексей Толстой. Шапорин приехал просить М. А. исправить либретто. М. А. отказался входить в чужую работу, но сказал, что как консультант Большого театра он поможет советом…»
«Сегодня десять лет со дня премьеры “Турбиных”. Они пошли 5 октября 1926 года. М. А. настроен тяжело. Нечего и говорить, что в театре даже не подумали отметить этот день. Мучительные мысли у М. А. – ему нельзя работать…»
«14 ноября. В газете – постановление Комитета по делам искусств: “Богатыри” снимаются. “За глумление над крещением Руси…”, в частности… В прессе скандал с Таировым и “Богатырями”. Не обошлось без Булгакова. Тут же вспомнили “Багровый остров…”»
«26 ноября. Вечером у нас: Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские… Ильф и Петров – они не только прекрасные писатели. Но и прекрасные люди. Порядочны, доброжелательны, писательски да, наверно, и жизненно – честны, умны и остроумны…»
Мысли и думы Булгакова – в работе. И во многом они связаны с его любовью. Он пишет своей знакомой (13 сентября 1935 года):
«Люся теперь азартно стучит на машинке, переписывая. Кладу Люсе руку на плечо, сдерживаю. Она извелась, делила со мною все волнения, вместе со мною рылась в книжных полках и бледнела, когда я читал актерам».
1 октября 1935 года Булгаков обращается в Союз писателей:
«Проживая в настоящее время с женой и пасынком 9 лет в надстроенном доме, известном на всю Москву дурным качеством своей стройки, в частности, чудовищной слышимостью из этажа в этаж… я не имею возможности работать нормально, так как у меня нет отдельной комнаты.
Ввиду этого, а также потому, что у моей жены порок сердца (а живем мы слишком высоко), прошу, чтобы мне вместо теперешней квартиры предоставили четырехкомнатную во вновь строящемся доме в Лаврушинском переулке, по возможности невысоко».
Дневник Елены Сергеевны об этом письме Булгакова умолчал – возможно, потому, что в нем идет речь о ее болезни, а возможно, потому, что на положительный ответ она не рассчитывала. Так и вышло – ответа не последовало.
Вот одно из писем жене того периода. «29.XI–36. Утро, где-то под Ленинградом. Целую тебя крепко, крепко. Твой М.»
Булгаков работал тогда с композитором Асафьевым над оперой «Минин», писал либретто, в котором посадский сын Илья Пахомов взывает к патриарху Гермогену:
«– Пришла к нам смертная погибель! Остался наш народ с одной душой и телом, терпеть не в силах больше он. В селеньях люди умирают. Отчизна кровью залита. Нам тяжко вражеское иго. Отец, взгляни, мы погибаем. Меня к тебе за грамотой послали…
Гермоген:
– Мне цепи не дают писать, но мыслить не мешают… И если не поднимете народ, погибнем под ярмом, погибнем!»
В эти строчки Булгаков вложил свой смысл. Писатель может бороться со злом и угнетением только пером, пусть иносказательно, но эта борьба облегчает его душу и отзывается в сердцах единомышленников. Композитор Асафьев отвечал Булгакову в письме:
«Приезд Ваш и Мелика вспоминаю с радостью. Это было единственно яркое происшествие за последние месяцы в моем существовании: все остальное стерлось. При свидании нашем я, волнуясь, ощутил, что я человек, и художник, и артист, а не просто какая-то бездонная лохань знаний и соображений к услугам многих, не замечающих во мне измученного небрежением человека… Привет Вашей супруге».
Внимание Булгакова к людям очень ценилось ими. Сам он с 1934 года ни разу не обращался к Сталину. Теперь же решил заступиться за Николая Робертовича Эрдмана, написавшего в 1928 году знаменитую пьесу «Самоубийца», о которой Сталин сказал Горькому, хлопотавшему за разрешение поставить эту пьесу: «Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков!.. Тот здорово берет! Против шерсти берет! Это мне нравится!»
До Булгакова дошли эти слова вождя, но он знал цену его похвалам – чем они больше, тем опаснее. Булгаков дружил с Эрдманом с начала тридцатых годов, числил его, как и писателя Евгения Замятина, в небольшой когорте авторов, критикующих режим. Поводом для ареста и осуждения Н. Эрдмана и В. Масса – его соавтора – послужили несколько их сатирических басен, признанных вредными и «искажающими действительность».
Булгаков понимал, что рискует, защищая Эрдмана. В 1938 году арестов стало немного меньше, но обстановка в стране по-прежнему оставалась тревожной. Вот текст письма Булгакова Сталину от 4 февраля 1938 года: «Разрешите мне обратиться к Вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калинине.
Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу. Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».
Булгаков одновременно писал об Эрдмане и о себе, находясь, и уже давно, в состоянии «душевного угнетения».
5 февраля 1938 года Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Сегодня отвезла и сдала в ЦК партии на имя Сталина письмо о смягчении участи Николая Эрдмана. Хотела сдать лично в секретариат, но меня не пустили, и я отдала письмо в окно, где принимается почта ЦК».
Ответа на это письмо Булгакова, впрочем, как и на другие, не поступило.
В конце мая 1938 года Елена Сергеевна вместе с младшим сыном Сергеем уехала на отдых в Лебедянь. Это была первая длительная разлука с мужем, которую он переносил тяжело, очень скучая без жены. Отдых для Елены Сергеевны был необходим, поскольку постоянные потрясения привели ее к морально-психологическому кризису – сильным головным болям и бессоннице. Вдали от Елены Сергеевны Булгаков, как никогда остро, ощутил, какой важной и твердой опорой она является в его жизни. Он тоже нуждался в отдыхе, но остался в Москве, загруженный работой в Большом театре, желая непременно закончить роман «Мастер и Маргарита».
«27. V .38. Из Москвы в Лебедянь. Е. С. Булгаковой. Дорогая Люсенька, целую тебя крепко… Жива ли, здорова ли после этого поезда?.. Умоляю, отдыхай! Не думай ни о театрах, ни о Немировиче, ни о драматургах, ничего не читай, кроме засаленных и растрепанных переводных романов… Пусть Лебедянское солнце над тобой будет как подсолнух, а подсолнух (если есть в Лебедяни!) как солнце. Твой М.».
«14. VI .38. Дорогая моя!.. Целую тебя крепко. Лю! Три раза в день тебе купаться нельзя! Сиди в тени и не изнуряй себя базаром! Яйца купят и без тебя. Любуйся круглым пейзажем, вспоминай меня. Много не расхаживай. Значит, здоровье твое в порядке? Ответь!»
«15. VI .38. Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное – корректура (авторская)… “Что будет?” Ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь роман в бюро или шкаф, где лежат убогие мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего… Суд свой над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной во тьму жизни. Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно».
«19. VIII .38. Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в “Мастере и Маргарите”. Ты понимаешь, что стоит это сознание – я прав!»
Глава восемнадцатая
Неродившийся шедевр
Согласно ныне уже хрестоматийному выражению Михаила Булгакова о том, что «рукописи не горят», где-то в архиве Большого театра среди запылившихся тетрадок с нотами и текстами должно сохраниться написанное им либретто оперы «Рашель».
Молодой композитор из Ленинграда Вячеслав Павлович Соловьев-Седой буквально атаковал Булгакова с просьбой написать либретто к его опере «Дружба». Об этом вспоминала в своем дневнике Елена Сергеевна: «Сегодня удружил Самосуд. Прислал композитора Соловьева с началом оперы. Очень талантливая музыка, но никакого либретто нету. Какие-то обрывки, начала из колхозно-пограничной жизни…» И хотя музыка, предложенная композитором, была замечательной и сам Соловьев «чисто по-человечески» нравился Булгакову, но тема оперы была неприемлемой для него, и он, уже сильно больной и работающий над романом «Мастер и Маргарита», искал для Соловьева другого либреттиста.
«Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!» – писал Булгаков жене. И тем не менее он горел желанием найти оперу с сюжетом на общечеловеческую тему, понятную во всем мире, и для этого выбрал рассказ Ги де Мопассана «Мадемуазель Фифи». Елена Сергеевна была в восторге от его задумки, даже пожалела, что не она нашла этот рассказ, хотя читала его дважды. «Просто мне не пришло в голову, что его можно превратить в оперу, – оправдывалась она. – Впрочем, ты – гений, а не я». – «Ты больше чем гений, – улыбался Булгаков, – ты даешь мне жизнь, я серьезно говорю».
В первых картинах оперы Михаил Афанасьевич предполагал изобразить изнывающих от безделья немецких офицеров. Они расположились в захваченном ими старинном французском замке. Самым молодым из них был маркиз Вильгельм фон Эйрик – «миниатюрный блондин, чванливый, грубый с солдатами, жестокий к побежденным, готовый вспыхнуть как порох по любому поводу»… Товарищи называли его не иначе как «мадемуазель Фифи». Этим прозвищем он был обязан жеманному виду, тонкой талии, словно затянутой в корсет, бледному лицу с еле пробивающимися усиками, а главное – усвоенной им привычке в знак величайшего презрения ко всем одушевленным и неодушевленным предметам произносить с присвистом: «фи-фи!»
Булгаков представлял себе выходную арию этого офицера в виде сатирической песенки. На последнем настаивала Елена Сергеевна: «Для такого типа, как этот самоуверенный глуповатый офицер, ария будет выглядеть чересчур громоздко и даже нелепо». – «Вот и хорошо, – не соглашался Булгаков, – ария будет контрастировать с его характером и даже видом… Ладно, решим, когда появится музыка».
Мадемуазель Фифи развлекался очень своеобразно, взрывая при помощи пороха ценные сосуды и скульптуры хозяина замка, не успевшего вывезти и спасти от немцев свой незаурядный музей. Каждый взрыв вызывал у офицеров восторг. Они хлопали при виде «терракотовой Венеры, у которой наконец-то отвалилась голова». Неожиданно мадемуазель Фифи бросил взгляд на портрет дамы с усами и вынул револьвер.
– Тебе незачем это видеть, – сказал он и, не вставая со стула, выстрелами пробил оба глаза на портрете.
Елена Сергеевна задумалась: «Может быть, тут герой должен громко рассмеяться, а его смех поддержат другие офицеры?» – «Не исключено», – сказал Булгаков, продолжая чтение рассказа и мгновенно переделывая прозу в драматические сценки.
Три месяца вынужденного воздержания от встреч с женщинами побудили офицеров на устройство пирушки, для чего собирались пригласить проституток из Руана.
– Разрешите, господин майор, ведь здесь такая тоска! – умоляли они командира. В конце концов командир уступил офицерам и послал в Руан за девушками исполнительного фельдфебеля «Чего-Изволите».
Михаилу Афанасьевичу эта опера в первом акте виделась комической, близкой к оперетте. И поведение офицеров, и готового выполнить любое поручение начальства неулыбчивого фельдфебеля, и даже местного кюре, взявшего на постой и кормившего немецких солдат, не раз распивавшего пиво с победителями и выражавшего протест против оккупации лишь молчанием колокольни, – все это выглядело если не смешно, то трагикомично. «Командир и офицеры смеялись над столь безобидным проявлением отваги, и так как все местные жители держали себя услужливо и покорно, немцы терпели их немой патриотизм», – иронически замечал Мопассан.
Во втором акте в замке появились пять красивых женщин. Заместитель командира – капитан, заядлый бабник, начал их распределять. «Что поделаешь – ремесло…» – поют девушки, садясь на колени к развязным и беспардонным захватчикам.
«Кто может написать музыку к этой опере?» – думал Михаил Афанасьевич, и хотя далее опера принимала патриотическое, доходящее до трагизма звучание, в его мыслях автором музыки все отчетливее возникал композитор Дунаевский, песни которого были очень разнообразными по характеру: и веселыми, и сатирическими, и оптимистическими, и глубоко лиричными, а его прелюдия к фильму «Дети капитана Гранта» была глубоким и оригинальным, более симфоническим, чем эстрадным, произведением. К тому же ему, создателю оперетт, было по силам создание большой музыкальной формы. Дунаевский загорелся желанием написать оперу – ее условное название было «Рашель», его безоговорочно устраивал сюжет, он даже обговорил срок показа музыки первого акта. Елена Сергеевна радовалась созданию такого творческого дуэта: «Популярность музыки Дунаевского в народе наверняка привлечет внимание зрителей к его первой опере».
1 декабря 1937 года Булгаков пишет Дунаевскому:
«Дорогой Исаак Осипович! Что же Вы не подаете о себе никакой вести? Я отделываю “Рашель” и надеюсь, что на днях она будет готова. Очень хочется с Вами повидаться. Как только будете в Москве, прошу Вас, позвоните мне. И “Рашель”, и я соскучились по Вам.
Ваш М. Булгаков».
Он пишет либретто легко и с удовольствием, надеясь, что его работа либреттистом привнесет новое веяние в репертуар Большого театра. Ему надоело возиться со скучными, в основном с явно пропагандистскими сюжетами. Либретто «Рашели» выглядит для кое-кого из Реперткома легковесно. Сюжет рассказа Мопассана высокопатриотичен, но не по советским меркам, а по общечеловеческим. И Булгаков был доволен, когда в «Ленинградской правде» 26 декабря 1938 года Дунаевский рассказывает в интервью о своих творческих планах: «Прекрасное либретто написал М. Булгаков… Эта опера задумана нами как гимн патриотизму народных масс, национальному и неугасимому народному духу и величию!» Булгаков и Елена Сергеевна понимают, что Исаак Осипович тоже думал о цензурной «проходимости» оперы, наверное, отсюда его громкие слова о сюжете оперы, даже отсутствие фамилии французского писателя, по мотивам рассказа которого она создавалась.
Булгаков рассказывал Елене Сергеевне сюжет оперы, состоящий из пяти картин.
Капитан разделил женщин между офицерами по их чинам, чтобы ни на йоту не нарушить иерархии… Самому молодому из офицеров, хрупкому маркизу Вильгельму фон Эйрик капитан отдал самую маленькую – Рашель, юную брюнетку с глазами, словно чернильные пятна, еврейку, чей вздернутый носик был исключением из правила…
Булгаков, творящий роман о Воланде, находит время для работы над «Рашелью» и пишет либретто с удовольствием.
Елена Сергеевна отмечала в дневнике: «23 сентября. Вечером тихо. Миша сидит над Мопассаном… 24 сентября. Миша днем работал над “Фифи”».
7 октября к Булгаковым приехал Дунаевский. «Либретто “Рашели”» чрезвычайно понравилось. Дунаевский зажегся. Играл, импровизируя, веселые вещи, польку, взяв за основу Мишины первые такты, которые тот в шутку выдумал, сочиняя слова польки. Ужинали весело», – записала Елена Сергеевна в дневнике.
Потом лица у авторов стали серьезными. Сюжет либретто постепенно, по мере развития действия, приобретал трагический характер.
«Один из немецких офицеров в порыве пьяного патриотизма, поднимая бокал с вином, рявкнул:
– За наши победы над Францией!
Как ни были пьяны женщины, они умолкли, а Рашель, вся задрожав, обернулась:
– Послушай-ка, есть французы, при которых ты это не посмел бы сказать.
Но юный маркиз, повеселевший от вина, захохотал, не спуская ее с колен.
– Ого-го! Я таких пока не видел. Стоит нам появиться, как они удирают!
Девушка вспыхнула и крикнула ему в лицо:
– Врешь, гадина!
Тогда юный маркиз поставил на голову еврейки вновь наполненный бокал шампанского, выкрикнув:
– И все женщины наши!
– Что я? Я не женщина, а шлюха, а других пруссакам не видать!
Не успела она договорить, как он наотмашь ударил ее по щеке; но когда он вторично занес руку, она, обезумев от гнева, схватила со стола десертный ножичек и внезапно, так что другие ничего не заметили, вонзила ему серебряное лезвие у самой шеи, туда, где начинается грудь… Слово застряло у него в горле, он застыл, раскрыв рот, страшно выкатил глаза. После удара мадемуазель Фифи, маркиз, почти сразу испустил дух… Рашель швырнула стул под ноги поручику Отто, тот растянулся во весь рост, а она бросилась к окну, распахнула его, прежде чем ее успели настичь, и прыгнула во мрак, под дождь… Рашель найти не удалось…»
И тут в действие либретто вступал местный кюре. Булгаков волновался. Об этом есть запись в дневнике Елены Сергеевны:
«14 окт. Тут же, конечно, возник вопрос о том, как же в опере показывать кюре. Боже, до чего же будет нехудожественно, если придется его, по цензурным соображениям, заменить кем-либо другим».
Несколькими днями назад Булгаков претерпел еще одно потрясение, связанное с этой оперой, о чем Елена Сергеевна вспоминала с негодованием:
«8 окт. Сегодня целый день посвящен чудовищному фокусу, который Самосуд собирается учинить с Дунаевским. Он хочет теперь его отставить во что бы то ни стало и заменить Кабалевским! Что за беспринципность невероятная, или легкомыслие, или то и другое вместе!.. Сам же пригласил Дунаевского на работу, и теперь такое вероломство!»
К счастью, Булгаков проявил свойственное ему упорство в том, чему верил, и доказал начальству, что именно Дунаевский нужен для этого либретто и его музыкального воспроизведения.
24 декабря 1938 года наконец-то пришел долгожданный ответ от Дунаевского:
«Дорогой Михаил Афанасьевич! Проклятая мотня со всякими делами лишает меня возможности держать с Вами тот творческий контакт, который порождается не только нашим общим делом, но и чувством глубочайшей симпатии, которую я к Вам питаю с первого дня нашего знакомства… Я счастлив, что Вы подходите к концу работы, и не сомневаюсь, что дадите мне подлинного вдохновения блестящей талантливостью Вашего либретто. Не сердитесь на меня и не обращайте никакого внимания на кажущееся мое безразличие. Я днем и ночью думаю о нашей чудесной “Рашели”. Крепко жму Вашу руку и желаю здоровья и благополучия. Ваш И. Дунаевский».
Это письмо было написано Булгакову после очередных нападок на его творчество, сотен отрицательных и злых рецензий. Теплое письмо Дунаевского, истинно творческого человека, полное уважения к трудам Михаила Афанасьевича, действительно стало для него источником вдохновения в работе над либретто и, несомненно, над последним и главным романом в его жизни.
22 января 1939 года Булгаков ответил Дунаевскому:
«Получил Ваше письмо, дорогой Исаак Осипович! Оно вселяет бодрость и надежду… Извините, что пишу коротко и как-то хрипло, отрывисто – нездоровится. Колючий озноб, и мысли разбегаются. Руку жму крепко, лучшие пожелания посылаю. Ваш М. Булгаков».
Обычно в болезненном и усталом состоянии Булгаков диктовал письма жене, а тут ввиду важности вопроса и особенного уважительного отношения к композитору сам взялся за перо, написал коротко, но сам.
Михаил Афанасьевич скрупулезно трудился над рассказом Мопассана, не упуская в либретто даже деталей сюжета, так же, как и над инсценировкой «Мертвых душ», без страха перед цензурой. Была сохранена и роль кюре.
«Не делайте большие глаза!» – говорил он оппонентам, упрекавшим его в переделке «Мертвых душ» из повести в пьесу, рассказа Мопассана – в оперу.
Композитор, получив первый акт, писал Булгакову (18 января 1938 года):
«…Считаю первый акт нашей оперы с текстуальной и драматической стороны шедевром. Надо и мне теперь подтягиваться к Вам… Пусть отсутствие музыки не мешает Вашему прекрасному вдохновению… Друг мой дорогой и талантливый! Ни секунды не думайте обо мне иначе, как о человеке, беспредельно любящем свое будущее детище. Я уже говорил Вам, что мне шутить в мои 39 лет поздновато. Скидок себе не допускаю, а потому товар хочу показать самого высокого класса. Имею я право на длительную подготовку “станка”? Мне кажется, что да… Крепко жму Вашу руку и желаю действовать и дальше, как в первой картине. Я ее много раз читал среди друзей. Фурор! Знай наших!»
Письмо от композитора весьма обнадеживало Булгакова, и Елена Сергеевна записала в дневнике 24 января 1939 года: «И сегодня, и вообще последние дни Миша диктует “Рашель”».
Но будучи человеком «битым» и проницательным, Булгаков все-таки побаивался, что на Дунаевского, обласканного властями, может повлиять политическая конъюнктура, он побоится потерять славу, добиться которой было очень нелегко.
Конец тридцатых годов был самым счастливым в судьбе композитора. Всюду пели его песни из кинофильмов «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга»… Первым из советских композиторов он был награжден орденом, по Волге начал курсировать пароход «Композитор Дунаевский»… Булгаков писал соавтору:
«Дорогой Исаак Осипович! При этом письме третья картина “Рашели”. На днях, во время бессонницы, было мне видение. А именно – появился Петр I и многозначительно сказал:
– Время подобно железу, которое, ежели остынет… Пишите! Пишите!»
Однако все попытки и старания Булгакова зажечь Дуню, как ласково прозвали его друзья с подачи Леонида Утесова, не давали ощутимого результата. Лишь через месяц Дунаевский заехал к Булгакову, который, однако, к их работе уже был настроен пессимистически, поэтому встретил композитора хмуро. В голосе Михаила Афанасьевича звучали недоумение и печаль, особенно после слов Дунаевского о том, что, судя по газетам, «Франция ведет себя плохо». Булгаков понял эти слова так, что, по мнению Дунаевского, их опера не пройдет цензуру. А Дунаевскому было стыдно за свое поведение, ведь он еще ничего не написал. Елена Сергеевна делала вид, что не замечает разлада между соавторами, шутила, накрывала на стол. Для успокоения Михаила Афанасьевича Дунаевский в его присутствии начал работать над тремя картинами «Рашели», но было видно, что делал он это через силу и вяло. Играет наметку канкана и вдруг оживает – музыка ему нравится, и в это время Булгаковым кажется, что он забыл о газетных выпадах против Франции. Елена Сергеевна записала: «Миша охотно принимает те поправки, что предлагает Дунаевский, чтобы не стеснять и не затруднять музыкальную сторону… но все же было ясно, что настоящей совместной работы не будет».
Дунаевский вновь надолго исчез. Булгаков приступил к правке романа «Мастер и Маргарита».
По сути, в работе с Дунаевским была поставлена точка, но Булгаков, связанный договором с Большим театром, нашел силы и время закончить либретто оперы и послал Дунаевскому краткое письмо: «Дорогой Исаак Осипович! Посылаю при этом 4 и 5 картины “Рашели”. Привет! М. Булгаков». Елена Сергеевна приложила к письму свою приписку: «…Неужели и “Рашель” будет лишь рукописью, погребенной в красной шифоньерке? Неужели и Вы будете очередной фигурой, исчезнувшей, как тень, из нашей жизни? У нас уже было много таких случаев. Но почему-то в Вас я поверила. Я ошиблась?»
Интересно, что письмо с припиской отправлено 7 апреля, в тот день, когда Булгакову позвонил журналист Долгополов с просьбой рассказать ему содержание «Рашели». Сделать это ему посоветовал Дунаевский, по его словам, интенсивно работающий над оперой.
Через два месяца, 7 июня, Дунаевский в интервью «Вечерней Москве» заявил, что «с большим увлечением работает над своей первой оперой “Рашель”».
Елена Сергеевна заметила по поводу этих слов: «Убеждена, что ни одной ноты он не написал, так как пишет оперетту и музыку к киносценарию». Сказала уверенно и твердо, чтобы не обнадеживать мужа.
Чем же объяснить упорные заявления композитора о работе над оперой? Он понимал, что опера – одна из вершин музыкального творчества, что именно «Рашель» с отличным сюжетом может стать шедевром, способным обогатить классический оперный репертуар, как «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, что его имя, советского композитора-песенника, после создания оперы станет известным во всем мире, и поэтому выдавал желаемое за действительное. Дунаевский растерялся, реально осознав, что он сочиняет музыку для сюжета из иностранной жизни; он отчетливо понимал, как к этому может отнестись Сталин, доведший талантливейшего композитора Шостаковича до нервного потрясения. Дунаевский противоречил словам одной из своих лучших песен: «Сердце, тебе не хочется покоя…» Захотелось жить спокойно…
И все-таки он нашел в себе мужество признаться Булгакову и его жене в причинах того, почему он не написал оперу:
«Уважаемая и милая Елена Сергеевна! Нет, нет и нет! Никогда и ничто не собьет меня с намеченной цели, кроме моего собственного бессилия. Я прошу Вас верить мне, моему внутреннему нутру, верить моему глубокому уважению и величайшей симпатии, которую я питаю к Михаилу Афанасьевичу как человеку и писателю. Наконец, Вы, Елена Сергеевна, добрейшая и удивительная, стоящая у колыбели нашей оперы, несомненно, будете и первым “приемщиком” готового произведения. Что нужно для этого? Покой! Собраться с силами нужно! А я еще до сих пор плаваю в море депутатских бумаг. Но мною предпринимаются героические меры к устранению моих бытовых неполадок. Сейчас я работаю над опереттой, которую должен сдать к лету, а потом – сразу за оперу».
Далее в письме приводились другие заверения композитора в том, что «мы скоро будем слушать первые картины нашей обаятельной “Рашели”», заверения, увы, больше похожие на мечты и самоуспокоение. Дунаевский чувствовал, что встреча с таким драматургом, как Булгаков, больше в его жизни не состоится. «Собраться с силами нужно!» – повторял он слова из письма Булгакову, но сделать этого не мог.
Вскоре на передовых полосах газет была помещена фотография наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова, сходящего со ступенек поезда в Берлине, а 23 августа 1939 года между СССР и Германией был заключен пакт о ненападении и в то же время секретный пакт Молотова – Риббентропа о разделе Европы. В 1940 году немецкие войска оккупировали Францию. После этого о постановке «Рашели» не могло быть и речи. Но спустя два года, во время войны России с Германией, эта опера была бы очень злободневной. Могла бы звучать и сегодня, когда большинство народа в самой Германии и во всем мире осуждает милитаризм.
Позднее его либретто в корне переделала поэтесса Маргарита Алигер, возможно, даже изменила название «Рашель» на «Зою» или «Нину», музыку написал композитор Глиэр, но опера не увидела света, хотя в прессе отмечалось, что она имеет «оборонное значение».
Несмотря на неудачи, Булгаков не сдавался. Елена Сергеевна записывала 5 апреля 1939 года: «Днем вдруг охватил прилив сил – надо что-то делать, куда-то идти…
Миша согласился пойти вместе со мной в репертком с “Пушкиным”.
Там, когда по телефону узнали, что придет М. А., испугались: “А что с ним случилось?” – Ничего, просто пьесу вам принесет. – А-а! Очень приятно!
Но эта радость там мгновенно исчезла, когда увидели “Пушкина”.
– Что это вам вздумалось? (Замечательный вопрос.)
– Да это не мне, это жене моей вздумалось. Устроили такой фортель – оказывается, просто от автора пьесу принять не могут. Нужно или через театр, или через отдел распространения.
Ну что же, получат через отдел распространения!»
7 апреля Булгакову поступило сообщение о заседании художественного совета при Комитете по делам искусств. Доселе недолюбливавший Булгакова Немирович выступал и много говорил о нем: «Самый талантливый мастер драматургии и т. п. Почему вы не используете такого талантливого драматурга, какой у нас есть, – Булгакова?
Голос из собравшихся:
– Он не наш!
Немирович:
– Откуда вы знаете? Что вы читали из его произведений? Знаете ли вы “Мольера”, “Пушкина”? Он написал замечательные пьесы, а они не идут. Над “Мольером” я работал, эта пьеса шла бы и сейчас. Если в ней надо что-нибудь изменить, по мнению критики, это одно. Но почему снять?»
Елена Сергеевна считала выступление Немировича полезным. Миша не соглашался: «Да и кому он говорит и зачем? Если он считает хорошей пьесу “Пушкин”, то почему не репетирует?»
Булгаков безмерно устал от театральной и реперткомовской волокиты с его пьесами. Елена Сергеевна старалась помочь ему, занималась его вопросами сама: «13 апреля 1939 года. Была сегодня в Реперткоме. Они вызывали М. А., но он, конечно, не пошел. Говорила с политредактором Евстратовым – по поводу “Мертвых душ”. Он считает, что М. А. надо пересмотреть пьесу в связи с изменением отношения к Гоголю – с 30-го года и вставить туда что-то. Я сказала, что ни пересматривать, ни вписывать М. А. не будет. Что это его не интересует. Что я просто оттого подняла вопрос с этой пьесой и буду поднимать о других, чтобы выяснить положение М. А., которого явственно не пускают на периферию и вообще запрещают…»
«15 мая. Вчера у нас было чтение – окончание романа… Файко оба, Марков, Виленкин, Ольга… Последние главы слушали почему-то закоченев. Все их испугало. В коридоре меня испуганно уверяли, что ни в коем случае подавать нельзя. Могут быть ужасные последствия…»
«22 мая “решено отказать… в выписывании пишущей машинки из Америки… на деньги от “Мертвых душ” через Литературное агентство.
Это – не жизнь! Это мука! Что ни начнем, все не выходит! Будь то пьеса, квартира, машинка, все равно».
Глава девятнадцатая
Смелое решение. Последние и последующие дни
«6 января. Сегодня на рассвете, в шесть часов утра, когда мы ложились спать, засидевшись в длительной, как всегда, беседе с Николаем Робертовичем Эрдманом, Миша сказал мне очень хорошие вещи, и я очень счастлива… Вчера, когда Николай Робертович стал советовать Мише, очень дружелюбно, писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует как “местный протоиерей”. Вообще их разговоры, по своему уму и остроте, доставляют мне бесконечное удовольствие…»
Очень жаль, что Елена Сергеевна не отразила в дневнике хотя бы некоторые их разговоры, лишив современных читателей пиршества ума и остроумия. Любовь четы Булгаковых не угасает: «Миша очарователен. Обожаю его!.. Миша видел, что я пишу дневник, и говорит: напиши, что я очарователен и ты меня любишь. Я и написала».
21 мая Елена Сергеевна заметила в дневнике, как бы вскользь: «Миша сидит сейчас (десять часов вечера) над пьесой о Сталине», а 22-го выделяет отдельной строчкой: «Миша пишет пьесу о Сталине».
Вероятно, мысль о написании этой пьесы зародилась у Булгакова в начале апреля после увиденной в Большом театре оперы «Иван Сусанин» (с новым патриотическим эпилогом): «…Перед эпилогом правительство перешло из обычной Правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина, Пожарского – овации. Это все усиливалось и наконец превратилось в грандиозные овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена – по адресу Правительства, а публика – и туда, и сюда». На следующий день Елена Сергеевна узнала, что спектакль вызвал в зале необыкновенный подъем и какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: «Вот, увидела все-таки!» Что люди вставали ногами на кресла!
Сначала Булгаков пошутил насчет нового бога, а потом сказал, что появился не новый бог, а тиран, очень ловкий и хитрый тиран, превративший людей в рабов и заставивший их поклоняться ему, как богу.
– Буду писать пьесу о Сталине! – решительно заявил он жене.
– Что?! – изумилась Елена Сергеевна. – Неужели сможешь, Миша?!
– Он – единственный в стране, кто может повелевать судьбами людей. Я напишу пьесу о молодом Сталине, о годах его учения в семинарии, когда он еще не успел стать тираном. Кстати, говорят, что арестован Бабель.
– Слышала.
– Я устал от борьбы с новоявленным богом, с его слугами, их много, и они очень опасны. Не всякий из них поднимет руку на писателя, создающего пьесу об их боге.
Я должен закончить свой роман. Я работал в Подотделе искусств Владикавказа. Меня щипали местные журналисты, особенно один – недоучка под псевдонимом Вокс, но Подотдел существовал при местном ревкоме, и я все-таки смог работать над своим первым романом; пять пьес, пусть неважных, но написал. Меня щипали, нервировали, но не уничтожили. В нынешних условиях только Сталин может обезопасить меня от бесконечной травли. Я, как волк, огрызаюсь, но я загнан, “он – не наш, – кричат обо мне, – он – враг…” А если враг не сдается… Я не сдаюсь. Я пишу “Мастера и Маргариту”, я обязан отделать роман… Но времени для этого осталось немного, и не больше сил. Смело говори, что твой муж пишет пьесу о Сталине. Не стесняйся и не стыдись этого. Или ты считаешь, что игра не стоит свеч?
– Стоит, – опустила голову Елена Сергеевна, – я тоже не вижу иного выхода, Мака.
Не минуло и двух недель, как «3-го июня пришла Ольга – знаменитый разговор о Мишином положении и о пьесе о Сталине. Театр, ясно, встревожен этим вопросом и жадно заинтересован пьесой о Сталине, которую Миша уже набрасывает, – не без удовольствия заносит в дневник Елена Сергеевна. – Миша сидит, пишет пьесу. Я еще одну сцену прочла – новую для меня. Выйдет!»
Но, наверное, нелегко давалась Булгакову эта пьеса. Елена Сергеевна наряду с хвалебными отзывами друзей о прочитанных им отрывках из пьесы вынуждена была занести в дневник: «Лишь немного прочитал из пьесы. Весь вечер – о ней. Миша рассказывал, как будет делать сцену расстрела демонстрации… Настроение у Миши убийственное… Миша сказал Симонову о пьесе. Задохнулся, как говорит Настасья».
Но новый роман, который Булгаков доделывал, оттачивая каждую фразу, менял его настроение.
«23 июня. Миша уехал в Серебряный Бор купаться. Я – хлопотать о покупке заграничной машинки. Будто бы арестован Мейерхольд…»
«27 июня. Вчера у Ольги Качалов, Виленкин… Миша прочитал первые три главы из “Мастера”. Мне понравился Качалов и то, как он слушал, – и живо и значительно».
Булгакова торопили с окончанием пьесы, достали ему справку о книгах Тифлисской семинарии, которые, возможно, читал юный Сталин.
«24 июля. Пьеса закончена! Проделана была совершенно невероятная работа – за 10 дней Миша написал девятую картину и вычитал, отредактировал всю пьесу – со значительными изменениями…»
«27 июля. В Театре в новом репетиционном помещении – райком, театральные партийцы и несколько актеров… Слушали замечательно, после чтения очень долго стоя аплодировали. Потом высказыванья. Все очень хорошо…»
«29 июля. Ездили купаться в Серебряный Бор…»
«3 августа. Звонил инспектор по репертуару некий Лобачев – нельзя ли прочитать пьесу о Сталине, периферийные театры хотят ее ставить к 21 декабря… Немировичу пьеса очень понравилась: обаятельная, умная, виртуозное знание сцены. Потрясающий драматург. Не знаю, сколько здесь правды, сколько вранья… Немирович звонил в Секретариат, по-видимому, Сталина, узнать о пьесе, ему ответили, что пьеса еще не возвращалась…»
«7 августа. Утром, проснувшись, Миша сказал, что, передумав после бессонной ночи, пришел к выводу – ехать сейчас в Батуми не надо… “Советское искусство” просит М. А. дать информацию о своей новой пьесе… Я сказала, что М. А. никакой информации дать не может, пьеса еще не разрешена…
– Знаете что, пусть он напишет и даст… Если будет разрешение, напечатаем. Если нет – возвратим вам.
Я говорю – это что-то похожее, как писать некролог на тяжело заболевшего человека, но живого. Неужели едем завтра?..»
«14 августа. Восемь часов утра. Последняя укладка. В одиннадцать часов машина. И тогда – вагон!..»
«15 августа. В Серпухове, когда мы завтракали, вошла в купе почтальонша и, не разобрав фамилию, спросила: “Где здесь бухгалтер?” – и протянула телеграмму-молнию. Миша прочитал (читал долго) и сказал – дальше ехать не надо.
В телеграмме было: “Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву”. Сошли в Туле. Через три часа бешеной езды были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил – покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса?..»
«17 августа. Вчера в третьем часу дня – Сахновский и Виленкин. Речь Сахновского сводилась к тому, что Театр ни в коем случае не меняет своего отношения ни к М. А., ни своего мнения о пьесе… Потом стал сообщать: пьеса получила наверху (в ЦК, наверно) резко отрицательный отзыв».
Елена Сергеевна осторожно замечала: