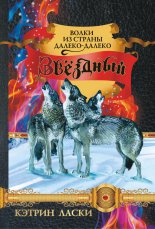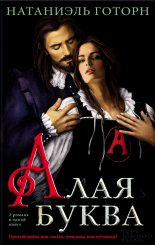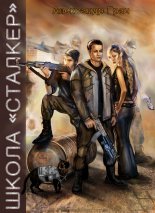Схевенинген (сборник) Шендерович Виктор

– Ну как тебе на свободе? – поинтересовался я как-то.
– Старик, – веско ответил из трубки крыловский голос, и я словно увидел его печальный, черный вороний глаз, – свобода в больших количествах называется одиночеством.
Надо сегодня же позвонить!
Строгий мужчина маячит в трибуне, путаясь в падежах – и я проникаюсь к нему нежданным сочувствием: как же он старается, как симулирует полет мысли, как отрабатывает свой белый, с маслицем, кусочек хлеба!
Признавайся, очкастый, ты тоже Коняхин?
Вычерпав котелок своих банальностей, очкарик с видимым облегчением выходит из трибуны под вежливое похлопывание партерных, а входит в трибуну грузный негр. Бубуканье начинается снова – на двух языках, с переводом. Я уже не знаю, сколько времени сижу в этом зале, глаза неудержимо слипаются, и, благодарный армейской выучке, я засыпаю, как на политзанятиях, – без храпа, с гордо поднятой головой. Иногда сознание мое субмариной всплывает на поверхность; в эти секунды я различаю то упитанного негра, то женщину с вавилоном на голове, то алую полосу транспаранта. При очередном моем всплытии в зале раздаются какие-то особые, искренние аплодисменты, и я понимаю, что собрание закончено.
Выйдя из зала, я на поролоновых ногах бреду опять в туалет – нельзя же выходить на улицу с такой физиономией! Приведя себя в чувство, уставляюсь на часы: почти шесть. Был бы пообедавши, мотанул бы сейчас в библиотеку, а так – конечно, домой. Голод уже прошел, оставив после себя резь в животе и слабость.
Размазанный по поручню, два века ползу в родные пенаты. После разгрузки угля зимой езда в нашем автобусе – самая тяжелая физическая работа из всех, которые мне приходилось делать.
Выпустят меня из этой братской могилы – или как?
Вот моя деревня, вот мой дом родной, пятиэтажный, без лифта и перспектив. Говорят, года через два прокопают сюда метро – и наши акции в Банном переулке сразу поднимутся на несколько пунктов.
Чудище выбегает из комнаты с зажатой в кулаке обезьянкой. Лапа у обезьянки висит на веревочке, но сегодня нашей девочке повезло, воспитательного процесса не будет – все мои локаторы и антенны направлены на кухню, чтобы по кастрюльному звону и напору воды определить Иркино настроение. Три года семейной жизни утончают человеческую наблюдательность до недоступной холостякам остроты.
– Привет, – говорю я входя, голосом нейтральным, равно готовым и к труду, и к обороне.
– Привет, – отвечает Ирка таким же неопределенным тоном.
– Купил лампочку, – сообщаю я. В зависимости от желания это можно понять и как «исправляюсь», и как «подавись ты своей лампочкой!».
Тонкая французская игра.
– Хорошо, – говорит Ирка. То ли «спасибо, молодец», то ли «плевать я хотела, чего ты там купил!» – Есть будешь?
Слава богу. Кажется, война закончена.
Окончательное примирение происходит за ужином. Ирка говорит, что она плохая жена и совсем обо мне не заботится – как я только терплю ее с ее характером; я говорю, что совсем напротив, она – лучшая из моих жен, завтра же велю казнить половину гарема и буду любить только ее, и остаток жизни посвящу борьбе с удлинителем.
Даже Чудище с ее нагловатыми претензиями не мешает нашему воркованию.
Поев, я на радостях иду в ванную и, засучив рукава, начинаю сверлить дырки в стене: то-то будет женушке праздник, когда корыто перестанет падать ей на голову, а повиснет на крючках, как у людей!
Праздника не получается. Вторая дырка оказывается в жутко неудобном месте, упираться в дрель приходится левой рукой, а под штукатуркой обнаруживается какой-то сверхпрочный материал. Начинаю орудовать пробойником – на грохот прибегает Ирка, а Чудище прячется под стол и правильно делает: пробойник вырывается из плоскогубцев и, просвистев мимо меня, чуть не втыкается в стенку напротив. Нервы у меня сдают, и я ору дурным голосом, чтобы у меня не стояли над душой и уходили подобру-поздорову, пока я не поубивал всех пробойником к чертовой матери.
Свершив наконец хозяйственный подвиг, я швыряю инструменты в ящик; знаю, что потом опять буду полдня искать какой-нибудь шуруп, но аккуратничать сейчас выше моих сил.
На кухне – классическая картина: изведение дефицитного продукта и читка вслух. Под шумок дрожащими от сверления руками беру тетрадку и переселяюсь в комнату. Надо обязательно осилить сегодня эту сучью «поступь» – завтра времени не будет. Ах ты… Забыл! Я хватаю телефонную трубку, и руки у меня дрожат – уже не от сверления: неужели пропустил?.. Не прощу себе, не прощу!
– А, привет, – отрывисто говорит Лев Яковлевич.
– Простите, это Скворешников… Пашу – привезли?
– Да. Сегодня в три часа. Похороны – завтра. Я тайно выдыхаю – почти с облегчением.
– Лев Яковлевич, куда мне подъехать?..
– Куда? Зачем?
– Я думал… если нужна моя помощь…
– Ах да.
– Куда мне подъехать?
– Давай к девяти, к военкомату.
– Хорошо. До завтра.
Значит, завтра. А как же Пепельников? Надо будет дозвониться до него с самого утра и перенести встречу. Скажу, что все готово, но не могу встретиться. Перенесу на воскресенье. А вдруг попросит продиктовать по телефону? Скажу, что звоню не из дому, нет рукописи. Ну, Штирлиц, погоди!
Ирка с Чудищем переходят к водным процедурам, а я беру творческий отпуск – все на борьбу с припевом! Там еще, кажется, и размер другой, где-то у меня была записана «рыба»… Я со всех сторон обнюхиваю тетрадь, черта с два тут чего-нибудь найдешь, – а, вот! «Буря мглою небо кроет». Хорошенькая «рыба»…
Молодец, Димочка, вспомнил про Косицкую. Никого нет дома. Ладно, позвоним попозже, а сейчас – вперед! «Буря мглою небо кроет.»
И вот я сижу в кресле среди мусора и игрушек, откинув голову и закрыв глаза над открытой тетрадкой, над четырьмя мертворожденными четверостишиями; сижу, пытаясь выдавить из темной своей головушки хоть строчку, но строчки нет, и полстрочки нет, а есть заунывное гудение вьюги, ее однообразные модуляции, вырастающие из простых слов, написанных бог весть когда и совсем не мною: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя… вихри снежные крутя… у-у-ш-щ-щ…
– Димка! ну ты даешь!
Надо же, закемарил. Ирка разгребает завалы на столе, собирает ужин, смеется:
– Бедный мой старичок…
– Чудище спит? – сурово спрашиваю я, пытаясь скрыть смущение.
– Дрыхнет как сурок.
Мы ужинаем, поглядывая в телевизор и обсуждая, с какой стороны будем выбираться из-под кучи дел, под которой погребена наша жизнь, но ни я, ни Ирка уже не верим, что спасение возможно. Вздохнув, моя самоотверженная половинка садится шить Чудищу сарафанчик, а я иду воевать с морозильной камерой.
Добыть оттуда мясо надо сегодня, иначе Чудищу завтра не будет котлеток, а Чудище обожает котлетки! Холодильничек у нас дореформенный, к морозилке без ледоруба не подберешься. Вместо творческих мук я пилю, режу, чертыхаюсь – и через каждые две минуты, вытирая руки обо что попало, бегаю к телефону: вдруг как прорвало всех!
Сначала приятель детства, которого я сто лет не видел и горя не знал, выясняет, не занимаюсь ли я репетиторством, а выяснив, спрашивает, как вообще жизнь; потом студентка с курса, где весной по недосмотру учебной части я принимал зачет, долго рассказывает мне о трудностях своей личной жизни, в связи с чем я почему-то должен расписаться у нее в зачетке; потом меня призывают на службу человечеству из учебной части: в следующую пятницу – юбилей всеми любимого проректора по науке; Димочка, вы так хорошо пишете, у вас легкая рука, сочините эдакое с юмором, всем будет приятно…
Попробую, соглашаюсь я с воодушевлением Прометея, увидавшего на горизонте Зевесова орла.
Расправившись с мясом и телефоном, совершаю еще один боевой вылет в сторону припева. Бесполезно. Полный ступор, ничегошеньки общественно полезного. Отчаявшись, решаю добить хотя бы то, что есть, и с отвагой смертника погружаюсь в текст. Стойко преодолеваю тошноту и не поднимаю головы, пока к половине первого ночи вместо милых сердцу «бу-бу» не встают каменными скифскими бабами положенные случаю слова. Тогда я зеваю, сколько позволяет челюсть, и удовлетворенно озираюсь вокруг. Боевой друг и товарищ все возится с сарафанчиком.
– Бедолага, – говорю я, довольный собою до краев, – шла бы спать.
Не напишу куплета, думаю, и черт с ним: сдам Пепельникову так, авось проскочит… Ирка грустно смотрит на меня, качает головой.
– Чаю – попьем?
Ирка пожимает плечами: как хочешь, мне все равно.
– Ты чего?.. – спрашиваю, а в сердце уже вползает досада.
– Димка, Димка, ничего ты не понимаешь…
Ирка встает, закрывает свои коробочки и уходит с кухни. Я – не понимаю. Да все я понимаю. Ну и дурак же я.
Ирку нахожу в ванной: она всматривается в зеркало, медленно расчесывая волосы.
– Кенгуренок, – говорю, – ты у меня самый красивый. Я тебя очень люблю, честное слово.
Ирка смотрит на меня из зеркала, продолжая медленно расчесывать гриву.
– Ты просто – ко мне – привык, – размеренно произносит наконец она с убивающей интонацией смирения и покорности жестокой судьбе.
– Неправда, – говорю я.
– Нет, правда, – говорит она тем же тоном, продолжая разглядывать свое лицо.
Вставать через шесть часов.
Когда я ложусь, Ирка еще возится на кухне. Полежав немного в темноте, не выдерживаю, шлепаю к ней. Господи, второй час – затеяла делать Чудищу творожок!
– Бедный мой кенгуренок…
Ирка, обернувшись, заглядывает мне в глаза и молча тычется в ключицу носом. Нос этот, между прочим, хлюпает.
Я обнимаю ее, сквозь пижамку легко проступают детские ребрышки и лопатки. Что-то почти забытое, сладкое затопляет мое сердце.
– Я люблю тебя, скелетина моя.
– А ты – моя, – бурчит Ирка.
– Какой же я дурак, – шепчу я.
– Угу, – соглашается Ирка, почесывая кончик носа о мою шею.
Глава III
Суббота
Эта пыточная машина – наш будильник – когда-нибудь сделает меня заикой.
Семь двадцать. В темпе, в темпе, Дмитрий Олегович! Сегодня опаздывать никак нельзя. Слава богу, бриться не надо: в нашем доме слышно, о чем шепчутся через этаж, а у меня электробритва.
В холодильнике – одна тоска. Или, если быть точным, две тоски: пельмени и маргарин. Ладно, не графья, перетопчемся. Завтракаю чаем и бубликом, обкусанным накануне дочкой. Жизнь становится желанной, и я даже начинаю напевать – до тех пор, пока не вспоминаю, куда еду.
Выйдя, тихонько поворачиваю ключ в замке.
Автобус не идет, народ стоит хмурый, словно не я один – все едут на похороны. Ох, неудобно будет, если опоздаю: напросился и не приехал… Бедные родители. Он ведь один у них, кажется. Один. Не хочу даже думать, каково им сейчас. К черту! Лучше почитаю «Известия», про принципиальный спор Карпова с Каспаровым в защите Грюнфельда.
Что за сон снился мне? Хвостик слишком мал, чтобы за него ухватиться – сон был тревожный и как-то связанный с сегодняшним днем, с Пашкой, но сюжет распался невосстановимо. Мне часто снятся тревожные сны. Один я хорошо помню, он повторялся несколько раз с точностью киноленты – сон про начало следующей войны. Об этом тоже лучше не думать.
Ладно, все! Выбросили из головы и забыли! Что сегодня, кроме похорон?
Воспоминание о припеве отзывается зубной болью и тошнотой одновременно. Зачем я ввязался в это дело? Откуда возьму эти четыре строчки? Может, позвонить Пепельникову и послать его куда-нибудь… в сторону Добронравова? Но тогда выходит, зря я тужился, рожал «могучую поступь»? И потом – двести рублей. Черт возьми эти деньги! Переводы не печатают – вон, уже полшкафа скопилось, а узнают про халтуру, начнут носы воротить: фу, какая мерзость!
Мерзость надо дописывать, и дописывать сегодня. И от метро не забыть позвонить Пепельникову. Похороны кончатся часам к трем – ехать на поминки или нет?
Косицкой – не дозвонился! Черт возьми, у нее же было какое-то дело, вечером – не забыть, не забыть, не забыть! Все равно забуду. Нет, это невыносимо.
Военкомат стоит в глубине казенного скверика с выкрашенными серебрянкой урнами по углам. На этажах пусто, дверь военкомата открыта, и там, у входа, три фигуры. Они! Вот только этого бородача я не знаю.
– Здравствуйте.
Пашина мама смотрит на меня, не узнавая, потом мелко-мелко кивает головой. По лицу ее разлито совершенное безразличие к происходящему.
– Привет, – Лев Яковлевич возбужденно трясет мою руку. – Видишь, ерунда какая получается – нет машины.
– Да, – отвечаю я. Совершенно не представляю, как себя вести, что говорить.
– Обещали, что все организуют… – Лев Яковлевич, словно оправдываясь передо мной, разводит руками. Еще несколько минут мы слушаем, как что-то объясняет по телефону массивный полковник и что-то объясняют ему.
Ждем около получаса. Лев Яковлевич без остановки ходит по пустому вестибюлю, Ольга Александровна сидит недвижно, смотрит в одну точку где-то за окном. Маленький бородач, тиская в руках спортивную шапочку, бесшумно покачивается на стуле.
– Да что ж такое? – взрывается наконец Пашин отец. – Когда же будет машина?
Дежурный за стеклом поднимает на него бесцветный взгляд, означающий: он при исполнении, что и как делать – знает, торопить его, если надо, будет начальство, а не всякие тут…
– Левушка, – с неожиданной нежностью говорит Ольга Александровна. – Левушка, не надо. Я прошу тебя.
И я вздрагиваю, увидев на ее лице уже забытую мной Пашину улыбку.
– Подожди, Лева, – говорит бородач, вставая. – Я сейчас. – И, пошарив глазами, быстро выходит на улицу.
– Может, сходить еще к военкому? – говорю я, чтобы что-нибудь сказать, чтобы не слышать больше этого невыносимого молчания у стеклянной стены.
– Не знаю, – без выражения произносит Ольга Александровна и снова, как зверек к запертой дверке, возвращается к окошку. – Товарищ дежурный, как же так? Нам же обещали…
– Откуда я возьму машину? – громко и раздельно, как слабоумной, говорит ей вдруг офицер с повязкой. – Откуда я возьму машину, если их нет?
– Так что ж вы молчите? – тихо-тихо спрашивает тогда Пашина мама. – Почему вы нам сразу не сказали?
– Как вам не стыдно? – спрашивает она после паузы каким-то совсем детским, обиженным голосом.
– Не надо предъявлять мне претензий, – говорит человек за стеклом. – Я не люблю, когда мне предъявляют претензии.
– Не смей так разговаривать с женщиной! – кричит Лев Яковлевич. – У нее сын погиб! Сы-ын, понимаешь? У тебя есть ребенок?
– Вы мне не тыкайте, – отвечает дежурный. Чувства собственного достоинства у него навалом.
– Оля, Лева! – В дверях стоит бородач. – Едем, я у себя договорился.
– Стыдно, товарищ дежурный, – говорит Пашина мама, и я с тоской вспоминаю вдруг, что она – школьная учительница.
– Да бросьте вы его! – неожиданно кричит тихий бородач. – Нашли с кем разговаривать!
Сначала мы едем молча. Потом Ольга Александровна касается моей руки.
– Простите, вы же – Скворешников?
– Да, – говорю я.
– Ну конечно. Я вас вспомнила. Паша все говорил о вас. Через слово – Скворешников… Мой замечательный мальчик.
– Ты подумай, – с переднего сиденья поворачивается Лев Яковлевич – только тут замечаю, какие красные у него глаза. Сколько дней они не спят уже? – Говорили: все организуют сами.
– Хрен с ними, Лева, – не отрывая взгляда от дороги, говорит маленький бородач. – Пропади они пропадом.
– Он такие письма писал хорошие. – Лицо у Ольги Александровны по-прежнему спокойно; улыбка – та, Пашина – мелькает на ее губах иногда. – А я знала, что так будет, я еще тогда знала.
Она начинает рассказывать о Паше – какой он был в детстве, и потом, и всякие случаи из его жизни, а Лев Яковлевич вспоминает, как Пашка в пять лет изображал на даче привидение, вспоминает так, словно мы и едем на эту дачу, а не забирать Пашино тело, и – о боже! – они смеются.
– А меня он называл Бородатина-Сергунятина, – говорит бородач.
– Бородатина-Сергунятина, – подтверждает Лев Яковлевич.
Потом все замолкают, и становится слышно, как шуршат по асфальту шины. Ширк-ширк, ширк-ширк. Потом Ольга Александровна говорит:
– У меня взяли сына – и не вернули. Взяли – и не вернули.
– Перестань, – резко обрывает ее отец.
Мы подъезжаем к каким-то воротам, и бородач, кинув: «Я сейчас», хлопает дверцей и скрывается за ними.
Через час добытый им катафалк уже медленно разворачивается где-то на окраине Москвы. Я выхожу, разминаю ноги, оглядываюсь – и у меня начинает сладко щемить сердце; через несколько секунд я понимаю, почему.
За низкой больничной оградой – башня и пятиэтажки, потом налево пустырь и станция метро; я знаю тут каждый поворот.
Странно: ведь я любил ее. А сейчас и лица не помню. Только голос с хрипотцой и запах волос, мне было восемнадцать лет тогда, я звонил вечером от этого метро, зимой, и ждал, когда она спросит: «Ты хочешь приехать?».
Я отвечал «да», она говорила: «Ну и приезжай» – и смеялась.
После развода (она называла это «пауза в личной жизни») она жила с бабушкой. Как звали бабушку, не помню, помню только, что жутко ее стеснялся. А моя разведенная возлюбленная спокойно прикрывала дверь в свою комнатку, садилась на диван, и встряхивала рыжей шевелюрой, и смотрела на меня, и улыбалась.
Долго смотреть ей не приходилось. Мы обнимались до потери пульса, но решиться на большее, слыша, как поскрипывает от любого сквознячка не запирающаяся дверь, я не мог.
– А она не войдет? – не выдержав, спросил я однажды напрямик.
– У нее своя личная жизнь, у меня – своя, – лаконично ответила моя рыжая наставница. – Не войдет.
Вскоре она бабушку куда-то сплавила, и я, позвонив домой, промямлил что-то насчет подготовки к семинару по языку – в общем, сказал, домой меня сегодня можно не ждать.
– Ну хорошо, – с пониманием сказал отец. – Занимайся.
Мы занимались ночь, и день, и снова ночь, и к концу занятий я разучился говорить даже по-русски. А потом прошла зима, и моя возлюбленная перестала спрашивать, хочу ли я зайти. Однажды я зашел к ней без спросу – и был представлен добродушному мужику в свитере, просторно расположившемуся в кресле, где раньше сидел я.
Так это все и закончилось. И если разобраться, никакой любви там отродясь не было – просто мне только исполнилось восемнадцать, а у нее на ту зиму пришлась пауза в личной жизни. И все это так банально, что не о чем и говорить – но почему тогда сладко ноет сердце, и я отсчитываю этажи серой девятиэтажки, чтобы найти ее окно на шестом?
Энергичная женщина быстро отпирает низкие ворота морга. Мы входим и останавливаемся у огромного, заколоченного в деревянные брусья цинкового ящика.
– Он здесь, – говорит Лев Яковлевич.
Ольга Алексеевна стоит во дворе, прислонившись к машине.
– Ты посиди немного, Оля, посиди! – махнув рукой, кричит Пашин отец и – нам: – Давайте снимать цинк.
Он торопится все время, он боится хоть на секунду остаться без дела.
Я выхожу на воздух; два мужичка в ватниках нараспашку молча стоят у самых ворот.
– Мужики, – спрашиваю я, – инструмент есть какой-нибудь?
Коротышка старательно ковыляет за угол. Другой, худой, прокуренный до серых щек, коротко спрашивает, чуть погодя:
– Афган?
– Нет, – говорю я, отсекая расспросы.
– А эта, у машины – мать?
– Мать, – говорю.
– Ах ты…
Прокуренный коротко излагает все, что он думает про войну, про армию, про эту жизнь вообще… Из-за угла ковыляет коротышка.
– Вот…
Лицо у коротышки сморщенное какое-то, глаза слезятся. Кажется, он немного пьян.
Мы высаживаем мощные бруски, и бородач, завладев ножницами, начинает резать цинк. Взлетает к низкому потолку и начинает качаться в тесном кубе морга жуткое «цвиуинь», и, унимая этот невыносимый звук, мы с Пашиным отцом разом хватаемся за раскромсанный край ящика.
– Консерва дурацкая, – шепчет он. – Вот черт возьми. Мы осторожно вынимаем гроб и вносим его в УАЗик.
Там, улучив момент, я шепчу бородачу вопрос, мучивший меня все это время:
– Открывать будем?
Он строго смотрит на меня:
– Не надо.
– Что? что?
– Я думаю, Лева, ведь открывать не надо? – повторяет бородач, глядя на меня досадующим взглядом.
Лицо у Пашиного отца каменеет.
– Я хочу посмотреть на него.
– Не надо, Лева.
Ища поддержки, Лев Яковлевич смотрит на меня; в глазах его светится огромная, какая-то совершенно собачья тоска.
– Наверное, действительно не стоит… – мямлю я.
– Я хочу – на него – посмотреть.
– Хорошо, – говорит бородач. – Только…
– Да. Без нее.
Боясь задеть Пашину голову, я ломиком поддеваю крышку. Мы снимаем ее; я вижу лицо Льва Яковлевича и быстро отхожу, как будто самое важное сейчас – сразу отдать ломик.
Коротышка в ватнике по-прежнему стоит у дверей морга, но уже один. Он смотрит не отрываясь. Маленькое лицо его болезненно сжимается, словно в каком-то странном тике. Он поднимает на меня глаза, и я вижу, что коротышка плачет.
Я лезу в карман за трешкой из бумажного комка, сунутого мне бородачом на все эти дела, и сую ему. Коротышка мотает головой.
– Бери, отец, бери, – уже раздражаюсь я.
Коротышка мотает головой; слезы без остановки бегут по его щетинистым щекам.
От УАЗика отбегает Лев Яковлевич, не оборачиваясь, машет рукой: заколачивайте!
В машину с Пашиным телом сажусь я и, сев, сразу кладу руку на гроб, чтобы не очень трясло Пашу, когда поедем. В маленьком окошке исчезают больничные корпуса, деревья и плачущий смешной коротышка в ватнике нараспашку, ковыляющий вслед. Коротышка машет рукой…
Дорога до кладбища неблизкая. Я смотрю, как мотается по полу упавшее ведро. Наконец ведро ударяется в гроб, и, пробравшись вперед, я заклиниваю его под сиденьем.
В голове пустота – просто еду, жду конца дороги. Паши больше нет. У моих ног в обтянутом тканью ящике лежит его замороженное тело в новенькой гимнастерке: нелепый маскарад. Мы все едем, куда-то поворачиваем, медленно переваливаем через трамвайные пути и снова едем – и вдруг я обнаруживаю, что без перерыва повторяю дурацкие мои строчки о мирной поступи. Они скрежещут в мозгу, как лопата по сухому асфальту. Я остервенело мотаю головой, пытаясь прекратить этот кошмар, но чугунные шары продолжают мерно сталкиваться в черепе, одно и то же, снова и снова, и я сдавливаю виски, чувствуя, что могу спятить от этого медленного самоубийства, и когда машина тормозит наконец у ворот кладбища, выскакиваю из нее, как из камеры пыток.
Глотаю осенний воздух; сейчас все пройдет. Заплаканные женщины и немногословные мужчины окружают нас; исчезает за углом похоронной конторы стремительная фигура Льва Яковлевича. Чуть поодаль, у ограды – горстка Пашиных друзей. В них уже почти ничего не осталось от тех, с которыми я знакомился два года назад: растерянные, серьезные. Меня, кажется, никто не узнал. А может, и узнал; у них не очень-то поймешь. Но двое отделяются от горстки, подходят ко мне.
– Здравствуйте. Я киваю.
Полноватый очкарик и девушка.
– Скажите, а Паша – здесь?
– Да, в машине. – Ну и глазищи у этой девушки! Надо же, чего бывает на свете…
– А… – Она ловит мой взгляд – не слишком, кажется, подходящий к ситуации – и на секунду осекается. – Вы его видели?
– Нет, – почти не вру я. – Он в закрытом гробу.
Но то, что я не мог не видеть, заколачивая этот гроб, снова встает передо мной.
– Как он погиб? – спрашивает парень, поправляя очки на одутловатом лице.
– Не знаю. Я не спрашивал. – Ответ получается жестче, чем я хотел.
Мы молчим некоторое время, потом одутловатый молча же тянет черноглазую за рукав плаща, и они отходят. Интересно, есть у нее что-нибудь с этим парнем – или просто из одной компании?
Люди продолжают прибывать. Какие-то женщины обнимают Пашиного отца; как он сильно сутулится! А Пашка был совершенно прямым – мамина осанка. Люди прибывают, заполняя площадку у входа, и уже проходящие на кладбище посматривают с интересом, пытаясь угадать: кого хоронят, почему столько народу?
Разговоры вполголоса, кивки незнакомым. Кого-нибудь ждем? Кажется, бабушку. (О господи, еще и бабушка. А я-то надеялся, что самое страшное уже видел.)
Ожидание становится невыносимым; потом – движение; пора, давайте, суета у машины. Знаете, участок в самом конце кладбища… На руках? Конечно, на руках. И чей-то почти обиженный голос: а что, открывать не будут? Как же, а проститься? Вы что, не понимаете?.. Ах, ну нельзя так нельзя.
Алый ящик плывет на плечах над желтым маревом кладбищенских аллей, поворачивается, покачивается, переходя с рук на руки. Уступив свое место, я оказываюсь в плотном людском потоке. Мы идем молча – и долго в сентябрьском полусвете мучит скрип сотни подошв.
Могила у самой стены, четверо крепких ребят ждут, оперлись на лопаты. Гроб ставят на тележку; облепляя решетку, становимся вокруг. Несколько военных стоят отдельной группой. Салюта не будет. На лицах – корректная отрешенность, молоденький прапорщик нетерпеливо переминается с ноги на ногу.
Тишина, долго скручивавшаяся в женских платочках, в сжатых пальцах, разом взрывается долгим стонущим «а-а-а», и тут же: да поддержите же ее, валидол, есть у кого-нибудь от сердца? Старушку отводят в сторону – нет, повторяет она, нет, нет, нет!
Сутулая фигура у гроба; пальцы гладят ткань крышки. Матери рядом нет. Я оглядываюсь и вижу ее метрах в десяти, стоящую одиноко возле чужой решетки. Бледное лицо совершенно спокойно. Только тут до меня доходит: она просто не верит во все это. Она еще не поняла.
– Ну, давайте…
Как странно. Гроб закрыт; дикая, щемящая надежда: может, Пашки там и нет?
Обтянутый тканью ящик ложится в землю.
Тишина обратной дороги разбавлена негромкими разговорами: да-да, ужасно, я бы не вынесла; а как он погиб? тс-с, не надо об этом; ужасно, ужасно; а кто эта девушка в сером пальто, она так плакала; неужели поминки будут у них дома – как же все поместятся? И подмешивается к горечи: слава богу, уже позади эти немыслимые минуты у заколоченного гроба над ржавым колодцем могилы.
– Простите, вы, наверное, Скворешников?
Черные глаза девушки заплаканы: да, серое пальто – это про нее…
– Скворешников, – говорю.
– Вы – поэт, – почти сердито произносит парень. Он, конечно, рядом.
– Ну… почти, – ненавижу, когда меня называют так. – Я – переводчик поэзии.
– Все равно, – категорически заявляет мне одутловатый.
Пожимаю плечами.