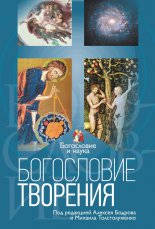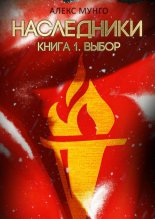Другая судьба Шмитт Эрик-Эмманюэль

Он ушел. Нойманн и Бернштейн рассмеялись над жалобным лицом Адольфа.
После обеда Адольф снова встретился с друзьями, которые хотели объяснить ему, как уцелеть в бою.
– Воевать, пожалуй, можно, если ты близорук, но если ты глух – никак. Ухом различишь опасность. Как все новенькие, ты будешь ударяться в панику от самой громкой пальбы больших пушек. И зря. Это орган. Церемониал. Помпа. Впечатление производит, но падает всегда слишком далеко. Нет, ты улавливай свист, шипение, щебет, тогда избежишь гранат, разрывных снарядов, осколков шрапнели, которые рассекают воздух и могут рассечь тебе сонную артерию. Слышишь, Адольф: не орган и не литавры, но арфа и пикколо… Ясно?
Нойманн ждал ответа. Ошеломленный, Адольф только помотал головой.
– Ладно, ты так и так будешь с нами, – сказал Бернштейн.
Адольф не мог дождаться сумерек. Вся его жизнь последних недель шла к этой ночи. В глубине души он по-прежнему не мог с этим смириться, но ждал ее с нетерпением. Быть может, это будет его последняя ночь на земле? Ему нужен был смысл, и этой ночью смысл обретет все: уход от искусства, мобилизация, месяцы дрессуры, путешествие в поезде, встреча с Бернштейном и Нойманном. Он входил в святая святых.
Наконец небо погасло, все вокруг почернело.
Сгущались сумерки.
Свист. В небе зажглась ракета, осветив все призрачным светом. Время остановилось. Земля казалась ртутью. Все замерло, словно сама природа насторожилась.
И снова тьма, еще более густая.
Вдруг – огонь. Со всех сторон грохочут пушки, строчат пулеметы. Белые ракеты. Красные ракеты. Зеленые ракеты. Адольф больше не отличает залпов немецких орудий от грохота взрывов вражеских снарядов.
– Пригнись! – кричит Нойманн.
Над ним роятся пули, всевозможные снаряды летают, как шершни в поисках жертвы, хаотичные, свистящие, шипящие, коварные.
Солдат рядом с ним вскрикивает. Осколок пробил ему шею. Из артерии хлещет кровь, алая, брызжущая, словно нетерпеливая. Солдат падает. Мертв?
– Сюда!
Кто отдал этот приказ? Адольф следует за Бернштейном. Зачем они бегут? Куда? Они наступают на что-то мягкое. Это живот. Живот упавшего стрелка. Он уже ничего не чувствует. Они бегут дальше.
Удар в землю. Сыплются комья. Снаряд упал совсем рядо. Он не взорвался.
– Дальше!
Куда они бегут? Туда, где тише? Туда, где страшнее?
Над окопами грохочет канонада, мечется сталь, воздух потрескивает от жара. Адольф ничего не понимает. Снаряды и пули летят со всех сторон, с востока, запада, севера, юга. Все стреляют во всех? Хоть кто-нибудь всем этим руководит? Существует ли план? Или это просто такая игра – убить как можно больше народу?
Грохот. Рев. Взрывы.
– Огонь!
Адольф прижимается к стене. Надо стрелять. Во что? Ни зги не видно. Прямо перед собой? Туда? Он стреляет.
Недалеко от него занял позицию пулеметчик. Удобно устроившись за своим смертоносным орудием, как банкир за письменным столом, он уверенно ведет обстрел.
Адольф с облегчением отмечает, что он палит в ту же сторону.
– Сюда!
Еще приказ. Откуда? Они бегут по другой траншее. Куда? Адольф следует за Бернштейном. Поворот. Еще поворот. Направо. Налево. Направо. Направо. Он уже не знает, близко враг или далеко.
Грохот здесь не такой оглушительный. Или он привык?
– Слушай хорошенько! – кричит Бернштейн ему в ухо.
Адольф начинает различать звуки. Сначала он слышит рявканье пушки, потом стон летящего снаряда. Снаряд падает. Три секунды – и гремит взрыв. Как будто огромная стая птиц пикирует на него, свистя и щебеча. Сотни осколков дождем сыплются на землю.
Он благодарно улыбается Бернштейну. Великолепно. Теперь я могу предвидеть смерть за целых три секунды. Их лица отливают зеленью в белом свете ракет.
Снова огонь, еще более яростный. Земля дрожит. Апокалипсис. Из траншей рвется вой. Солдаты падают. Балки рушатся. Мешки взрываются. Адольф закрывает глаза. Как уцелеть в жерле извергающегося вулкана?
– Сюда.
Что? Опять приказ? Неужели кто-то понимает, что здесь происходит?
У входа в траншею лежат два трупа. Надо через них перешагнуть. Два трупа. Даже удивительно, что всего два.
Снаряды здесь падают тяжелее. Дрожь земли шире, глубже.
– Сюда!
Лабиринт. Бег. Еще трупы, снова перешагивать. Они покрыты землей, запутались в хаосе досок и мешков.
Снова бег.
В этих траншеях взрывы звучат тише, только сухо трещит пулемет да палят из винтовок. Это как облегчение после урагана. Они вернулись в тыл?
Наоборот. Группа подошла совсем близко к врагу.
– Атакуем!
Говорят, что несколько человек с гранатами подползут с фланга, пока остальные будут вести фронтальный огонь.
Пока держат совет, один солдат вдруг вскрикивает. Черный шарик, выплюнув сноп искр, угодил ему прямо в живот. Граната взрывается. Он падает: его кишки брызнули на всех.
Прямо над Адольфом вдруг возникает лицо, огромное, зеленое в бледном свете луны; круглые глаза вытаращены, в них страх и жестокость. Адольф кричит и стреляет. Человек удивлен, он оседает на землю. Его рука свисает в траншею.
Бернштейн и остальные бегут и палят по наступающему на них отряду.
Адольф с ужасом смотрит на убитого – своего первого убитого. Вспоминает его взгляд: он, похоже, боялся не меньше его. Адольфа бьет судорожная дрожь. Его трясет, как под градом пуль.
– Не думай! Иди! И стреляй!
Это Бернштейн схватил его и не дает впасть в транс. Прислонившись к земляной стенке, Адольф яростно стреляет. Он спасен. Ему больше не страшно. В него вселился бес.
– Готовы! Теперь сюда!
Опять приказы. Откуда они?
Адольф цепляется за Бернштейна. Он больше ни о чем не думает. Он хочет убивать, чтобы не быть убитым. Он хочет завестись еще сильнее. Да. Максимум ярости. Иначе – смерть.
– Вы – туда!
Их шестеро, в том числе Бернштейн и Адольф. Они должны подползти и забросать гранатами вражеского пулеметчика. Действовать надо быстро, прижиматься к земле, чтобы не попасть под огонь, замирать, когда ракета осветит поле.
Они выбираются из окопа. Французы их, кажется, пока не заметили – не реагируют.
Они ползут.
Уверенно продвигаются вперед.
Вдруг – стон, удар.
– Снаряд! – шепчет Бернштейн.
Но снаряд воткнулся в землю, не взорвавшись. Они ждут четыре секунды, десять секунд, двадцать секунд, потом, вздохнув с облегчением, ползут дальше.
Еще один снаряд. Адольф отчетливо его слышит. Он летит сзади. Это немецкий снаряд. Какой идиотизм: он погибнет под немецким снарядом!
Красный столб огня. Свист. Адольф прижимается к земле. Обнимает ее, как мать. Просит защитить его.
Люди кричат. Их задело.
Адольф не смеет поверить: ему нигде не больно.
– Бернштейн?
– Я в порядке. А ты?
– В порядке.
Но крики услышали, и французская артиллерия снова начинает палить. Но стреляет не туда. Отряд еще не обнаружили.
– За мной!
Бернштейн встал и бежит. Адольф следует за ним. Они бегут, выбиваясь из сил.
Взрывается снаряд. Потом еще два.
Это уже бомбежка. Осветительные ракеты взмывают в небо и потрескивают под шелковыми парашютами. Стрекочут пулеметы. Летят пули. Их засекли.
– Ныряй!
Бернштейн спрыгнул в воронку от снаряда. Адольф падает следом.
Над ними бушует буря. Земля дрожит, как в обваливающейся шахте.
Адольф слышит сверху крик. На него падает человек. Прямо ему на спину. Тело тяжелое, слишком тяжелое, а в тесной воронке не повернуться.
Адольф не может больше ни о чем думать. Ему слишком страшно. Этот агонизирующий на нем мастодонт его доконал. Человек содрогается, наваливается на него всем телом, точно огромная рыба-прилипала, и замирает. Теперь он еще тяжелее. Наверно, мертв. Кто это?
Адольф отчаянно кричит. Вонь. Ягодицы жжет. Штаны мокрые. Он сходил под себя. Это хуже всего, что уже случилось. Он жалобно, по-детски, стонет:
– Бернштейн, я обделался!
Тот ласково улыбается:
– Боевое крещение. Все через это проходят.
Адольф молчит.
Пусть все скорее кончится! К чему длить эту ночь? Все равно мы все обречены. Сегодня, завтра, через десять дней или десять секунд мы умрем гнусной смертью. Зачем ждать? Если бы он умел молиться, молился бы об этом. Смерть – скорее.
Кому молиться? Богу? Адольф никогда не верил, и уж не эта бойня его обратит. Бернштейну? Да, если кому-то молиться, то Бернштейну. Но Бернштейн – такой же человек, как он сам, немного голой и дрожащей плоти под стальным ливнем. Как выйти живым из этого катаклизма в жалкой шкуре человеческой?
Страх и гнев кипят в Адольфе. Страх, что все свершится недостаточно быстро, что он и Бернштейн будут слишком долго умирать. Гнев на оба лагеря – на французов, которые обстреливают, и немцев, которые бомбят. Никто не руководит этой войной. Все – ее жертвы. Не видят, в кого стреляют. И враги, и товарищи обретают лица только после смерти. Это выше человеческих сил. Человек вложил в войну всю силу своей индустрии, все, что производит его металлургия, но, как ученик чародея, он больше не властен над машиной, которую запустил. Теперь сталь и огонь мстят ему, словно сами собой вырываясь из недр земных.
По краю воронки бьют пули, брызжет земля. Только бы их не забросали гранатами.
Адольф с удивлением понимает, что снова хочет жить. Он смотрит на Бернштейна, тот на него. Они чувствуют одно и то же. Они ждут, когда можно будет бежать из этой дыры. Чувства сильны, но это не их чувства. Это животный инстинкт жизни. Инстинкт жизни, превращающий все в бесконечный бой.
Бомбежка удаляется, грохот становится тише.
На Адольфа, все еще придавленного трупом, лежащим у него на спине, снисходит умиротворение – отпустило, как после грозы. Он опустошен нервным напряжением. Чувствует себя почти в форме.
Светлая полоса вырисовывается на горизонте.
– Быстрей, скоро рассветет! Уходим!
Бернштейн выбирается из ямы. Адольфу еще надо освободиться от своего груза. Когда колосс скатывается с него, он не сразу решается посмотреть ему в лицо, потом, заставив себя, узнает его: этот убитый – один из шестерых, что были в их отряде. Желтые глаза полуоткрыты и кажутся кусочками янтаря. На лбу красная точка. Кровь запеклась на усах. Оставив его в луже, он следует за Бернштейном.
У Адольфа дурацкое чувство, будто он возвращается домой, в безопасность, хотя траншея полна истерзанных тел. Некоторые стрелки живы, другие мертвы; они все в одной позе, стоят у стены лицом к врагу; только полная, жесткая неподвижность позволяет отличить мертвых от живых.
Занимается серый рассвет. Взмывают жаворонки, беззаботные, несносные, трепет их крылышек отныне будет напоминать Адольфу ночные снаряды.
Он смотрит на поле, отделяющее их от врага. Ямы. Железо. Осколки. Трупы. А посередине раненые, которые на разных языках стонут и зовут на помощь.
Бернштейн подходит к нему и крепко мнет ему плечо. Адольф улыбается. Всю свою благодарность он вкладывает в эту улыбку, потому что слов не находит. Бернштейн понимает и хлопает его по спине. У обоих на глазах слезы.
Бернштейн отводит глаза, чтобы не поддаться волнению, и, глядя туда, откуда доносятся стоны, говорит:
– Их оставят подыхать.
– Положа руку на сердце, Бернштейн, ты не думаешь, что лучше уйти с этой войны мертвым, чем живым?
Бернштейн зажег сигарету. В Вене он не курил.
– Проблема человека в том, что он ко всему привыкает.
– Ты думаешь?
– Это даже называют умом.
Он затянулся и поморщился. Табак был ему явно неприятен. Он продолжил свою мысль:
– Мы с тобой провели умную ночь в умном окружении, пользуясь последними достижениями ума в области техники и индустрии. Какая оргия ума!
Один из раненых испустил душераздирающий крик, больше похожий на детский, чем на мужской. Бернштейн щелчком отшвырнул сигарету.
– А, вот и ты, мой малыш.
Большой полосатый кот с оторванным ухом шел, выгибаясь и мурлыча, по внешней балке траншеи. Он весь извивался, млея от похвал Бернштейна.
Кот спрыгнул на землю и стал тереться о его сапоги. Адольф заметил, что у него осталась только половина хвоста. Бернштейн присел и погладил плоскую треугольную головку. Кот, казалось, вот-вот лопнет от наслаждения.
– Этот котяра перебегает из лагеря в лагерь. И здесь, и там у него друзья. Я знаю, что я не единственный светоч его жизни, и, хочешь верь, хочешь нет, неплохо это переношу.
Говоря это, Бернштейн улыбался Адольфу.
Впервые Адольф почувствовал, что перед ним прежний Бернштейн, которого он знал в Вене. Он наклонился и тоже погладил увечного кота, который тотчас признал его.
– Этому котяре все равно, кто его гладит – француз или немец, – вздохнул Бернштейн. – Он ничего не понял в войне.
– Значит, понял все.
И двое друзей понимающе, как прежде, улыбнулись друг другу над млеющим котом.
* * *
Гитлер впервые испытал благодать от ненависти. Теперь, когда враг был назван, он дышал полной грудью. Славяне? Звери, жаждущие крови. Англичане? Холодные, безжалостные змеи. Французы? Жадные и наглые империалисты. Это были единственные нюансы его ненависти. Что хорошо? Германия, и только Германия. Что плохо? Все остальное. Он нашел наконец концепцию мира. Больше не тратил времени на размышления. Товарищ расхваливает французское вино? Он отвечает, что ничто не сравнится с виноградниками Рейна. Другой настаивает, что французский сыр восхитителен? Он называет его предателем. Ему говорят о мужестве врага? Он возражает – не следует путать мужество с варварством. Ответы приходили легко; он, всегда тяжелый и неповоротливый в беседе, теперь фонтанировал фразами, мнениями, лозунгами. Щедро. Неистощимо. Он понял, что, если задан любой вопрос, главное – быть пристрастным. Такой ценой давалось счастье. И спокойствие. Гитлер избавился от сомнений, нюансов, от всех требований, которые его старые учителя глупо ассоциировали с критическим умом, – теперь они представлялись ему лишь симптомами вырождения. Эти интеллектуалы с высушенными мозгами бедны ощущениями и пусты сердцем. Больные. Старики. Умирающие. Слабые. Да, Ницше был прав. Слабые, пытающиеся втянуть сильных и здоровых в свою слабость и выдающие свой дебильный образ мыслей за зерно истины. Истина? Кому она нужна, истина? Зачем гоняться за истиной, которая будет на руку врагу? Незачем. Мы должны искать лишь истину, благоприятную нам. Только нам. Германия превыше всего. Всего превыше.
После нескольких недель обучения Гитлер и другие «бешеные волонтеры» покинули Мюнхен и вдоль Рейна направились на запад. При виде реки Гитлер испытал почти религиозное чувство. Рейн, широкий и величавый, катил свои зеленые воды, леса вставали темными занавесями над мирными деревушками, залитыми солнцем, увитыми цветами; вздымалась колокольня, слышался звон колокола, а то и старый фортепьянный мотив. Это была Германия, ее изумрудная кровь, ее Грааль. Он будет сражаться, защищая это. Его энтузиазму становилось тесно в груди. Лишь бы Германия не победила слишком быстро. Когда он, вырывая из рук мальчишек-продавцов свежие газеты, читал набранные крупным шрифтом сообщения о победах или хвалы героям, горечь добавляла каплю дегтя в мед его искренней радости. Каждый новый триумф тревожил его. Не попадет ли он на фронт слишком поздно?
Холодной, сырой ночью поезд привез их во Фландрию. Когда отряд шел к барачному лагерю близ Ипра, раздался взрыв, над ними пролетел снаряд и разорвался в хвосте колонны. Вспышки… Осколки… Десять человек погибли на месте. Дым и порох не успели рассеяться, а Гитлер уже кричал:
– Ура!
Две сотни глоток тотчас подхватили:
– Ура!
Гитлер ликовал: уф, слава богу, еще не поздно.
Они дошли до границы, где визжали пули, грохотали пушки, надсаживались офицеры, стонали раненые, агонизировали у траншей тела, и там, в наскоро сколоченном бараке, убаюканный шумом войны, Гитлер наконец уснул сном праведника, прибывшего вовремя.
Назавтра он встал и пошел полюбоваться лагерной жизнью.
Выбегая из километров траншей, окопов и сап, красные, потные санитары с носилками спешно транспортировали павших этой ночью солдат и отсортировывали убитых от раненых.
Врачи и фельдшеры не теряли ни секунды: кололи, ампутировали, прочищали. Брезент палаток служил мертвым саваном; секретарь записывал имена погибших, другой писал их родным; сержант раздавал их сапоги, оружие и ремни – все, что уцелело. Пришли офицеры инженерных войск – инженер по укреплениям, инженер по водным коммуникациям; профессионалы, они рассматривали поле битвы сквозь призму своей специальности и отдавали приказы группам рабочих: копать и перекапывать, строить новые укрытия и отстраивать старые, поднимать бетонные опоры и отливать новые, столярничать, крепить, выравнивать, насыпать, трамбовать, бурить колодцы, рыть отводы для воды, укреплять навесы. Отряды рабочих, хлипких с виду стариков, заполонили галереи, точно муравьи. Командиры артиллерии осматривали пулеметы. Офицер химзащиты объявлял учебную тревогу, проверяя, у всех ли есть противогазы, и орал на тех, кто надевал их дольше пятнадцати секунд. Прибыла почта. Повара раздавали миски с хлебом, вымоченным в теплом молоке. Все было великолепно, просто чудо организации. Гитлер был покорён: как все умно, как мобилизованы все знания, это совершенное общество, тотальное общество.
Его назначили вестовым 1-го батальона 2-го пехотного полка. Он передавал солдатам приказы штаба. Подчинялся адъютанту Хуго Гутманну, черноволосому красавцу с нафабренными усами, авантажного телосложения – широкие плечи и узкая талия, – светлоглазому, велеречивому; это был идеальный унтер – таких изображают на гравюрах, – и Гитлер его уже боготворил.
– Скажите людям, что боевое крещение состоится через четыре дня.
Четыре дня – невыносимое ожидание.
Гитлер коротал время, беседуя с солдатами, которые были на фронте уже несколько недель. Он ожидал героических рассказов, но собеседники его были люди простые, ворчливые, занятые деталями повседневной жизни – время обеда, качество супа; он был поначалу разочарован. Потом до него дошло, что эти люди просто не любят говорить о ночных боях. Нормально! Они не тратят слов, как тыловые крысы. Они действуют! Присмотревшись к ним получше, он обнаружил, что они и впрямь менялись с наступлением ночи: из угрюмых становились живыми, усталость как рукой снимало, мускулы напрягались, точно наэлектризованные, глаза горели. Гитлер завидовал, и нетерпение его росло.
Наконец сгустились сумерки четвертого дня.
Объявили наступление. Не сидеть в траншеях, нет, выйти. Продвигаться по равнине. Ударить по врагу с фланга. Оттеснить его. Эта ночь будет решающей.
Гитлер очертя голову устремился в бой.
Он не был на передовой – вестовые не идут в атаку, – но он носил главные приказы, без него в сражении не обойтись.
Огонь. Сыплются впотьмах снаряды. Едва слышен щебет ракет, разливающих время от времени свой свет.
Солдаты выходят из траншей и углубляются в лес. Французы недалеко. Слышны залпы.
Гитлер передает приказы. Ему надо пройти лесом.
Он бежит. Кричит. Бежит. Бранится.
Гремят выстрелы. Пули вонзаются в кору. Стонут и падают товарищи.
Он бежит.
Он чувствует себя великим. Он огромен.
Он бежит.
Он стал воином. Вперед! Он ничего не боится, смерть ему не страшна, он сам несет смерть. Он – абсолютный воин.
Он бежит. Падает. Ползет. Поднимается. Бежит.
Он перестал быть собой, он – лишь рефлексы; его тело умнее его; тело все знает; тело все чувствует. Он есть. Наконец-то он есть. Порыв. Только порыв. Все – порыв. Порыв движет им, он сильнее его. Сила поднимается в нем до упора. Раскаленная.
Он бежит.
Жизнь полна. Полна как никогда. Прежде он знал лишь унылое небытие. Теперь он живет. Более чем живет.
Он бежит. Падает. Бранится. Смеется. Бежит.
Вся его кровь кипит. Все нервы напряжены. Он не знал за собой такой энергии. Никогда его глаз не был так зорок, слух так тонок. Никогда его чувства не были так обострены. Он – гигант.
В нем проснулся зверь. Он прекрасен, зверь. Быстрый. Неутомимый. Чуткий. Тысячелетний. Он силен, зверь. Он бросается на землю, уворачиваясь от пули, стреляет, поднимается. Безотказное чутье у зверя. Он всегда избегает смерти. Он несет ее, разя наверняка. Гибко. Быстро.
Да, человек в нем умер. Ему на смену пришел зверь.
Он бежит. Стреляет. Бежит.
Огонь. Атака. Экстаз битвы. Я счастлив. Я никогда не был так счастлив. Благодарю Тебя, Боже, что дал мне познать войну.
* * *
Адольф Г. возненавидел птиц. Так подействовал на него фронт. В последние несколько недель он вздрагивал от малейшего шума, прислушивался, улавливая в любом нарушении тишины грозную опасность; его тело ныряло вниз от тоненького визга шальной пули, прижималось к земле от коварного свиста шрапнели, покрывалось потом от смертоносного шипения, следующего за взрывом снаряда; короче, пение птиц, даже самым прекрасным солнечным и мирным утром, означало для него смерть.
В тот день в Шампани стояла дивная погода – настоящий земной рай. Адольф, Нойманн, Бернштейн и другие солдаты получили передышку. Они отдыхали на лугу у ручья.
Мужчины купались, голые, в чистой воде. Вроде как для того, чтобы помыться. На самом же деле им было необходимо вновь обрести тело не только для того, чтобы воевать. Какими же худыми они выглядели без формы, без шинелей, гетр, сапог, вещмешков, оружия! Как им только удавалось носить все это?
Адольф нежился в воде в сторонке от остальных. Один Бернштейн не купался, сидел одетый на берегу, жевал травинки, а ободранный кот любовно терся о его сапоги. Адольф смотрел на окружающие его молодые тела. Нагота тоже стала формой. Одна и та же белая кожа, мощный изгиб поясницы, бугры бицепсов, большие бледные ноги, член в треугольнике волос, свисающие тестикулы, выглядящие лишними. Животные. Ночью я сражаюсь не как австриец против французов, даже не как человек против других людей; я сражаюсь как зверь против смерти. Я спасаю свою шкуру. Я стреляю в смерть, бросаю гранаты в смерть, не во врага. А днем я тоже зверь. Ничего не жду, кроме кормежки. Поесть. Просидеть час в уборной с голым задом, опустошая кишки. Снова поесть. Поспать немного. Поесть. Жизнь сведена к жизни. К борьбе за жизнь.
Он вышел из воды и закурил. Ах да! Я не зверь, потому что курю. Крыса или жираф не курят, насколько я знаю. Спасибо армии. Им каждый день раздавали все, что не давало совсем оскотиниться. Пять сигар. Десять сигарет. Жевательный табак. Всем этим можно было меняться. Ах да, и это тоже, обмен – признак высшего существа. Я нас недооценивал. Прошу прощения. Он сел, голый, рядом с Бернштейном. Кот рефлекторным движением потерся о его ляжки, но подскочил как ошпаренный, обнаружив, что Адольф мокрый.
Кошачья гримаса рассмешила их до слез.
– Коты боятся воды.
– Как и ты, я вижу, – сказал Адольф Бернштейну.
– О, со мной все сложнее.
Бернштейн отвернулся, чтобы Адольф не задавал больше вопросов.
К ним подбежал Нойманн, резвясь и подпрыгивая, такой веселый, что нагота его казалась детской. Адольф в очередной раз восхитился контрастом между очень бледной кожей и очень черной, блестящей бородой, окружавшей гордый нос с раздувающимися ноздрями: Нойманна как будто нарисовали тушью.
– Расскажите-ка мне свою жизнь до сорока лет, – сказал Бернштейн, почесывая пухлый животик кота.
– Что ты несешь? И вообще, почему ты не купаешься?
– И ты туда же, Нойманн. Это уже эпидемия. Все должны делать одно и то же. Все должны идти на войну. Все должны погибать под огнем. Все должны есть одно и то же дерьмо. Все потом не способны сделать нормальное дерьмо. Все должны купаться. Все…
– Стоп! Я понял. Больше не буду. Так что за игра?
– Игра состоит в том, чтобы сказать, что мы будем делать от сегодняшнего дня до сорока лет. Коль скоро мы не уверены, что будем еще живы завтра утром, я думаю, будет неплохо пофантазировать. К чему отказывать себе в удовольствии? Идет?
– Идет, – сказал Нойманн.
– Идет, – кивнул Адольф.
– Кто начнет?
Все глубоко задумались. Несколько месяцев назад они ответили бы с легкостью, но война была таким наполненным настоящим, что они утратили связь и с прошлым, и с будущим. Каждому пришлось сделать усилие, чтобы вспомнить, кто он и чего ждет от жизни, когда она перестанет быть просто выживанием.
– Я? – сказал Адольф, убедившись, что ни на чье вдохновение рассчитывать не приходится.
– Давай.
– Давай.
– Если война кончится завтра, я вернусь с вами в Вену и несколько дней буду готовить для нас троих лучшие на свете блюда, а потом снова сяду за мольберт. Я еще не нашел своего стиля. Я всегда кого-то копирую. У меня слишком много учителей, в том числе Бернштейн. Мое восхищение оборачивается отсутствием индивидуальности. Я хотел бы перестать быть хамелеоном.
– Кем ты будешь в сорок лет? – спросил Бернштейн.
– Художником, уверенным в своей кисти и неплохо зарабатывающим на жизнь, чьи маленькие полотна уже есть у хороших коллекционеров, а о больших они подумывают.
– А в личной жизни?
– Удовольствия. Только удовольствия. Много женщин, очень ко мне привязанных. Может быть, помоложе меня – для разнообразия, сегодня-то все наоборот. Женщины. Да, мне нужно множественное число.
– Теперь ты, Нойманн.
– Послушайте, ребята, все очень просто: в сорок лет я буду величайшим театральным декоратором Австрии и Германии, вместе взятых. Ни одного Ведекинда,[7] Дебюсси или Рихарда Штрауса не поставят без меня, разве что я запрошу слишком дорого.
– А в личной жизни?
– Все как у людей. Верная супруга, которая меня обожает и боготворит, родила мне шестерых детей, сама подтирает им зады и сама воспитывает. Несколько богатых любовниц, не устоявших перед моим талантом. По большей части актрисы. И тесная эпистолярная связь с таинственной далекой женщиной, покровительницей моего гения.
– И только?
– Я набрасываю в общих чертах.
Они рассмеялись. Нойманн описал себя полной противоположностью того, кем он был сейчас. За одним исключением: он обожал работать над театральными декорациями.
Адольф повернулся к Бернштейну:
– А ты?
– Я? Я надеюсь, что закончу наконец полотно, на которое стоит смотреть.
– Но т это уже сделал! Двадцать раз! – запротестовал Адольф.
– Перебивать нельзя, это игра. Деньги? Я их наверняка заработаю.
– Но ты их уже зарабатываешь. Вообще, у тебя уже все есть.
– Может быть. Во всяком случае, в сорок лет, надеюсь, я больше не буду вам лгать.
Адольф и Нойманн посмотрели на Бернштейна с болью. На этот раз он не шутил. Губы его дрожали.
– Ты нам лжешь? Ты?!
– Вы мои лучшие друзья, а я так и не могу показаться перед вами голым.
– Голым? Вот что! Ты шутишь! Какой интерес показываться голым? Ты стыдлив, вот и все.
– Даже целомудрен!