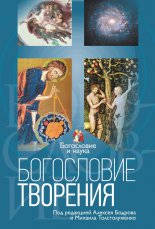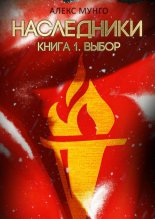Другая судьба Шмитт Эрик-Эмманюэль

– Надо же тебе будет где-то жить, – заметил Адольф.
– Где-то – да, но в стране, не в нации.
– Какая разница?
– Страна становится нацией, когда начинает ненавидеть все другие страны. Ненависть – основа нации.
– Я не согласен, – возразил Нойманн. – Нация – это страна, которая прилагает усилия, чтобы обеспечить тебе жизнь в мире.
– Да ну? Были бы войны, если бы не было наций? Что мы здесь делаем? Из-за того что серб убил австрийца, немец и австриец воюют с французом, англичанином, итальянцем, американцем, русским. Ты можешь объяснить это иначе, чем логикой ненависти? Национализм – фатальный невроз, мой добрый Нойманн, и, выражаясь языком доктора Фрейда, он становится необратимым психозом, когда переходит в патриотизм. Если ты признаешь принцип нации, то признаешь и принцип перманентного состояния войны.
Они прислушались к далекому рокоту фронта. Сама природа словно была настороже, ожидая, как обычно, неистовства стали ночью.
– После войны я поселюсь в Париже, – заявил Бернштейн.
– В Париже? Почему в Париже?
– Потому что там вот уже тридцать лет создается современная живопись.
– На Монмартре?
– Нет. Это устарело. На Монпарнасе. Я сниму большую мастерскую и поселюсь там.
– Скажите пожалуйста, ты, похоже, хорошо все это знаешь.
– У меня свои источники.
Бернштейн умолк, напустив на себя загадочный вид. Адольф и Нойманн, зная болезненную стыдливость своего друга в делах любовных, не стали расспрашивать.
Бернштейн поднял голову и широко улыбнулся:
– Кто любит меня – за мной! На Монпарнас?
– На Монпарнас!
– На Монпарнас!
И трое друзей рассмеялись, счастливые от благодатной мысли, что у них снова есть будущее.
«Но пока надо продержаться», – с тревогой подумал Адольф.
* * *
– Назад, быстро!
Отряд отступал. Англичане проникли в траншею с двух сторон, и немцы, решившись покинуть ее, бежали к следующему укрытию.
– Налево! Здесь тоже враг. Налево! Быстро!
Побежали налево.
В эту октябрьскую ночь 1918 года полк вестового Гитлера в третий раз с 1914-го оказался на той же топкой земле. Прежде бывшая их местом отдыха деревня Комин стала полем боя. Англичане пядь за пядью продвигались вперед.
Все, кроме Гитлера, знали, что война, после четырех лет хронической болезни, близилась к концу. Германия отступала. За несколько месяцев она потеряла миллион человек, запасы продовольствия, боеприпасов и боевого духа были на исходе.
Гитлер отказывался верить в поражение Германии, потому что он отождествлял с Германией себя. Он, Гитлер, непобедимый, отважный, энергичный, постоянно чудом спасаемый, не мог погибнуть – значит Германия должна была победить. Оценивая ситуацию, он держал в памяти только элементы, подпитывавшие его убежденность: крушение русского фронта, разгром итальянцев и, наконец, Железный крест первого класса, врученный ему четвертого августа текущего года лейтенантом Хуго Гутманном, – награда исключительная для простого ефрейтора. Ну? Это ли не доказательство, что война будет выиграна?
– В рощу, быстро! Под прикрытие!
Его уже не устраивало быть лишь номером среди восьми миллионов человек. Разве это его место? Справедливо ли, что он, который мог бы и не так послужить родине, был простым ефрейтором на фронте, зависящим от случайного жеста любого рядового напротив?
– Ползком к опушке! Быстро!
Он никем не заменил своего пса Фоксля, потому что не хотел давать врагу случай вновь причинить ему такую боль.
– Внимание: газы!
Сигнал газовой тревоги пронесся от солдата к солдату. Газы. Газы. Газы. Все надели противогазы.
Газовые атаки случались все чаще. В немецких войсках говорили, что англичане заряжают свои снаряды новым веществом – горчичным газом, очень коварным, по-разному действующим на разных людей. Каждый на своей шкуре узнавал действие яда. Этот изыск особенно пугал.
Гитлеру было трудно дышать под тесной маской. Он не мог выдержать нехватку воздуха больше десяти минут.
Хуго Гутманн заранее, воспользовавшись осветительной ракетой, сделал знак своим людям не снимать противогазов.
Заряженные газом снаряды сыпались на них дождем, и при полном отсутствии ветра ядовитый туман не рассеивался. Остроконечные каски выныривали из этого белесого моря, точно летучие рыбы.
Гитлер больше не мог. Даже заставляя себя дышать как можно реже, он чувствовал, что его тело от нехватки кислорода опасно слабеет. Что он мог сделать? У него был выбор: умереть от удушья в противогазе или отравиться газами.
Несколько человек перед ним встали и сорвали противогазы.
– Бегите! Прочь от газов! Быстро!
Хуго Гутманн, видя, что его люди поддались панике, тоже снял противогаз, чтобы приказать им бежать с этого смертоносного поля.
Гитлер сначала побежал в противогазе, потом, почувствовав, что задыхается, отшвырнул его и помчался еще быстрее.
Я непобедим. Пули меня не берут. Снаряды меня не берут. Газы меня не берут. Ничто меня не берет. Моя счастливая звезда продолжает защищать меня, я этого стою. Я уцелею.
Он пробежал несколько сот метров и, видя, что люди вокруг него падают, в очередной раз заключил, что его броня непобедимости сыграла свою роль.
Он упал рядом с лейтенантом Гутманном в ров, защищенный их артиллерией.
– Как вы, ефрейтор Гитлер?
– Очень хорошо, лейтенант.
Гитлер быстро углубился в тыловую зону, где не так свирепствовала бомбежка.
В шесть часов утра он почувствовал, что глазам горячо.
В половине седьмого их стало жечь.
В семь глаза уподобились раскаленным углям.
В половине восьмого Гитлер заподозрил, что, возможно, надышался газов.
В восемь часов, когда начало светать, вокруг Адольфа Гитлера сгустилась тьма. Он понял, что ослеп.
Он упал, где стоял. Где? Ничего не видя, он завопил:
– Мои глаза! Газы! Мои глаза!
Глазницы пекло, все тело как будто сковало льдом. Он горел и одновременно трясся от холода. Он понял, что его кладут на носилки.
Чья-то рука взяла его руку.
– Думаю, война для вас окончена, Гитлер.
Он узнал голос лейтенанта Гутманна.
Эта фраза его ошеломила: война для него окончена? Что будет с войной без него? С фронтом без его пыла? С Германией без его веры? Нет, хотелось ему закричать, я вовсе не слеп, оставьте меня здесь, – но сил не было.
«Умрешь ты через то, чем согрешил…»
Под тряску грузовика, потом под свист поезда фраза, слышанная в детстве, то и дело возвращалась с приступами лихорадки.
«Умрешь ты через то, чем согрешил».
Он был художником. Он потерял зрение. Больше ему не писать, и воевать с таким увечьем тоже не придется. Если он не умрет, что с ним станется?
* * *
Адольф Г., Бернштейн и Нойманн знали, что, скорее всего, ведут свой последний бой. Они сражались не сражаясь, едва сознавая, что делают, как будто это была репетиция пьесы, а не реальное зрелище.
Они бы хотели поберечь себя, но неистовство вражеских сил этого не позволяло. Они бы хотели защитить себя, но азарт сражения заставлял их драться. Они бы хотели сказаться больными, но их, как эстетов, вновь влекло бесполезное великолепие последнего боя.
Полная луна благоприятствовала полету самолетов. Снаряды сыпались дождем, ежеминутно показывая сокрушительную превосходящую силу врага.
Продержаться до рассвета, твердил про себя Адольф.
Французские пехотинцы наступали со всех сторон. Приходилось отступать. Приказами и волею обстоятельств трое друзей были разлучены.
Адольф проживал эту ночь как сомнамбула. От воина он сохранил привычные жесты, превосходные рефлексы, но душа его уже была не здесь – в завтрашнем дне, в послезавтрашнем, в мире.
Продержаться до рассвета.
Несколько раз он равнодушно отметил, что смерть была совсем рядом. Пули свистели у самого уха. Шрапнель осыпала его тучей осколков. Ему было плевать.
Продержаться до рассвета.
Он испугался, как бы его преждевременная отрешенность не сыграла с ним злую шутку. Попытался заставить себя бояться. Тщетно.
– Продержаться до рассвета.
И рассвет наконец настал, полный обещаний. Грохот начал слабеть, по мере того как светало.
Адольф медленно брел к последнему тыловому штабу.
Подойдя, он по серым лицам офицеров понял, что был прав. Только что официально сообщили: война проиграна.
Адольф сел на скамью и подставил лицо солнцу. Он купался в свете. Бледные зимние лучи согревали его медленно, точно окатывая долгим душем, смывая четыре года пота, тревог, смертельного страха. Этот рассвет наконец-то был настоящим рассветом, тем, за которым наступает новый день. Его жизнь и его будущее были ему возвращены.
Подошел Нойманн. Сел рядом, ни слова не говоря. Одна и та же сила вливалась в них. Они знали, что счастливы.
Начали подтягиваться раненые.
Те, что могли ходить, помогали тяжелым. Два санитара несли на носилках стонущий кусок окровавленного мяса.
– Укол! – крикнул медбрат с ужасом в голосе.
Подошел врач и на миг замер перед чудовищным зрелищем. Отводя глаза, он взял раненого за руку и вколол ему успокоительное. Адольф и Нойманн подошли ближе. У солдата было снесено лицо. Не осталось ни глаз, ни носа, ни губ. А между тем он был жив. В этом кровавом месиве, истекающем кровью, еще был рот, пытавшийся говорить, подбородок, по привычке двигавшийся, был юноша, звавший своих товарищей, но это развороченное мясо издавало лишь нечленораздельные звуки.
– Посмотри на его руку, – сказал Адольф.
На безымянном пальце солдата блестело серебряное кольцо. Это был Бернштейн.
* * *
– Вы отравились ипритом. Через какое-то время зрение к вам вернется.
Среди стонов в большой общей палате доктор Форстер успокаивал раненого.
– Вам только кажется, что вы слепы, на самом деле ваши глаза целы и это не настоящая слепота. Это просто очень острый конъюнктивит с отеком век.
Гитлер слушал его и не мог поверить. Он был в плену тьмы. Ему сказали, что он находится в госпитале Пазевальк, но он его не видел; он понимал, что его лечит доктор Форстер, но не мог сказать, был ли тот брюнетом, блондином или рыжим; он знал всех своих соседей по палате по именам, по голосам и по рассказам, и ему было невыносимо лежать в такой близости среди невидимых тел и лиц.
– Может быть, вы уже видите. Даже наверное. Я не снимаю повязку из осторожности.
– Но мои руки, доктор, почему вы привязали мне руки к кровати?
– Чтобы вы не терли глаза. Если вы будете их тереть, глазные яблоки и веки могут так воспалиться, что слепота станет необратимой.
– Я клянусь вам, что…
– Это для вашего блага, ефрейтор Гитлер. Вы думаете, мне хочется надевать наручники герою, получившему Железный крест первого класса? Я хочу, чтобы вы выздоровели, потому что вы этого заслуживаете.
Гитлер замолчал и смирился. Доктор Форстер знал, что от Гитлера можно добиться повиновения умелой лестью. «Занятный субъект, – подумал он, – способен вынести все, если в нем признают существо исключительное. Странное мужество, основанное на неуверенности в себе. Редко встретишь эго, столь сильное и столь слабое одновременно. Сильное, потому что мнит себя абсолютным центром мироздания, напичкано прописными истинами, всегда убеждено в своей правоте. Слабое, потому что ему жизненно необходимо, чтобы окружающие отметили его заслуги, успокоили его сомнения насчет собственной ценности. Таков порочный круг эгоцентриков: их эго так много требует, что им в конечном счете нужен ближний. Это, должно быть, тяжко. Уж лучше быть банальным эгоистом».
Доктор Форстер ушел из палаты к медицинской бригаде, которую пытался приобщить к новым методам исследования, разработанным доктором Фрейдом в Вене.
Сосед Гитлера, некто Брух, произнес своим свистящим голосом:
– Не повезло тебе, парень! Если выздоровеешь, не получишь даже пенсии по инвалидности. Жаль! Для художника ослепнуть – это могло бы принести неплохие денежки на всю жизнь.
Гитлер не ответил. Он уже не понимал, что его удручает больше – потеря зрения или рассуждения трусливого рвача.
– Товарищи, революция близка, – завел привычную песню Гольдшмидт.
Гитлер нетерпеливо вздохнул. Гольдшмидт-Красный опять будет весь день пудрить им мозги своими марксистскими разглагольствованиями. В ход пойдет все: успех русской революции, новая эра свободы и равенства, воодушевление рабочих, наконец-то ставших хозяевами своей жизни, обличение капиталистов, которые убивают и морят голодом, и так далее. Гитлер испытывал двойственные чувства к новой идеологии: он еще не определился с позицией, потому что не мог обобщить. Что-то ему нравилось, что-то нет. По душе пришлись обличения городской буржуазии, нападки на спекулянтов, биржу, мировой капитал. Но его возмутила забастовка военных заводов, объявленная профсоюзами, дабы ускорить заключение мира, и он не мог принять интернационализм. Эта доктрина еврейского и славянского происхождения призывала к упразднению различий между нациями и новому, высшему мироустройству, в котором не будет понятия родины. Но тогда, думал Гитлер, к чему эта война? Но тогда быть немцем – уже не преимущество? А монархия – ее свергнут? Два-три раза он пытался принять участие в спорах, увлекавших всех раненых в Пазевальке, но, по вечному своему косноязычию, путался, смущался и вскоре предпочел замкнуться в молчании.
На следующий день чья-то рука мягко сжала ему плечо.
– Ефрейтор Гитлер, сейчас мы проверим, возвращается ли к вам зрение. Я сниму с вас повязки. Потерпите, это может быть больно.
Гитлер так боялся результата, что чуть было не попросил оставить его под компрессами и бинтами. А что, если он не будет видеть?
Но в тумане, усеянном красными точками, перед ним появилось лицо доктора Форстера. Лицо было на диво толстое, молодое и розовое; врач отрастил бородку и надел очки, чтобы выглядеть постарше, но рыжий пушок и удивленно круглые стекла только молодили его, придавая вид младенца, прикинувшегося студентом.
– Я вижу, – сказал Гитлер.
– Сколько пальцев? – спросил Форстер, показывая три.
– Три, – пробормотал Гитлер, подумав, что его решительно держат за идиота.
– Следите за моим указательным пальцем.
Гитлер следил за рукой, которая двигалась справа налево, сверху вниз. Вращать глазами было больно. Он поморщился.
– Все наладится, не беспокойтесь.
– А я могу получить прессу?
– Да, но сомневаюсь, что вы сможете ее читать.
– Я должен. Здесь я довольствуюсь одними слухами о ситуации в Германии. Мне нужна достоверная информация.
Доктор Форстер положил на кровать две газеты и ушел. Гитлер был раздосадован, обнаружив, что буквы сливаются в сплошную линию и он не может прочесть ни слова. Он раздраженно вздохнул.
– Товарищи, – воскликнул Гольдшмидт, – к нам в госпиталь прибыли революционеры! Это взбунтовавшиеся моряки. Мы должны выразить им нашу поддержку.
Гитлер оглядел оживившихся соседей по палате. Надо же, он и не знал, пока не увидел их в лицо, что Гольдшмидт, Брух и еще один доходяга в углу – три красных лидера палаты – были евреями. Какая тут могла быть связь?
Вошел пастор, и наступила тишина. Его удрученное лицо предвещало дурные новости.
– Дети мои, – начал он дрожащим голосом, – Германия капитулировала. Война проиграна.
Ответом на эти слова стало молчание. Каждый раненый говорил себе, что сражался и страдал понапрасну.
– Нам с вами остается сдаться на милость победителей и молить Бога об их великодушии.
Это было еще страшнее: одно дело – проиграть, но покориться врагу – совсем другое. Германии была уготована рабская участь.
– Это не все, – добавил пастор. – Монархия пала. Германия теперь республика.
– Ура! – крикнул Гольдшмидт.
– Ура! – подхватил Брух.
– Замолчите! – рявкнул один ампутант.
Если бы пастор и хотел сказать что-то еще, то не смог бы: палата превратилась в ассамблею, где парламентарии поносят друг друга на чем свет стоит.
У Гитлера увлажнились глаза, он подумал, что сейчас умрет, уткнулся в подушку и разрыдался, как рыдал об умершей матери или о подстреленном Фоксле. Германия не может пасть с такой высоты. И я тоже.
Внезапно вокруг него сгустилась тьма. Он поднял руки и помахал ими перед собой: он их не видел. Потемки были темно-бурые, цвета той самой глины, в которой он лежал четыре года, которую четыре года защищал и обнимал, когда свирепствовала бомбежка. Он стал землей, в землю вернулся. Наверно, он умер.
– Мои глаза! Мои глаза!
Он зашелся криком.
Санитары бросились к пациенту, прижали руки к кровати, чтобы он не покалечил себя. Прибежал доктор Форстер, сделал успокоительный укол и потребовал поместить его в отдельную маленькую палату.
Гитлер пребывал в парадоксальном состоянии, он был вне себя, но сознание то и дело уплывало. Он слышал издалека, не понимая, спор между молодым доктором Форстером и многоопытным Штайнером, главным врачом военного госпиталя в Пазевальке.
– Говорю вам, это психологическая реакция.
– Довольно совать мне вашу психологию по любому поводу, Форстер. Учитывая масштаб недавнего конъюнктивита, слез было достаточно, чтобы он вновь обострился. Это та же слепота, что и прежде.
– Уверяю вас, это не так. На сей раз слепота имеет иную этиологию. Пациент отказывается видеть. Он не приемлет мысли о том, что война проиграна. Это слепота истерического происхождения. Профессор Штайнер, я прошу разрешения подвергнуть этого пациента гипнозу.
– Я вам запрещаю.
– Но почему?
– Я не верю в ваши шарлатанские методы.
– Если не верите, значит считаете их безобидными. Дайте же мне попробовать.
– Нет! Нечего превращать мой госпиталь в ярмарочный балаган! Зрение само вернется к пациенту.
Профессор Штайнер хлопнул дверью, не сомневаясь в повиновении.
– Старый дурак, – процедил сквозь зубы Форстер.
Для него это был конфликт поколений: старая медицинская гвардия не терпела идей молодежи, отвергая скопом все новое. Он подошел к Гитлеру, который стонал и метался на койке.
– Искушение слишком велико.
Действительно, кто мог помешать ему сделать с этим пациентом то, что он хотел? Уж точно не мастодонт Штайнер, который, должно быть, уже пил шнапс у себя дома, оставив на нем, как и каждую ночь, полную ответственность за госпиталь.
– Черт с ним! Попробую. Рано или поздно ему придется признать, что я был прав.
Форстер достал свой тайный блокнот с записями о больных, которых он лечил своим методом – гипнотическим воздействием. За четыре года войны он внес в него тридцать пять имен тех, чье выздоровление ставил себе в заслугу. Гитлер, наверно, будет последним, скоро он, Форстер, откроет частный кабинет в Берлине.
Он запер дверь на ключ и склонился над пациентом. Гипнотизировать слепого оказалось делом нелегким. Доктор взмок, но через двадцать минут наконец почувствовал, что завладел его вниманием и может отдавать приказы.
– Поднимите левую руку.
Гитлер поднял левую руку.
– Потрите правое ухо.
Рука Гитлера медленно дотянулась до правого уха и потерла его.
– Отлично. Теперь вы запечатлеете в вашей памяти все, что я вам скажу. Это будет вашей скрижалью Завета на будущие годы. Если вы согласны, слегка наклоните голову.
Гитлер кивнул. Форстер почувствовал, что гипнотический контакт установлен.
– Адольф Гитлер, вы нужны Германии. Она больна, как и вы. Она должна выздороветь, как и вы. Вы не должны больше скрывать от себя правду, рассейте тьму перед глазами, прозрейте. Верьте в вашу судьбу, Адольф Гитлер, не будьте слепы, и ваша слепота пройдет сама. Обретите веру, Адольф Гитлер, поверьте в себя. Вас ждут великие дела, жизнь, полная свершений, вы построите новый мир. Смелей, вперед без колебаний. Никогда не пасуйте перед событиями. Идите своим путем. Никаких сомнений. Будущее принадлежит вам. Утром, когда вы проснетесь, я хочу, чтобы вы прозрели. Этого хочет Германия. Вы должны это Германии.
Он наклонился к раненому:
– Дайте знак, что поняли. Поднимите голову.
Гитлер поднял голову.
– Теперь отдыхайте, Адольф Гитлер. Я приду утром и проверю, послушались ли вы меня.
Он притворил за собой дверь и оставил пациента в темноте.
Через полчаса Гитлер резко сел на койке. Он был ошеломлен силой своих мыслей. Они лавиной хлынули в мозг, но это было благом: все внезапно прояснилось.
– Гутманн, Брух, Гольдшмидт… все евреи. Мы проиграли войну из-за евреев. Как я не понял этого раньше? Ах, Гутманн, я помню, как ты смутился, когда я поднял твою кипу; а я-то, дурак, не сообразил тогда, что ты предатель. Война проиграна, потому что в штабе было полно евреев вроде тебя, а быть одновременно немцем и евреем нельзя. Нами командовали предатели. Они во всех лагерях, во всех странах, они ни во что не верят, потому что они – евреи. Они едят из всех кормушек, потому что они – евреи. Они отравляют нашу кровь и нашу национальную идентичность. Евреи на фронте, евреи в тылу, евреи захватили администрацию и политику, организовали забастовку военных заводов. А финансы, а экономика – они разве не еврейские? Благородно только владение землей. Они же подменили его биржей и акционерными обществами. Отлично сыграно! Тихой сапой они подтачивают наш мир. Лицемеры! Притворщики! О, Шопенгауэр, прости! Я не понимал, почему ты писал о евреях, что они «мастера лжи». Они люди с двойным дном, немцы с виду, евреи внутри. Прости, Ницше, прости, Вагнер! Я не понял всей вашей прозорливости… Вы должны были просветить меня вашим антисемитизмом. А я отворачивался от вашей ненависти, считал ее чужеродной. Простите! Я и сам был отравлен еврейской культурой, универсализмом, критическим анализом. Они умертвили немецкий ум, сделав нас народом брюзгливых профессоров, эрудитов, которых восхваляет весь мир. Какое лицемерие! Какая западня! Подлинное воспитание должно быть воспитанием силы и воли. Ах, полковник Репингтон, хоть ты и английский офицер, но был прав, когда писал в газетах: «На трех немцев приходится один предатель». Да, ты прав. Один предатель и два глупца. Один еврей и два одураченных простака, обведенные вокруг пальца, напичканные еврейской культурой по самые ноздри. Но теперь я здесь. Я верю в себя. Я укажу дорогу. Я пронесу свой факел над траншеями, где кишат крысы, я выведу на свет подпольную сеть, которая поглотит нас, если мы ничего не предпримем. В конечном счете это поражение пойдет Германии на благо. Этот кризис явит миру вирус, доселе невидимый. Прости, Ницше! Прости, Вагнер! Прости, Шопенгауэр! Вы сто раз говорили мне то, что сегодня снизошло на меня как откровение. Озарение. Сколько ни предостерегают нас врачи, мы больше боимся чумы, чем туберкулеза. Потому что чума – болезнь зрелищная, сокрушительная, быстрая, туберкулез же – подспудная и хроническая. И вот человек одолел чуму – а туберкулез одолевает его. Нам нужна была эта катастрофа. Теперь микробы разоблачены. Надо лечиться. Я буду врачом Германии. Я искореню еврейскую расу. Я их изобличу, не дам им размножаться и очищу от них страну. Пусть оскверняют другую землю, не немецкую. Я не отступлю. Я верю в мою миссию. Сегодня я говорю умеренности «прощай». Умеренность, воздержанность – это все еврейские хитрости. Я буду неуклонен, тверд – и никаких нюансов. Взглянем на мир: есть ли здесь место критическому духу? Нет. Всем правит сила. Луна вращается вокруг Земли, потому что Земля сильнее. Земля вращается вокруг Солнца, потому что Солнце сильнее. Притяжение – это царство силы. Человек не может существовать отдельно от мира. Вперед, прямо и твердо. Я понял мою миссию.
В восемь часов доктор Форстер вошел в палату, раздвинул занавески и разбудил спящего. Гитлер открыл глаза. Посмотрел на солнечные лучи, падавшие из слухового окошка на кровать. Улыбнулся доктору Форстеру. Он видел.
Врач вышел, прислонившись к стене в коридоре, достал свой тайный блокнот и с удовлетворением записал всего три слова: «Адольф Гитлер: выздоровел».
* * *
«Дорогая Люси,
мог ли я вообразить, что возвращение к мирной жизни будет таким печальным? Четыре года под огнем в окопах я копил силы, думая о после. После, которое придет за всеми этими ужасами, после, которого мы, вопреки всему, дождемся. И вот это после настало. Оно пустое. Полое. Мучительное.
Похоронив Бернштейна, мы с Нойманном вернулись в Вену. Это было невыносимо, мы были заживо распяты на воспоминаниях. Бернштейн был повсюду – в нашей прежней мастерской, в его картинах, которыми мы снова могли любоваться, в кафе, где мы бывали вместе, в Академии художеств, где нас попросили произнести речь о нашем «доблестном товарище, павшем в бою», как будто нам хотелось славить солдата Бернштейна… Мы вернулись в наш мир, но возвращение это нерадостное. Все ранит нас в Вене 1919-го: ее великолепие – как будто война не затронула город, ее новая молодость – я вдруг осознал, что мне уже тридцать, ее обострившаяся ксенофобия, заставляющая опасаться новых войн, ее постоянные интеллектуальные споры, которыми у меня нет сил интересоваться после четырех лет варварства.
После гибели Бернштейна я тревожился о Нойманне. Он так тяжело перенес потерю нашего друга, что его расшатанные нервы, не выдержав удара, переплавили горе в ненависть. Сначала он поносил войну, командование, бессильных докторов. Вернувшись сюда, он обратил свою ненависть на окопавшихся в тылу, трусов и рвачей, которые имели наглость работать и процветать, в то время как Бернштейн стал пушечным мясом. Когда мы с ним ходим в мастерские и галереи, он не устает ругать мазню, «не стоящую одного эскиза Бернштейна». На днях я едва совладал с ним, когда он набросился с кулаками на одного коллекционера, имевшего несчастье признаться, что имя Бернштейн ему незнакомо. Он сам удивился этому приступу неконтролируемого гнева и согласился со мной, что так продолжаться не может. Мне стало казаться, что он успокоился, но потом понял, что Нойманн нашел совсем иное приложение своей агрессивности, и… но об этом я расскажу вам позже.
Со мной случилась странная вещь. Я пережил ночь не менее необычайную, чем та, которую я провел с вами в маленькой палате для умирающих.
Вернувшись в мастерскую, я обнаружил, что моя рука, глаз, ум и уж не знаю, что еще, безнадежно заржавели. Как пианист после каникул, я взялся за гаммы: наброски, натюрморты, копии мастеров. Я марал бумагу и полотно, чтобы вернуть былые навыки. В глубине души я был счастлив выполнять эти работы, предназначенные для мусорной корзины, потому что это избавляло меня от мыслей о двух главных проблемах художника – стиле и сюжете.
Как я уже говорил вам, сестра Люси, я художник талантливый, но далеко не гениальный. Мне недостает самобытности. С этой проблемой я столкнулся еще перед войной: я достиг технического совершенства, абсолютно не зная, что с ним делать. Представьте себе мультимиллиардера, не имеющего никакого желания покупать. Словарь в восемь тысяч страниц, ничего нам не говорящий. Конечно, порой я выражал чувства в моих полотнах, но то были банальные чувства в банальной форме.
Однажды ночью, совсем пав духом от своей бесплодной виртуозности, я дал себе волю и нарисовал невесть что. Я водил карандашом наобум, соединяя бессвязные элементы, как это делает наше воображение во сне. В этом была забава, но и ярость тоже – ярость разрыва с академическим совершенством. Я нарисовал сестру милосердия – быть может, это были вы, сестра Люси, – которая летела в стае чаек. Белые чайки треугольником атаковали параллельную эскадрилью снарядов, черных и грозных. Внизу раскинулся пляж цвета шампанского при отливе. В небе я нарисовал морские звезды, а на песке – звезды небесные. Я добавил скалы на берегу, скалы мягкие и маслянистые, и некоторые из них под моими мазками превратились в нагих женщин, томных, полных неги, другие же – в пары, занимающиеся любовью. Я сам не понимал, что делаю, но ликовал, как нашкодивший ребенок. Потом на камнях я изобразил маленьких тюленей, детенышей с большими выразительными глазами, беленьких, кругленьких и трогательных, не могу назвать их иначе как «лапочки». Едва я дорисовал последнему последний волосок усов, как мне нестерпимо захотелось их убить. Да, вы меня верно поняли, сестра, я взял краски и принялся рисовать красные раны, затратив много времени, чтобы они выглядели как живые; я добавил даже лужицы крови. Потом я нарисовал огромного жирафа. Не спрашивайте почему, я не смогу ответить; скажем, картине нужен был вертикальный элемент, и эту роль сыграл жираф, впрочем незаконченный: вместо ног я нарисовал основание Эйфелевой башни. Надо было чем-то заполнить правый верхний угол моего полотна, и вместо светила я нарисовал солнце-часы, чудовищный гибрид, который грел и показывал время с помощью множества цилиндров, винтиков, шайбочек и зубчатых колесиков, – создание этого механизма поглотило меня так, словно от него зависела моя жизнь.
Я написал все это тончайшими кисточками, с тем маниакальным тщанием, с каким готовят злую шутку. Наконец я назвал картину: „Еще стаканчик? или От шума я теряю сон”. Название мое показалось мне таким глупым и потешным, что я решил вставить его в картину и написал большими буквами внизу полотна. Усталый, но довольный, я был не в силах даже подняться в спальню и уснул на диванчике, прежде служившем натурщицам.
Проснувшись, я увидел Нойманна, который рассматривал полотно при свете дня. Стыд обуял меня, и я притворился, будто еще сплю. Но Нойманн не уходил. Он стоял перед картиной, разглядывал ее, изучал.
– Я знаю, это смешно! – крикнул я ему.
Он не ответил.
– Не знаю, что на меня нашло, – принялся я оправдываться. – Я написал это – не задумываясь, просто облегчил душу. Это пойдет в корзину, как и все остальное. Нойманн, оставь эту картину и прекрати надо мной издеваться.
– Ты знаешь, что это великолепно?
Избавлю вас, дорогая сестра Люси, от описания последовавшей за этим ссоры. Мы кричали друг на друга несколько часов кряду: у меня в голове не укладывалось, что он принял всерьез этот набросок, плод праздной ночи, и мне было невыносимо его восхищение ничего мне не стоившей мазней, ведь тем самым он презирал все усилия, которыми я порой так гордился. Он же, со своей стороны, возмущался моей слепотой:
– Дурак, ты впервые создал оригинальное произведение и не желаешь этого понять. Ты написал фрейдистскую картину, произведение, дающее волю подсознательному, функционирующее на свободных ассоциациях и современным образом выражающее твои чувства. Все тебе удалось: и контраст фактуры – академической, даже „помпезной”, – с дикой, эксцентрической поэзией, и отношение названия к картине, и…
– Но это название ничего не значит!
– Что ты несешь? „Еще стаканчик? или От шума я теряю сон” – это, совершенно очевидно, рассказ о войне. Ты сражался в Шампани – отсюда стаканчик и цвет пляжа… А шум, от которого ты теряешь сон, – это взрывы снарядов. Твоя картина описывает ужас, который внушает тебе война.
Это было невероятно. Он все растолковал, тогда как я был убежден, что лишь поддавался невнятным порывам. Он объяснил и часы, съедающие время людей, и жирафа – Эйфелеву башню, свидетельствующего о моей глубинной тяге к Франции, и равный бой между Добром и Злом в столкновении птиц и снарядов, и все прочее. Я молчал, а он продолжал открывать мне глаза на то, что я сделал.
Закончил он так:
– До сих пор ты не был художником, потому что думал, что все надо держать под контролем. Этой ночью ты стал художником, потому что впервые дал себе волю. Твое чувство бессмысленности обманчиво – на самом деле ты выразил смысл, тебе самому не до конца понятный. Для меня художник Адольф Г. родился этой ночью.
Он поколебал мою уверенность; я перестал протестовать и решился попробовать еще раз. Через несколько недель мне пришлось признать, что Нойманн был прав. Сам того не сознавая и почти случайно я нашел наконец свой путь.
Та ночь, стало быть, вернула меня к другой ночи. К нашей с вами ночи, сестра Люси. В обоих случаях – в ночь исцеления и в ночь созидания – я был не в состоянии понять, что со мной случилось. Каждый раз, когда со мной происходит что-то важное, приходится другим – вам или Нойманну – назвать это по имени. Чем больше меня балуют, тем я неблагодарнее. Мне нелегко признать, что Бог существует или что на меня снизошло вдохновение. Правда, все – лишь интерпретация, и мы сами вольны решать, была ли ночь мистической или медицинской, вдохновенной или бредовой. Однако, поскольку Нойманн убедил меня касательно моей живописи, я решил, дорогая сестра Люси, дать вам убедить меня касательно моей веры. Я приму чужое вмешательство в мою судьбу. Я вас послушаю – вас и Нойманна. Пока это всего лишь благое намерение, стало быть вещь хрупкая, но, как вы пишете в вашем последнем письме, зерно рано или поздно прорастет.
Была ли то радость оттого, что я стал наконец художником, которым всегда мечтал быть? Я с головой ушел в работу, не обращая больше внимания на то, что меня окружало. Трагедия завязывалась вокруг Нойманна, которую я мог предотвратить, но, в равнодушии своем, даже не видел. Дошло до того… Но продолжу рассказ по порядку.
Между тем мне были даны все знаки, которые я должен был бы истолковать и связать, чтобы помешать неотвратимому. Нойманн тоже переживал трудный период – в художническом плане. В отличие от меня, он фонтанировал идеями, но никак не мог их осуществить. Его поразила болезнь теоретиков: вся энергия уходила в замысел, а на воплощение не оставалось ни капли. Поэтому он был таким блестящим и заразительным в разговоре – и так разочаровывал, показывая один из своих редких рисунков. По возвращении в Вену, решив излечиться от своего доктринерства и взяться за кисти, он затворился в мастерской.
Однажды он позволил мне зайти, и я осознал масштаб катастрофы. Нойманн писал Бернштейна, вернее будет сказать – под Бернштейна.
– Ты не находишь, что это гениально? – лихорадочно допытывался он.
– Это… удивительно.
– Посмотри на эту деталь, вот здесь, слева. Почти Бернштейн, правда?
– Да, ты прав, это действительно Бернштейн.
Он зарделся от удовольствия. Как я мог объяснить ему, что то, чем мы оба восхищались в Бернштейне, в нем меня не восхищало? Как найти мужество показать ему, что художественная деталь, делавшая Бернштейна неповторимым и гениальным, становилась бедно-манерной на его полотне? Я спасовал. Наверно, зря. Я, может быть, смог бы затормозить сошествие в ад.
Нойманн спросил меня, может ли он занять комнату Бернштейна. Я не возражал. Он достал старую одежду Бернштейна и стал ее носить, как бы в шутку. Это меня умилило. Потом он стал уходить вечерами в незнакомые мне места. Как он ни скрывался, иногда я слышал шепотки и понимал, что вернулся он не один, но к утру его спутники – или спутницы – неизменно исчезали.
Я уехал на несколько дней навестить тетю Ангелу, сестру и племянницу. Вернувшись раньше, чем предполагал, я вошел в мастерскую, даже не подумав постучать (я привез ему домашнее варенье), и застал Нойманна в чем мать родила, ласкающего мужчину, тоже голого. Их поза не оставляла сомнений…