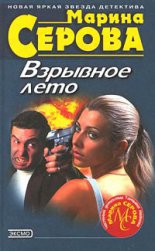Украинская каб(б)ала Крым Анатолий
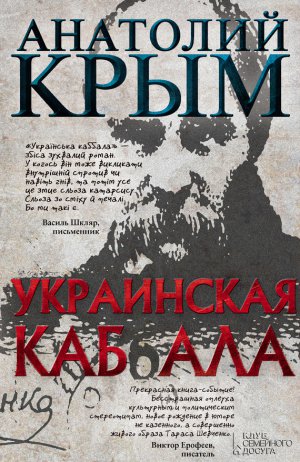
Обрадовавшись, я воскликнул:
– О! Почти Косарев! Мой ротный носил такую фамилию! Солдат не обижал, но, знаете ли, типичный царский служака! Скажут командиры: «Отца родного продай», он и продаст!
– А вы, выходит, честный! – усмехнулся хлебопашец. – Он служака, а вы демократы! Прикинемся поэтами, прикроемся чужой славой, и давай дурить народ!
Прикурив, он прищурился на солнце, затем перевел беспокойный взгляд на свою ниву. Я был обескуражен его недоверием и поэтому категорически возразил:
– А почему вы, сударь, не верите, что я и есть тот самый Шевченко?
– Да мне-то что! – Смачный плевок полетел на землю. – Шевченко так Шевченко! По телевизору вроде говорили, так в том телевизоре брехни, как гноя в коровнике!
К нам подошли мои спутники. Кивнув на поле, Семка спросил:
– Сто гектаров или больше?
– А ты с проверкой, чтоб допросы устраивать?
– Да я так спросил! – опешил Семка. – Секрет, что ли?
– Ну, не секрет! – поколебался мужчина, затем ответил: – Сто сорок!
– Фермер? – улыбнулась Любаша, затем протянула руку, представляясь: – Люба!
Мужчина вытер ручищи о замасленные штаны и несмело пожал девичью ладонь:
– Антон! – И зачем-то поправился: – Антон Петрович!
Я поспешил ему на выручку и, благосклонно оглядев его ниву, воскликнул:
– Вот где правда жизни! Земля! В моих Моринцах, если у мужика лоскуток землицы был, почитал себя счастливейшим из смертных! Про крепостное право читали?
– Это когда крепостной на барина три дня в неделю пахал? – вновь усмехнулся мужчина.
– Ну, когда три, когда и все четыре! – настала очередь смутиться мне, потому как не мог в точности вспомнить, как обстояло дело в моем малолетстве.
– А я на барина вкалываю восемь дней в неделю!
– Это как? – встрепенулся я. – И какой такой барин в твоем Мирном?
Он продолжал молча курить.
– Погоди! – не на шутку осерчал я. – Ты что-то путаешь, любезный! Как можно работать на кого-то восемь дней, когда Бог определил неделе иметь семь!
– Где-то, может, неделя имеет и семь дней, а в Украине восемь! – упрямо стоял на своем фермер. – Два дня работаю на налоговую, третий на местного спиногрыза. Четвертый день вкалываю на банк, который мне одолжил деньги, пятый съедают проверяющие, которых развелось, как колорадских жуков на картофельной грядке. Шестой день поглощают штрафы и поборы, седьмой горбачусь на бандитов, а восьмой – на орудия труда, солярку и запчасти!
– Да какая радость от такой работы? – удивился я, понимая, что в его веселом сарказме скрыта неведомая мне правда.
– Огромная радость! – со злобной усмешкой ответил Антон. – Все же при деле! Баклуши не бью!
– Да на что же ты живешь? Кто кусок хлеба несет в твой дом?
– Что украду – то мое!
– Крадешь? У себя?! – Я полагал, дурачит меня сей хитрец, но он смотрел мне прямо в глаза.
– Это точно. Ворую у себя!
Я растерялся, не зная, что и сказать, но тут встрял Семка со своими ехидными вопросами.
– А скажите, Антон Петрович, – спросил он, – у вас в доме портрет Тараса Григорьевича имеется?
– Висел в светлице.
– А зачем?
– Как зачем? – растерялся мужчина. – Так заведено!.. У родителей они тоже висели! Традиция, одним словом…
– Погоди, Семка! – остановил я своего приятеля и сердито повернулся к фермеру, который разглядывал нас, словно абориген непрошеных корсаров. – Скажи мне, Антон Петрович, в чем заключается сия традиция? Каков ее смысл?
– Не знаю. Надо же во что-то верить! – как бы спрашивая, произнес он.
– А вот пойдем сейчас в твое село, соберем людей колокольным набатом, а я крикну: «Люди! Доколе будете терпеть бусурманское иго?! Хватай топоры, вилы и айда крушить врагов!» Пойдешь со мной?
Мужчина скользнул пытливым взглядом по физиономиям притихшей компании, покачал головой:
– Не получится! Участковый позвонит в район, приедет милиция и намнет бока! А потом срок дадут за подстрекательство!
– И вы не защитите своего Кобзаря?!
– Чего ж!.. – Мужчина почесал макушку. – Мы, конечно, петицию напишем, чтоб тебя не очень в тюрьме мордовали. Депутатам жалобу накатаем. В столице разберутся! Наше дело маленькое! Нам дождик нужен!
– Да ты раб! – взбесился я, потрясая перед его носом кулаками. – Раб! Смерд! Немедленно мой портрет со стены сними!
Его скулы заиграли буграми, лицо налилось кровью, и он вдруг выкрикнул:
– А зачем клеветал на Косарева? Муштрой он тебя изводил? Он из тебя человека хотел слепить, а ты, горький пьяница и смутьян, от строевой отлынивал!
– Что?! – от изумления мои зенки поползли на лоб.
– А то! – огрызнулся мужик. – Ответишь за клевету! И за убийства ответишь! За все ответишь!
Не сознавая, что делаю, я схватил с земли каменюку, намереваясь расквасить поганый рот хулителя, но Семка схватил меня за плечи, и тут раздался гудящий звук с неба. Задрав голову, я увидел гигантскую стрекозу, которая зависла над нами, качнулась и стала медленно опускаться на поле неподалеку от железного фермерского коня.
105
Дорогой Сема!
Не удивляйся, но это письмо ты получишь авиа! Мой приятель обещал доставить его самолетом, а если тебя не застанут в Киеве, они наймут вертолет и найдут тебя из-под земли. Вот это люди! Я когда думаю про Люксембург, так прямо сердце радуется и хочется танцевать!
Я установила с послом очень крепкую связь. Он дал мне номер своего секретного телефона, и мы каждый день несколько часов разговариваем о тебе. Сперва я боялась, что не пойму их язык, но люксембургский очень похож на немецкий, а это почти что идиш, так что мы уже приспособились и болтаем, как две подружки. Он в восторге от твоих талантов и все время удивляется, как тебе удается возвращать людей с того света. Он уверен, что материнские гены сыграли в этом решающую роль. Сейчас мы с ним составляем список людей, которых ты должен будешь оживить. Это очень достойные люди. Например, Бетховен, Моцарт, Голда Меир и еще человек десять-двенадцать. Так что наберись сил и приезжай.
С Нобелевской премией дело на мази. Комитет там ни при чем, все решают несколько влиятельных дам, которые подбирают кандидатуры на свой вкус и решительно их проталкивают. Я уже имею их адреса и завтра начну писать письма. Женщина женщину всегда поймет, тем более если она мама.
Как ты понимаешь, посол сейчас у нас в гостях и ждет, пока я пишу тебе письмо. Новостей особенных нет, если не считать, что адвокат Гринберг рвется в бой на нашей стороне.
Твоя любящая мама
P. S. Ой, таки забыла о самом главном. Я поняла, что ты уехал из Киева окончательно, и не сомневаюсь, что ты забрал с собой и кастрюльку, и бабушкины ложечки, и папины запонки, поэтому даже не напоминаю об этом!
106
Дорогая мама!
Как только я вернусь в Израиль, приложу все силы, чтобы тебя выдвинули на должность Генерального секретаря ООН. Только ты умеешь заставить плясать вокруг собственной персоны весь дипломатический корпус мира. Прекрати напрягать посторонних людей! Я уже еду!!!
Твой сын, Сема Л.
107
22 мая 2014 г.
С болью в сердце читал я таблички с указаниями сел, и каждое их название – Ерковцы, Мазенки, Дивички, Гречаники – отзывалось в моей груди глухими толчками. На мои настойчивые просьбы завернуть в одно из них, попить холодной воды из криницы, погутарить с тамошними обитателями Семка не обращал внимания и назойливо подгонял Назара.
Не выдержав, я схватил его за плечи и стал трясти, как грушу.
– Что ж ты, бусурман, делаешь? – кричал я. – Куда летишь? На ярмарку?!
Но Семка велел сидеть тихо, потому что за нами идет погоня и к вечеру нам непременно надо прибыть в Канев, дабы затеряться среди мещан, туристов и просто зевак.
Захотелось дать затрещину этому паразиту, но тут Люба взяла меня за руку, и я притих, склонив голову на ее удивительно мягкое и нежное плечико. Кто, как не женщина, поймет чувствительную душу поэта?! Отчего я был лишен семейного очага, в котором добрая земная муза утешала бы, любила, врачевала душевные раны?! Господи, за какую провину ты лишил меня этого счастья?!
– Вам плохо, Тарас Григорьевич? – прошептала мне на ухо спутница.
Я кивнул головой и едва сдержал предательскую слезу.
– Я вас понимаю, – опять прошептала Любаша. – А все оттого, что детей в школе заставляли учить ваши стихи! Мне на тестировании попались ваши «Гайдамаки», а я не знала, что писать. Университет мой накрылся медным тазиком, и пошла Любаша на Окружную добывать знания!.. – Она тихонечко рассмеялась и вновь стала смотреть в окно.
Трудно представить мое состояние! Выходит, что я погубил невинную душу, швырнул ее на панель? О, мерзкие потомки дьяка Рубана! Что ж вы сделали с просвещением?!
Отвернувшись, я с тоской стал глядеть в другое окошко, но и моей соседке стала невмоготу эта гонка в дурно пахнущем автомобиле. Люба веселым голоском сообщила Семке, что ей надо попудрить носик. Назар что-то пробурчал насчет нетерпеливых и вскоре остановился, съехав на обочину.
Я с удивлением наблюдал, как моя пышная одалиска выпорхнула из машины и скрылась в густом кустарнике, за которым простиралась зеленеющая нива и прочие прелести сельского пейзажа. Я никак не мог уразуметь, почему пудрить лицо непременно следует в кустах, где и находиться невозможно, где ветки царапают лицо, руки, но затем до меня дошел скрытый смысл брошенной ею фразы. Конечно же, все дело в женской изобретательности, так как путешествие по Украине даже спустя сто пятьдесят лет имеет свои неудобства для женского пола, а постоялые дворы редки и ненадежны.
Пока мы ждали нашу фею, я хотел спросить Семку, зачем прилетала железная стрекоза, из которой, словно личинка, выскочил человек, передавший моему другу какое-то послание, и что за ответное послание Семка торопливо писал на листке, вырванном из блокнота, но сей дурень, развернув карту, изучал ее, точно полководец перед началом решающей битвы. Тоже мне, еврейский Суворов! Обидевшись, я поклялся не разговаривать с ним до ужина и в пику ему стал изучать пейзаж на фоне изумрудного цвета нивы. Наконец Любаша смущенно выпорхнула из кустов и уселась подле меня, сообщив, что мы можем ехать дальше. Носик ее подозрительно блестел, обозначая отсутствие пудры, и здесь я также чувствовал себя одураченным.
Проехали мы совсем немного, и не по широкому тракту, а по грунтовой дороге, оставляя сзади невообразимую тучу пыли. Вскоре показалось село Хоцьки. Я повеселел, предполагая, что здесь нас ждет обед в каком-нибудь трактире, но машина подъехала к магазинчику с вывеской «Сельпо». Семка, как сомнабула, устремился к покосившейся двери некогда голубого цвета. По совету водителя мы вышли «размять ноги», а я, одолеваемый любопытством, пошел вслед за приятелем поглядеть, что это за заведение.
«Сельпо» оказалось сельской лавкой, где продавали решительно все: посуду, мыло, водку, зеленоватую колбасу и еще сотню полезных и бесполезных вещей. Семка жадным взором шарил по полкам. Решив, что он выбирает горячительное для грядущего обеда, я молча указал ему на славную козацкую горилку, которую мы употребляли в его киевской квартире, однако он помотал головой, продолжая разглядывать полки с посудой, а затем спросил толстую раскрашенную бабу, нет ли у нее случайно кастрюльки голубого цвета с желтыми цветочками. Баба полезла под прилавок, долго там сопела, кряхтела, затем на карачках выползла на свет Божий и поставила на прилавок требуемый предмет.
Мне порой случалось наблюдать радость человека, обнаружившего давнюю пропажу, да я и сам не раз испытывал это благодарное чувство, нечаянно встретив одного из старых щедрых приятелей, но радость моего друга была восторгом первобытного дикаря, впервые увидевшего пламя свечи. Выпучив глаза, Семен завороженно смотрел на кастрюльку, затем прикоснулся к ней дрожащими пальцами, а потом вдруг пустился в пляс, исторгнув дикий вопль:
– Она! Она самая!
Вероятно, с такой страстью их Моисей плясал перед скрижалями в момент получения оных от Создателя.
Толстуха хлопала рыжими ресницами, полагая, что покупатель сошел с ума, затем на вопрос Семки ответила, что кастрюлька эта валяется под прилавком «еще с тех времен», что продать сей товар она уже не надеялась, а выбросить было жалко, поэтому приспособилась подливать в ту кастрюльку молоко для толстого рыжего кота в масть хозяйке, который грелся подле окошка, презрительно разглядывая посторонних. Если бы не широкий прилавок, мой еврей точно расцеловал бы толстуху. Он одаривал ее комплиментами, повторяя «милая», «дорогая», «бесценная», прижимал руку к сердцу и беспрестанно кланялся. Расплатившись, он потребовал газету, завернул в нее свою покупку и, прижав к груди, восхищенно бормотал:
– Вот это да! Знамение небес!
Он было ринулся к двери, но я решительно взял его за руку и молча указал на стройный ряд бутылок с оковитой. Семка покорно купил бутылку водки, кольцо подозрительной колбасы и кирпич хлеба, издавший твердый звук, словно был сделан из засохшей глины.
– Конечно! – котом жмурился Семка, усаживаясь в машину. – Кастрюльку надо обмыть! Традиции нарушать не будем.
Я хотел спросить, чего он радуется какой-то кастрюльке, но он опередил мой вопрос:
– Теперь я спасен, Тарас! Спасен!..
Удивительно, как ничтожно мало надо человеку для счастья. Дурак мечтает о славе, больной печется о здоровье, все скопом жаждут богатства, а тут – кастрюлька! Радуйся, человече, и не проси невозможного!
Выехав за село, мы остановились на опушке редкого лесочка, где прямо на морде машины и устроили обмывание приобретенного сокровища, причем Семка не выпускал из рук свою кастрюльку, крепко прижимая ее к сердцу.
108
Напоминаю, что во Всеукраинском фестивале «В семье вольной, новой», посвященной 200-летию Т. Г. Шевченко, принимает участие руководящий состав Спилки украинских литераторов, а также большое количество артистов, деятелей культуры и победители танцевальных конкурсов.
Предлагаю провести среди личного состава творческой интеллигенции разъяснительную работу, мобилизовав на выполнение ответственного задания по поимке Кобзаря. Учитывая присутствие в Каневе представителей дипломатического корпуса и оппозиционных средств массовой информации, требую соблюдать спокойствие, придав фестивалю непринужденный характер творческой встречи читателей с выдающимся поэтом прошлого.
Глава гуманитарного управленияадминистрации президентаА. Л. Цырлих
109
Памятники моей персоне изрядно осточертели мне еще в столице, и я категорически игнорировал бы их невообразимое количество во время путешествия в Канев, если бы при вьезде в каждое село, а то и просто в чистом поле Люба не хватала меня за руку и восторженно не вскрикивала:
– А вот ты совсем молодой, Тарас Григорьевич!.. А вот еще! И вон!.. Ух, какой набундюченный!.. А кто возле тебя сидит с гитарой? Высоцкий?
– Нет, то слепой кобзарь, а не Высоцкий! – пояснил нашей даме Назар, но она, не слушая, радостно тараторила свое:
– Ой, какой симпатюля! Совсем молоденький!..
Всякий раз я делал попытку отвернуться от каменных идолов, коими первобытные люди откупались от своих богов, но сделать это было чрезвычайно сложно – памятников было много, словно каневская артель камнетесов поклялась отмечать каждую версту воплощением бедного Тараса.
Впрочем, после обеда на природе мое настроение улучшилось. Смешил Семка, прижимавший свою кастрюльку к груди, а помимо этого я с тайным наслаждением размышлял о грядущем ночлеге в Каневе. Почему-то я был уверен, что на постоялом дворе нам достанутся разные помещения. Мысленно я разводил на ночлег себя и своих спутников, и по моим соображениям выходило, что ночевать мне в одной комнате с Любой, тогда как во второй непременно поселятся Семка с Назаром. Семка ни за что не останется ночью в одной комнате с посторонней женщиной, он хранит верность жене, которая страдает от одиночества в Израиле, ну а актеру я и сам не позволю стеснять нашу милую даму, зная необузданный нрав служителей Мельпомены, для которых женщина – не более чем ночной реквизит.
Вот такие мысли одолевали меня до самого въезда в конечный адрес нашего путешествия, но произошел внезапный конфуз. Семка, едва мы проехали плотину, заявил, что в Канев против ночи въезжать не следует. Плохая примета, да и наверняка город забит приезжими, от которых трещат гостиницы и постоялые дворы. Остановив машину у мрачного серого здания, он куда-то убежал, а через полчаса вернулся, велев следовать за ним.
Он привел нас в темную залу с десятком кроватей, пояснив, что это общежитие рабочих, которые добывают электричество из реки. По случаю шевченковских дней рабочих отпустили на три дня по селам, где их ждали истосковавшиеся огороды и огромные бутыли первака. Зала по такой оказии станет нашим приютом на предстоящую ночь.
Сие известие расстроило меня, тем более что и ужинать Семка предложил на скорую руку по причине отсутствия не только водки, но даже чая.
Рассердившись, я сообщил, что спать не буду, а займусь сочинительством. Мои спутники разбрелись занимать кровати. Я постарался, чтобы Семка и Назар легли в достаточном отдалении, а Любашу пристроил неподалеку, тем более что она заявила о своем желании наблюдать за творческим процессом, ибо никогда не видела литератора за работой. Я решил написать лирическое стихотворение, которое прочту ей при свечах (электричества в доме не было), затем, зная по опыту, как действует поэзия на женщин, да еще читанная ночью самим автором, продвинусь в своих намерениях как можно дальше. Однако пока я решал, что читать – «Катерину» либо вдохновиться на легкий экспромт, – мою почитательницу сморил сон, и я, записавши в дневник свои впечатления, принялся рисовать свою красавицу, тем более что еще с молодости полюбил наблюдать спящие натуры. Если вы не любовались спящей женщиной, господа, ваша жизнь бездарна и напрасна. Стреляйтесь!
110
В ваше расположение в срочном порядке направлены мл. лейтенант Соломко А. Л. и прапорщик Курочкин С. Ю. Данные сотрудники на протяжении длительного времени опекали интересующие нас объекты, знают их привычки и наклонности, а также особые приметы. До прибытия группы захвата вам надлежит выполнять все их указания.
Начальник 5-го управленияСлужбы безопасностигенерал-майор Конопля Г. Б.
111
Срочно Совершенно секретно
21 мая 2014 г.
Приступив к выполнению поставленной задачи, я провел инструктаж внештатных агентов, каковых оказалось более чем достаточно для выполнения поставленной задачи.
Оперативным путем установлено, что Пуриц и Гайдамак переночевали в рабочем общежитии Каневской ГЭС, а утром в 9.50 прибыли в Канев, где не мешкая направились в музей Т. Г. Шевченко.
Затерявшись среди посетителей, объекты совершили экскурсию по залам музея, причем экскурсовод, в роли которого выступала нештатный сотрудник Каневского отделения милиции, сообщила, что Пуриц все время иронично усмехался, а Гайдамак возле каждого стенда с экспонатами вполголоса матерился. Наш «экскурсовод» решилась сделать ему замечание, присовокупив, что в святых местах плеваться запрещено, на что Гайдамак, оглядевшись по сторонам, послал ее к родной маме. Затем он прервал экскурсию, выбежал на улицу, откуда в сопровождении Пурица, Пламенной Л. Б. и Стодоли Н. И. направился к объекту, известному как «Тарасова хата». Осмотрев помещение, он повеселел, затем, без разрешения переступив веревочку, вошел в святая святых и улегся на кровать, приговаривая: «Ах, как славно! Как хорошо»! Пуриц выражал неудовольствие поведением сообщника и постоянно озирался. Затем возник небольшой конфликт между смотрительницей «хаты» и «объектами». Конфликт, к счастью, был локализован. Предполагаю, что это была провокация с целью проверки нашей бдительности.
Многочисленные посетители не обращали на «объекты» внимания по той причине, что участники Всеукраинского фестиваля из числа писателей были загримированы под Шевченко, не говоря уже о бандуристах и актерах, которые на площадке у памятника разыграли современный водевиль под названием «Поэт и царь».
Следует отметить, что одной посетительнице стало дурно и она на карете «скорой помощи» была доставлена в больницу.
Предлагаю провести задержание «объектов» вечером, в районе между 23и 24 часами, когда объявленный банкет, пройдя стадию апофеоза, перейдет в бессознательное состояние.
Мл. л-т Соломко А. А.
112
Сегодня, 22 мая, в 12.30 по местному времени в «Тарасову хату» явились четверо людей, среди которых один был ужасно похож на Т. Г. Шевченко, что впоследствии подтвердилось как факт. Его сопровождали двое мужчин и одна женщина, которая вела себя фамильярно. После того как я рассказала историю создания «Тарасовой хаты», поэт расплакался и стал благодарить небеса за «ниспослание в сей мир» (он так и выразился) Ивана Алексеевича Ядловского, бывшего не только творителем «Тарасовой хаты», но и охранителем памяти Кобзаря.
Затем Т. Г. Шевченко без разрешения переступил через веревочку, отделявшую экспонаты от посетителей, и разлегся на лежанке, подпрыгивая на ней и веселясь. Я потребовала, чтобы он прекратил святотатство, но он рассмеялся, а затем заставил меня присесть рядом и стал уверять, что ему здесь очень нравится и он останется тут жить.
На мое возражение, что в музеях воспрещается не только проживать, но и курить, принимать пищу и громко разговаривать, он ответил, что закроет музей для посещений, так как музеи годятся для памяти мертвых, а он, видите ли, живой и это теперь его приватная территория, на которую он будет пускать только своих приятелей и знакомых. В это время в «Тарасову хату» вошла группа туристов из Молдавии, и мне пришлось переключить свое внимание на них. После того как я рассказала молдаванам о трагической жизни Кобзаря, о его борьбе с царями и бурной революционной деятельности, одна из туристок, указав на возлежащего, спросила, кто это. Я ответила, что это Кобзарь собственной персоной, после чего женщина упала в обморок и ее вынесли на свежий воздух.
Шевченко наконец встал с лежанки, стал трогать руками вещи, невзирая на запретительную табличку, затем, увидев на столе книгу для почетных гостей, сделал в ней следующую запись: «Вступил во владение оным» – и расписался. Причем его почерк, по мнению главного хранителя музейных архивов, совпадает с автографами, которые представлены в главной экспозиции музея.
После моих настоятельных просьб не хулиганить и немедленно покинуть помещение Т. Г. Шевченко спросил у сопровождавшего его лица еврейской национальности, есть ли у них посуда для горилки. Услышав, что таковой не имеется, он самовольно изъял из экспозиции четыре кружки (первая половина XIX столетия, инвентарные номера 346, 347, 348 и 349), а затем направился к выходу, велев мне закрыть хату и никого больше сюда не впускать. Также он велел растопить дровами печь, объяснив, что очень мерзнет и любит тепло.
Прошу Вашего указания, как мне следует поступить в случае его прихода на ночлег, а также создать комиссию для списания 4 (четырех) чашек из музейной коллекции.
Зав. «Тарасовой хатой»Пронько В. Т.
113
23 мая 2014 года
Меня решительно преследует злой Рок. Очень ясно это проявилось именно сегодня, и нет этому никаких обьяснений, кроме мистических, к коим следует отнести мой приезд на свою бывшую могилу.
Быть может, это моя последняя запись в дневнике, быть может, через час побегу куда глаза глядят – сие ведомо одному Богу, хотя я не понимаю: почему и от кого я должен бежать?! Чем не угодил людям и своей отчизне? Впрочем, я совершенно доверяю своему приятелю Семке, который уверен, что власть задалась целью извести меня, вернув в обиход привычное поклонение моему имени, поклонение равнодушное, безопасное, и в какой-то мере аллегорическое. Мертвый поэт редко бывает неудобен для власти, а если и находил дотошный исследователь бунтарские страницы, их ничего не стоило сжечь, а пепел развеять на ветру. Однако история упрямо твердит, что более всего в посмертных убийствах поэта виновата публика, которая, как сырое дерево, не способна возгораться от его пророческого гнева.
В бараке, который Семка называл общежитием электриков, я спал весьма дурно, успев, впрочем, сделать набросок спящей Любы. Наутро я хотел уничтожить рисунок, найдя его слабым, ученическим, однако наша нимфа восторженно захлопала в ладоши и умоляла подарить его ей, да непременно с автографом. Пришлось сделать это одолжение, хоть и досадовал, что со временем набросок может попасть в мои печатные альбомы, коих власть издала великое множество, и вызвать недоумение у потомков: кто? где? когда? Впрочем, времени для размышлений не оставалось. Семен поднял всех ни свет, ни заря, торопливо хлопал в ладоши, как классная дама, загонявшая барышень на урок.
Вскоре мы въехали в сонный Канев и, остановившись у каких-то стеклянных ларьков, выпили бурду, именуемую здесь растворимым кофе. Впрочем, я не привередничал, с удивлением обнаружив, что даже в этих лавчонках, среди множества разноцветных баночек, печенья и колбас красуется моя парсуна в обрамлении бумажных цветов, коим место на кладбищах, а не в публичных местах. Насчет «сонности» Канева я также ошибся, потому что со стороны Киева, рыча, визжа и громыхая, подкатывало множество автобусов, набитых людьми, музыка играла военные марши, словно напоминая людям о моей солдатчине, а может, и по другой причине.
Не мешкая, мы сели в машину и поехали на Чернечью гору. Вскоре возник шлагбаум, где Назар долго искал место для стоянки, настолько земля была занята разнообразным самоходным транспортом.
Признаться, я почувствовал волнение. Замыслив в этих местах свой «Заповит», где я попросил схоронить меня именно здесь, над Днепром (потомки, к их чести, выполнили мою просьбу), я всем сердцем прикипел к этой местности, считая ее праобразом Рая. Я не сразу узнал любимую мною гору и буйный лес, припрятавший кручи.
На срытой площадке громоздилось огромное здание, похожее на помещичью усадьбу, хотя Семка объяснил, что это и есть главный музей моего имени, да не просто музей, а национальный заповедник. Он хотел сперва пройти к памятнику, но, устав от своих изваяний, я отказался и поспешил в дом. Признаться, я редко бывал в музеях Санкт-Петербурга, чаще посещая мастерские художников и художественные галереи. В мемориальные музеи литераторов я не ходил, опасаясь призраков, кои обязательно селятся в таких местах. Не без трепета я полагал, что музеи заселены духом поэта, атмосферой его творческой лаборатории, наконец, сборищем милых вещиц, каждая из которых хранит тепло рук своего хозяина, не говоря уже о рукописях, кои должны вызывать у публики священный трепет. Что же я увидел в музее своего имени? А увидел я большие залы, великое множество бумаг, запаянных в стекло, где, словно мушки в янтаре, плавали репродукции моих картин, множество фотографий мест, в коих мне доводилось бывать в моем прошлом воплощении. Кое-где висели картины неизвестных мне художников весьма сомнительных достоинств. Подоспевшая дама с лицом надзирательницы из богадельни подошла к нам и предложила провести экскурсию. Я не успел отказаться – какая, в самом деле, экскурсия и что здесь пояснять?! – как Семка стал благодарить ее и, сжимая мой локоть, гасил возмущение. Впрочем, терпение таяло во время ее сахарно-приторного рассказа о моей судьбе. Как искусный гример трудится над изуродованным телом покойника, стараясь придать лицу благообразный вид, так и эта дама упражнялась в славословиях моих несуществующих достоинств. Конечно же, она поведала о моей революционной деятельности и Кирилло-Мефодиевском братстве, на что я вполголоса попросил ее не брехать, ибо то были обычные ошибки молодости, дерзание познать запретный плод, неумелое фрондерство и уж никак не «глубокая революционность». Также она забрехалась с историей моего выкупа из крепостничества, забыв упомянуть, что выкупили меня на денежки царской семьи, а любезного Карла Брюллова надо было подгонять, как упрямого осла, дабы он прекратил пьянствовать и наконец закончил портрет Жуковского. И самое неприятное, что вся моя жизнь была описана ею в мрачных тонах, словно обитал я не в расчудесном Санкт-Петербурге, где обрел множество верных и искренних друзей, где не только страдал, но и влюблялся, озорничал, веселился, а, судя по ее рассказу, только тем и занимался, что мыкался в подвалах и казематах, замышляя цареубийство.
Любаня поинтересовалась у сей дамы, где находятся мои вещи. Оживившись, дама сообщила, что вещи остались в моей комнатке при Академии художеств в Санкт-Петербурге, а злобные москали ни за какие коврижки не хотят их отдавать, требуя взамен какую-то газовую трубу. Я вспомнил, что среди тех вещей были две пары приличных запонок, и пожалел, что их не привезли вместе с гробом в Канев, не то отдал бы Семке, который заложил отцовские в киевском ломбарде.
Музей мне решительно не понравился, а когда среди прочих посетителей заметил делегацию литераторов во главе с Мамуевым и Вруневским, то осатанел и, матюкнувшись, устремился вон.
Надо отметить, что Семка не особо сопротивлялся, а оглядевшись, и сам помрачнел. Полагаю, ему также неприятно было лицезреть литераторов, которые учинили над ним позор в своем гнезде, но впоследствии он сказал, что причина более серьезная, нежели напряженно-радостные лица моих коллег.
– Обложили! – коротко пояснил он мне и повторил: – Обложили, как волков!
Вслед за расторопным евреем мы взобрались на холм, где стояла симпатичная изба, крытая соломой, а над ней плясали буквы «Тарасова хата». Я обомлел, решив, что потомки перетащили родительскую хату из Моринцев, но, войдя внутрь, увидел, что строение лишь отдаленно похоже на жилище моего детства, поставлено не так давно, да и размерами поменьше, всего в два окна. Женщина, охранявшая сей приют, сообщила, что хату поставил мой почитатель Ядловский, более полувека охранявший мою могилу и любивший все, что связано с моим именем, точно я приходился ему родным дядькой. Я даже прослезился, поклявшись запомнить имя этого бескорыстного человека, а затем стал осматривать убранство дома.
Даже после киевской конуры здесь было тесно, словно в собачьей будке. Не более двух человек могли свободно разойтись в узких сенях, но стол, лавки, милые простые вещицы, лежавшие там и сям, радовали душу. Повеселев, я решил испробовать постель, предполагая, что мог бы окончательно поселиться здесь, ведь именно на этой горе мечтал поставить дом, который мы с моим братом Григорием спланировали незадолго до моей окончательной высылки из Украйны по указу князя Васильчикова, на которого, впрочем, не держу зла. Смотрительница пыталась стащить меня с лавки, но я ласково ее поблагодарил и вышел прочь, прихватив четыре чашки, так как никакой иной посуды ни Семка, ни Назар из Киева не прихватили, а пить из бутылки академику живописи неудобно и позорно.
Затем Семка повел меня к памятнику, где сообщил, что сей величественный монумент в мою честь соорудили евреи. Я попытался возразить, указывая на надписи, что сей памятник поставлен Тарасу Шевченко от благодарного украинского народа, на что мой друг раскрыл альбом, в котором было пропечатано, что скульптором громадного монумента является некий Матвей (он же Мотя) Манизер, а архитектором был, соответственно, Евгений Левензон.
– Кстати, – заметил Семка, – тот, что возле университета, также ваяли наши ребята! А у тебя кругом одни жиды виноваты! Кайся, негодник!
Мой друг ожидал от меня признаков благодарности к своим соплеменникам, и, хотя я действительно был смущен тем, что представители народа, который я неоднократно оскорблял в своих стихах, спрятав свои обиды, создали нечто помпезное и величественное, я все же нашел себе оправдание в композиции скульптуры, которая была дурно придумана.
– Оно и видно, что ваши ребята! – с сарказмом ответил я. – Небось моим побоялись доверить такую работу!
– А чем тебе не нравится памятник? – атаковал Семка.
– А тем, – сказал я, все более раздражаясь, – что украинцы никогда бы не изобразили меня с поникшей головой, будто загулявший муж явился с еврейской корчмы под утро к законной супруге! Мои подняли бы голову Тараса вверх, сделали мой взгляд гордым, призывающим к борьбе! В чем-чем, а я в скульптуре понимаю!
– Значит, гордым хочешь быть? – усмехнулся Семка и закончил фразочку своим гнусным понуканьем: – Ну-ну!..
Мы едва не рассорились, но помешало присутствие нашей милой дамы и Назара, который озабоченно смотрел на часы и виновато бормотал, что ему надобно возвращаться в Киев, так как вечером обязан быть в театре, где дают трагедию, состряпанную по моей биографии.
Семка предложил перекусить, но не в шинке или каком-то ресторане, а в лесу. Знал мерзавец, что пикники мне по душе! Но какая мысль гложет его, заставляет озираться, я не мог определить.
Впрочем, сносная закуска была приготовлена, а подстилкой служила местная газета, целиком посвященная моему юбилею. В ней было пропечатано полдюжины моих портретов, и Любаня забавлялась тем, что на каждое обличье ставила по чашке, которые я по праву новообретенного хозяина прихватил в «Тарасовой хате». Мы выпили за мое здоровье, за здоровье Назара, пригубили в честь нашей дамы, и тут водка закончилась.
– Какой сегодня день? – спросил я у Семки, надеясь восстановить утраченный порядок календаря.
– Двадцать второе мая. День перезахоронения твоего бывшего тела!
Я помрачнел, но не от его дурацкого сарказма, а от бравурной музыки, долетавшей в лес из музейных окрестностей. К новоявленному язычеству своих земляков я еще не привык и потому, уклонившись от расспросов, пошел в лес с поникшей головой, совсем как на памятниках, разбросанных, как уверяет Семка, по всем странам и народам.
114
Срочно Совершенно секретно
После посещения «Тарасовой хаты» и осмотра памятника «объекты» удалились в лес для тайного принятия пищи, причем Гайдамак был чрезвычайно недоволен и открыто высказывал свое возмущение Пурицу и остальным членам преступной группы. Содержание беседы установить не удалось, так как необходимую аппаратуру технический отдел по ошибке направил в Корсунь-Шевченково.
Объекты находятся под визуальным наблюдением. Возможен их побег через лес с выходом на автомагистраль. Прошу дальнейших указаний.
Мл. л-т Соломко А. А.
115
При малейшей попытке «объектов» удрать через лес приказываю принять все необходимые меры для их задержания. К выполнению задачи разрешаю привлечь участников Всеукраинского фестиваля «В семье вольной, новой» из числа литераторов и творческой интеллигенции, поставив им задачу прочесать лес и близлежащие населенные пункты. Оружие применять в крайнем случае после предупреждения. Гайдамака задержать и доставить в Каневское отделение для вручения повестки в суд и дальнейшего препровождения в Киев. Пурица этапировать в аэропорт «Борисполь» для дальнейшей депортации в Израиль. С гражданами Пламенной Л. Б. и Стодолей Н. И. провести разъяснительную работу и, допросив, посадить под домашний арест.
Генерал-майор Конопля Г. Б.
116
Секретно. Лично
После пикника, устроенного в лесу возле Национального музея-заповедника имени Т. Г. Шевченко, подозреваемые на автомобиле вернулись в Канев, где поселились в гостинице «Княжа гора». Нами разработан план по нейтрализации всей группы. Задержание было назначено на 23.00, так как в самой гостинице остановилась руководство Спилки литераторов для организации поминальной тризны в память о Кобзаре.
В этой же гостинице поселились работники оперативной группы в составе мл. лейтенанта Соломко А. А. и прапорщика Курочкина С. Ю., которые заверили меня, что заключительную фазу операции они берут на себя, предложив разогнать всех литераторов по номерам, а страждущих жаждой и бессонницей собрать в баре, где за счет спонсоров довести до нужной кондиции. Подчинившись указанию товарищей из Центра, я сосредоточил все свое внимание на литераторах.
Между тем мл. лейтенант Соломко А. А. и прапорщик Курочкин С. Ю. путем различных ухищрений завлекли в свой номер гр-ку Пламенную Л. Б., сообщив, что она является их нештатным агентом и поможет провести заключительную фазу операции. Заподозрив неладное, я поручил капитану Швайко Г. Н. проследить за номером, в котором поселились киевские коллеги, и не ошибся в своих предположениях. Капитан Швайко Г. Н. под видом сантехника приступил к наблюдению, а в 1.15 доложил, что из номера мл. лейтенанта Соломко А. А. доносятся голоса, а точнее пение. Пели, как он установил, два мужских голоса и один женский. Исполнялись песни «Реве та стогне» (пять раз), «Ой, чей то конь стоит» (три раза), «Закувала сыва зозуля» (5 раз). Также был исполнен государственный гимн (один раз), а затем в номере все стихло, если не считать характерных звуков, которые издают командировочные, прибывающие по служебным делам в сопровождении работников бухгалтерии.
Встревоженный таким поворотом событий капитан Швайко Г. Н. немедленно доложил мне о них по мобильной связи, и я принял решение выдвинуться на место происшествия.
В 2.45 путем осмотра номеров, в которых должны были находиться Пуриц и Гайдамак, я пришел к выводу, что преступники покинули гостиницу через окно туалета на втором этаже.
Мною немедленно были приняты экстренные меры. Подняв по тревоге участников Всеукраинского фестиваля «В семье вольной, новой» и построив их на площади, я провел краткий инструктаж, после чего отряд в количестве трехсот двадцати литераторов и представителей творческой интеллигенции совершил марш-бросок на окраину Канева и, рассыпавшись цепью, вошел в лес, где и сгинул по неизвестным причинам. На поиски был отправлен личный состав Каневского управления внутренних дел и отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поиски закончились безрезультатно.
К сожалению, нам также не удалось найти Пурица, Гайдамака и третье лицо, состоящее при них в качестве водителя. Есть основания предполагать, что они:
а ) переплыли Днепр на подручном плавсредстве,
б ) лесами ушли в Холодный Яр,
г) затерялись среди местного населения,
е) направились к государственной границе с целью нелегального проникновения в Европу.
Прошу ваших дальнейших указаний.
Начальник Каневскогомежрайонного отделенияслужбы безопасностиподполковник Брынзак О. О.
117
24 мая 2014 г.
Наверное, пришла пора завершать свои записи. Впрочем, любое обещание выглядит неосторожным, ибо никто наверняка не знает грядущее, да и не в моем состоянии что-либо загадывать.
Сегодня я простился с Семкой. Назар подвез его на околицу Борисполя, где под старыми липами мы и расстались.
Мое состояние могут передать только слезы, и сейчас застилающие глаза. Привык я к своему еврею, хотя не понял сути его умственных упражнений, кои он именует каббалой. Вид у него был грустный, как у человека, который пытался построить воздушный замок, разрушенный первым же порывом ветра. На что он надеялся, возвращая меня из небытия? Что народ воспрянет духом и начнет рвать кайданы? Что «растанут на солнце вороженьки», как мы любим обманываться в песнях, мечтая о воле как о дармовом угощении? Что восторжествуют правда, добро, сострадание? Отчего мы до последнего часа так упрямо не верим в простую и понятную истину, что терпение Всевышнего тоже имеет свои границы?
Прощание вышло неуклюжим, мы не могли подобрать напоследок нужные слова. Я старался приободрить Семку, обещал, что, как только уляжется катавасия с моим юбилеем, вернусь в Киев, выправлю себе настоящий паспорт и приеду в Израиль, погляжу, что они там еще начудили и замаливают ли грехи, учиненные при Понтии Пилате. Он грустно смеялся, уверяя, что Понтий Пилат живет в каждом человеке. Мы ведь тоже умываем руки, наблюдая, как вышвыривают вдову из ее жилища, равнодушно взираем на неправедный суд и бахвальство подлецов, терпим обман и унижения, и нет нам за это прощения ни на земле, ни на небесах.
Писать о нашем расставании, повторяю, нет никаких сил. Впрочем, следовало спешить, пока родные сатрапы не напали на след. Семка посоветовал избавиться от машины, что мы и сделали в первом же селе. Покупатель долго осматривал «телегу» артиста, кривил рот и постоянно пинал ногой колеса, пытаясь доказать никчемность сего средства передвижения. Наконец он достал деньги и с невыразимой мукой на лице расплатился. Половину денег Назар запихнул мне в карман, сказав, что ему хватит на первое время, к тому же он со товарищи решили создать передвижной театр, для чего уже репетируют веселый французский водевиль. «Макбет» у публики не в чести, ибо она ежедневно наблюдает злодейства более жестокие и изощренные.
Щедрость Назара показалась мне легкомысленной, хотя я и знал, что человек охотно впадает в разные крайности. Без причины может последнюю рубаху с себя снять, а может и прирезать в укромном уголке. На прощанье актер взял с меня слово, что я непременно напишу пьесу, в которой он сыграет, а может, и выступит в качестве режиссера, во что я слабо верю. Да и не приходит в голову, о чем писать для театра. Уж если писать, то нечто яркое, обличающее власть похлеще гоголевского «Ревизора», да разве найдется театральная труппа для постановки смелой пьесы? Чего доброго, актерам переломают кости, а театр закроют. Сподручнее извернуться и написать пьесу о рабстве негров, да ведь зритель нынче вряд ли расположен к аллегориям. И когда еще сяду за письменный стол! Одна забота – затеряться в толпе земляков, не пропасть окончательно, как милая Любаша, прикрывшая своим роскошным телом наше бегство. Возможно, я плохо распознал нынешнюю жизнь, но сдается, что проституция в моем вольном отечестве есть наиболее честное ремесло, лишенное обмана и подлости. Напрасно писатели сокрушаются о падших девицах, полагая, что весь корень зла в продаже тела. Зло в ином, зло в продажности души и сердца.
Очень часто на краю бытия мы сетуем, что не так прожили жизнь, что если бы нам был дан шанс повторить ее с самого начала, то, зная все ямы и ухабы на той дороге, научились бы ловко их обходить. Может, оно и верно, но, прежде чем обличать царей и сетовать на груз прошлого, срежу я в каневском лесу буковую палицу и пойду от хаты к хате, от города к городу вразумлять своих землячков. Семка уверял, что Моисей частенько колошматил посохом свой народ, отчего он невероятно поумнел и не только обрел свое государство, но и поучает других. Прибегну к этой науке и я. Перво-наперво выбью из хохляцких голов желание искать себе покровителей на стороне, чесать затылок и наивно хитрить, полагая остальной мир дураками. Отобью охоту воровать, терпеть обиды, торговать волей и чинить беззаконие. Я буду безжалостен ко всем, потому как раба поднять с колен можно, только выпрямив палкой его изогнутый хребет. А устанет рука, так призову на помощь Гонту, Кармелюка, холодноярских лесных братьев, дабы вместе со мной вразумляли народ наш, а затем, сбивая в кровь ноги, идти к престолу, имя которому Украина!
Путь этот тернист, да иного нет. Пожелаю себе терпения и по примеру славного нашего философа скажу напоследок корпусу жандармов: «А попробуй-ка меня поймать»!
118
Сегодня, 25 мая, в 14.20 при посадке на рейс Киев – Тель-Авив задержан гр-н Либерман, находящийся в негласном розыске. Попытка ареста не увенчалась успехом, так как гр-на Либермана С. Л. сопровождали сотрудники посольства Люксембурга, а сам Либерман предьявил пограничной службе паспорт неизвестного образца. Во избежание международного скандала нам пришлось пропустить провокатора в самолет.
Среди вещей Либермана С. Л. были обнаружены подозрительные предметы, а именно:
1. «Кобзарь» Т. Г. Шевченко 2014 года издания с дарственной надписью автора.
2. Кастрюлька синего цвета с желтыми цветочками.
3. Три книги на непонятном языке (со слов Либермана – на древнееврейском).
4. Предметы личной гигиены, как то бритва, мыло, зубная паста, две пары носков.
Согласно «Правилам перевозки грузов на воздушном транспорте» бритва и лосьон были изъяты, о чем составлен соответствующий акт.
Начальник таможенного поста аэропорта «Борисполь» Петухов Л. Д.
119
Дорогая Алиса Леопольдовна!
Живописцы и ваятели Независимой Украины глубоко скорбят по причине внезапного исчезновения в Каневских лесах руководства Спилки украинских литераторов. Глубокого символично, что это произошло в местах Шевченковой славы и отражает подлинный мистицизм нашей истории, ярко воспетый Гоголем и Коцюбинским.
Подвиг прямых потомков славного Кобзаря не должен остаться незамеченным, поэтому мы решили немедленно приступить к созданию стеллы в честь пропавших коллег.
По нашему мнению памятный знак должен представлять овальную чернильницу, из которой торчит гусиное перо. Ниже подпись на всех европейских языках: «НЕИЗВЕСТНЫМ УКРАИНСКИМ ЛИТЕРАТОРАМ – БЛАГОДАРНЫЕ ЧИТАТЕЛИ».
Источником финансирования может послужить касса кредитного общества «Мираж» академика Вруневского, найденная в сейфах одного из киевских банков. То, что памятный знак будет сооружен на средства без вести пропавших литераторов, которые несли в эту кассу последние сбережения, еще раз подтвердит мудрость руководства страны, которое настойчиво внедряет в жизнь идею самоокупаемости культуры.
Направляем на Ваше утверждение эскиз стеллы. Просим утвердить ее размеры и гонорар исполнителям.
С глубоким уважением,Григорий Фельбаба,Голова живописцев и ваятелей Украины
120
Ваши Величества!
Уважаемые члены Нобелевского комитета!
Дамы и господа!
Разрешите поблагодарить за неожиданную честь, которой меня удостоил Комитет! По правде говоря, эту премию должен получить Тот, чье имя люди тысячекратно поминают всуе каждый день, полагая, что Ему больше нечего делать, как выслушивать их жалобы и удовлетворять нелепые просьбы. К счастью, благоразумие членов уважаемого комитета не позволило внести в список лауреатов имя подлинного Автора, опасаясь Его реакции и возможного отказа от нобелевской медали. Поэтому мне, как скромному адепту мистической науки, остается еще раз высказать благодарность, особенно за то, что вы не заставляете подробно обьяснять выведенную мной формулу, приняв во внимание голый результат.
Надеюсь, вы догадались, что всякая формула есть всего лишь символическая условность, что она не более чем попытка отвязаться от дотошных и назойливых педантов, которые найдут этой формуле странное применение. Вспомним великого Эйнштейна, чья «теория относительности» стала поводом для множества анекдотов и академических шуток, а наиболее недоверчивых подвигла изобрести атомную бомбу. Надеюсь, что «формула Либермана» не вызовет искушения у одного из моих последователей вернуть в наш мир парочку тиранов, от которых мы с таким трудом избавились.
Я могу рассказать вам о тайном учении Каббалы, о невероятных возможностях, которые Каббала открывает перед посвященными, но попытка уложиться в отведенное время будет глупостью. Это все равно, что торопливо произнести женщине признание в любви и через три минуты капризно спросить: где же ребенок? Кроме того, Каббала – это прежде всего практика. Поэтому я попытаюсь ответить на вопрос, который вызвал недоумение и растерянность. Почему не Шекспир, Лев Толстой либо Моцарт? Почему Шевченко?!
Наверное, все дело в географии. Судьбе было угодно поселить нас в Украине, и, уверяю вас, это был далеко не лучший вариант. Мои предки могли проявить максимум сообразительности и отсидеться в одной из пещер в окрестностях Иерусалима, дожидаясь рождения Герцля и Бен-Гуриона. В крайнем случае они могли обосноваться в Швейцарии и с высоты Альп наблюдать развитие истории. Но мы крепки задним умом и, будучи пришельцами в чужой стране, стали врастать в нее не только могилами предков, не только ветхими домами, которые пытались выстроить на века, – мы позволили себе врасти в эту землю душами, прикипели к ней сердцами, вспоминая об Иерусалиме лишь раз в году, когда поднимали пасхальный бокал, причем вспоминали без всякой надежды вернуться туда.
Я не исключение. Я не посмел уехать вслед за семьей, не попытавшись отблагодарить украинский народ за не всегда доброжелательный приют.
Доводилось ли вам, уважаемые дамы и господа, видеть ребенка, потерявшегося в огромном супермаркете? Все бегут к прилавкам, толпятся в очередях, дерутся, ссорятся, а он стоит посреди огромной залы – одинокий, растерянный, озираясь в поисках родителей. Ваше воображение легко поставит на место ребенка большую несчастную страну, затерявшуюся на огромном перекрестке мира, страну, которая не в состоянии выбрать свою дорогу без поводыря.