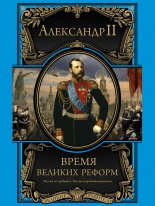Идеальный вариант (сборник) Райт Лариса

Противники заржали.
– Бабушка ждет, волнуется.
– Дома сидит, все глаза в окно проглядела.
– Тарелочку с супчиком уже на стол ставит, хлебушек режет.
– Видели бабаньку твою, – сообщил Петька, ядовито усмехаясь. – На троллейбусе куда-то отчалила. Нехорошо врать.
Мальчик втянул голову в плечи и заранее попросил прощения у бабушки. Права она, ох, как права: за руку в школу, за руку из школы. Гулять только во дворе под присмотром. Вот ослушался, и что получилось?
– Так пришла уже, наверное, – попытался выкрутиться.
– Ага. Прилетела, – пихнул в спину Степка.
– Ты давай небылицы-то не сочиняй, – посоветовал задира. – Монету гони и чеши отсюда.
Мишка нервно сглотнул.
– Чего вылупился-то? Деньги давай и проходи. У нас теперь, как в автобусе, проход платный.
– Нет у меня, – тихо сказал мальчик.
– Как это «нет»? – Петька придвинулся ближе.
– Нет и все.
– Не-е-ет? – Тон стал угрожающим. – А чего ж ты на глобус пялился, да у великов обтирался?
– Посмотреть, что ли, нельзя? – хорохорился из последних сил.
– Нет, – хохотнул Петька. – На них кататься надо, а не разглядывать. Так что отдавай деньги, враль.
– Я не враль. У меня правда нет. – Мишка услышал свой голос, что звучал жалобно и плаксиво. Стало противно, но справиться с возрастающим страхом не удавалось.
– А мы ща проверим, – пообещал Петька и мотнул Степке головой.
Мишка почувствовал тошноту, и головокружение, и слабость, и решил, что сейчас упадет, но в этот момент Степка схватил его и оторвал от земли, перевернув вверх ногами. Мальчик ощутил себя Буратино. Только в отличие от деревянного человечка у него во рту не было ни одного золотого. Вообще нигде не было. Степка потряс его и бросил на землю. Тот больно ударился и скатился в канаву.
– Не звенит, – разочарованно протянул хулиган.
– Нет, – согласился Петька и добавил: – Нехорошо.
– Ужасно. Паршиво. Куда это годится? – заголосили прихлебатели.
– Не дело это, пацан, пустым ходить и с товарищами не делиться! – Предводитель навис над лежащим Мишкой. – Мы жадин не любим. Их учить надо. Поучим, пацаны?
– Поучим!
– А то!
– А как же!
Душа ушла в пятки. Мальчик приготовился к боли и к позору. В том, что предательские слезы сдержать не удастся, не сомневался: они уже застилали глаза. Он зажмурился изо всех сил и услышал свист занесенного над ним кулака. Но удара не последовало. Вместо него раздался окрик:
– Оставьте мальчишку! Чего прицепились?
Этот голос он узнал бы из тысячи, нет, пожалуй, из сотен тысяч. Да почему из тысяч? Даже из миллиона. У края канавы стоял Серега и защищал его – Мишку – от хулиганов.
– Тебе-то что? – Петька не любил сдавать позиции. – Иди, куда шел. Сами разберемся.
– Разбирайтесь с кем-нибудь другим, а мальца не троньте.
– Серый, тебе давно рожу не мазали? – По характерному звуку Мишка понял, что Петька опять плюнул.
– Я – сторонник мирных переговоров.
– Ишь, сторонник он. А мы вот предпочитаем кулаки. Так что кумекай, чего лучше: торчать тут или пройти стороной. Ты, конечно, не слабак, но нас, как видишь, много. Количеством возьмем.
– Сила есть – ума не надо.
– А ты не хорохорься, пока не схлопотал.
– Петя, иди домой. И пацанов своих забери. Это я сейчас один, а тронешь – не один приду.
– С маманькой, что ли?
– Что ли. С дружбанами.
– И много их у тебя?
– Не очень. Зато какие!
– И какие же?
– У одного папа подполковник, у другого – дядя генерал. Милиции.
– Хорошие дела.
– Неплохие.
– Ладно, твоя взяла. Пошли, пацаны. Только слышь, Серый, чего тебе эта мелочь сдалась, генералами из-за нее пальцы гнуть?
– Да не мелочь он вовсе.
– А кто?
– Брат мой младший.
Мишка открыл глаза. Широко-широко. Так, что увидел сразу все небо. И там, в небе, стоял старший брат, протягивал руку и улыбался. Мишка сел. Брат сразу оказался на земле, но улыбаться не перестал и руку не спрятал. Мальчик дотронулся до этой руки. Она была сухая, жилистая и теплая. Рука подхватила его и в одно мгновение вытащила из канавы.
– Ты чего здесь?
– Так. Гуляю. – Мишка покраснел.
– Один? – Серега выглядел удивленным.
– Ну да.
– Ты же обычно с бабушкой всюду ходишь.
Мальчик покраснел еще больше. Но в душе было приятно: он, оказывается, очень даже замечает, что Мишка делает и куда ходит. Вместо какого-то ответа сказал:
– Ты вот тоже один.
– А мне с кем надо быть? – Серега прищурился, от чего его синие глаза стали хитрыми и веселыми.
– С девушкой.
– С какой?
– Не знаю. Наверное, с новой.
Парень захохотал. Потом неожиданно потрепал Мишку по плечу:
– А ты молодец! Не знал, что у меня такой брат.
– Какой? – Сердце заколотилось.
– Такой, как ты, – Серега ответил загадочно, но большего и не надо было.
Мишка зашмыгал носом и заплакал. Думал, придется плакать от горя, а получилось, что от счастья. Только этих слез он отчего-то не стыдился и не сдерживал совсем.
– Ты чего влагу развел? – растерялся брат. – Хорошенькое дело! Еще подумают, что я тебя так угваздал!
Мишка впервые посмотрел на себя: брюки и футболка были измазаны так, что сразу стало ясно: никакого вразумительного объяснения, как он мог так испачкаться, находясь дома, не найти. И сник.
– Влетит? – участливо спросил Серега.
– Влетит, – вздохнул Мишка.
– Ну, пошли. Постираем.
– Куда?
– Ко мне.
– Пошли, – затаив дыхание, согласился он и зашагал рядом с братом, стараясь идти своей еще небольшой ножкой в ногу с Серегой.
За стиркой последовали макароны, потом чай с вафлями, а на десерт он получил кляссер с огромной коллекцией марок.
– Бери. Я все равно уже не собираю.
– Да неудобно.
– Давай забирай и вали!
– Как это? – Мишка расстроился.
– Вот так. Ноги в руки и побыстрее.
– А почему?
– Почему? Почему? Девушка придет. Новая.
– Ясно. – Мальчик сник.
– Да не кисни. Я к тебе завтра приду.
– Как придешь?
– Ногами. Как же еще? И марок еще принесу, лады?
– Лады.
– Ну, чеши давай.
Во дворе уже было темно. Мишка даже и не подумал о грядущей головомойке. Влетел, как ошпаренный, с широченной улыбкой во весь рот. Какие нахмуренные брови мамы? Какие капли в руках у бабушки? Он ничего не видит. Он кричит. Ему-то кажется, что он говорит, как обычно. Но это не так. И кричит, и смеется, и торопится, и так много хочет сказать, а говорит только:
– Бабуль, бабуль, тесто ставь! А бульон сваришь? Ой, а в комнате-то беспорядок! Сейчас уберу. Мам, куда вот эти вещи: в шкаф или в диван? Мам, цветы полей! А я завтра еще пропылесошу.
– Да что случилось-то? – От такого натиска и мама, и бабушка забыли о планах задать ему по первое число. – Пожар у нас?
– Нет. Гости.
– Какие еще гости? – нахмурилась бабушка.
– Брат придет.
– Какой такой брат?
– Мой. Сережа. Старший. Я у него сейчас был.
– У него? И что вы делали? О чем говорили?
– Ну, мы же братья, ба. Нашли общий язык.
Та растерянно смотрела на внука и молчала. Молчала и мама. Молчала и улыбалась, и взглядом хвалила сына, и радовалась за него, и прощала.
Мальчик долго не мог уснуть. Все ворочался в кровати, представлял завтрашний день, смотрел на ходики на стене и пытался заставить минутную стрелку идти быстрее. Заснул только тогда, когда услышал, как на кухне мама сказала:
– Теперь понимаешь, что только о нем я и думала?
И бабушка (надо же!) не стала спорить, а согласилась:
– Понимаю.
Мишка уснул. Ему приснился маленький глобус.
Велуня
В детстве ее называли по-разному. Верой всегда звала бабушка. Она была важной и строгой дамой, курила папиросы и красила губы ярко-красной помадой. Папа над ней посмеивался и тайно окрестил тещу «Дьяволом революции». Сам он называл дочку Верочкой. Мужчина вообще не признавал пафоса и сдержанности в общении с детьми. И когда бабушка ровным размеренным тоном произносила веское Вера, тут же приподнимал брови и корчил смешную рожицу, отчего дочери хотелось смеяться, а не втягивать голову в плечи, как это обычно бывало при общении с бабушкой.
Подружки в школе звали Верусей – она была доброй, мягкой, покладистой, говорила тихим, вкрадчивым голосом, и даже в ее имени хотелось слышать нежность и теплоту. Учителя заглядывали в журнал и, поразмыслив минуту-другую, вздыхали: «Сазонова» – у них, в отличие от девочек, не было причин радоваться существованию этой девочки.
– Ни рыба ни мясо, – говорил классный руководитель – историк. Девочка путала даты и упорно не хотела замечать никакой разницы между Куликовской и Бородинской битвами.
– Посредственно, весьма, – хмурился математик. У доски ученица плыла и тонула в дебрях уравнений, теорем, слагаемых и множителей.
– Вопиющая безграмотность и никакой аккуратности! – хваталась за голову русичка. Девочка делала по три ошибки в каждом слове и сажала по несколько клякс на тетрадной странице.
– Полное отсутствие всякого присутствия, – объявляла учитель рисования, когда вместо яблока на натюрморте расползалось нечто неопределенное, напоминающее то ли грушу, то ли огромный лимон.
В том же духе высказывались биолог, физик и трудовик.
Она не разбиралась ни в соцветиях, ни в оптике, ни в устройстве швейной машинки.
И только голос учителя музыки выбивался из стройного хора.
– Талант. Настоящий! – охала та и отправлялась к девочке домой разговаривать о том, что талант надо развивать.
– Певичку из Веры хотите сделать? – щурила глаза бабушка и затягивалась папиросой, выдыхая едкий дым прямо в лицо гостье. – Не позволю!
– Инструмент, наверное, дорогое удовольствие, – вздыхал папа. – Мы сейчас не осилим. Простишь, Верочка?
Девочка согласно кивала. Петь любила, но профессиональных занятий побаивалась (а ну как и там всех разочарует и заставит хвататься за голову и сердце из-за своей никчемности и бестолковости). Да и потом, когда заниматься? Папа весь день на работе, бабушка то на кухне, то на очередном партийном съезде, мама третий год лежит после родов (что-то там стряслось ужасное с позвоночником. Название длинное, специальное. Девочка, конечно, не помнит, да и зачем? Главное – результат, а как он там называется по-научному мамин паралич – не все ли равно?). Она лежит и раздает с кровати поручения, а за близнецами (братишкой и сестренкой) глаз да глаз нужен.
– Веруня, возьми это! Веруня, подай то! Веруня, сходи туда! Принеси! Убери! Положи!
А еще и маму надо накормить, обтереть, переодеть и поговорить обязательно. Иначе снова впадет в депрессию, будет лежать целыми днями и смотреть в потолок, а Веруня без четкого руководства как без рук. У нее тогда работа застопорится и будет буксовать. Посуда останется немытой, вещи – раскиданными, а близнецы – нечесаными.
В общем, работы хватает, дел невпроворот. Она их и делает. Ей не тяжело. Правда, посуду бьет часто и одежду малышам заляпывает. Такая вот неаккуратная. Бабушка качает головой, кривит пурпурные губы и вздыхает:
– Ох, Вера, Вера.
Папа приходит и кидается на подмогу, оттесняет дочку:
– Иди-ка, Верочка, погуляй. Погода на дворе какая!
А там, кроме погоды и подружек, скачущих через скакалку, злые мальчишки, что, завидев девочку, станут свистеть, улюлюкать и громко орать обидные кричалки:
– Верка, Верка – в попе грелка.
Или еще хуже:
– Сазонова Верка – корова Сопелка.
Сопелка – потому что у нее аденоиды. Нос вечно сопливый, забитый и хлюпающий, и она им громко и натужно сопит. А корова – потому что девочка полная. А как иначе, если вместо еды – сплошные перекусы. Бабушка кашеварит, конечно, но пока всех накормишь-напоишь, самой о себе заботиться охота пропадет. Кусок хлеба в рот засунешь, яблоком похрустишь – да и ладно. А за куском хлеба тянется баранка, за ней – пряничек, а потом и сухарики на закуску. Как тут похудеешь? Да она и не старается. Даже наоборот. Худеть нельзя. Ей сила нужна и мощь. Будет тощей – не сможет ни маму ворочать, ни ребятню таскать.
Ребятня, кстати, получилась славной. В меру хулиганистая, в меру послушная. Бывает, нашкодят, нашалят, а потом встанут перед старшей сестрой (Пашка глазки в пол, Машка с ноги на ногу мнется) и тянут дружно:
– Плости, Велуня.
Иногда уставала, сердилась, говорила:
– Все, команда. Тишина на корабле. Мне уроки надо делать.
Близнецы хоть и маленькие, но понятливые. В уголок отойдут, шушукаются, сидят смирно. Пять минут. А потом снова-здорово:
– Велуня, поиглай, почитай, ласскази!
Какая тут алгебра? Да и музыка? Разве что в виде колыбельных.
– Баю, баюшки, баю, – выводила протяжным сопрано. Папа улыбался, мама смотрела в потолок, бабушка уходила дымить на лестницу, Пашка и Машка закрывали глаза и шептали из-под старых лоскутных одеял:
– Спокойной ночи, Велуня.
В июне сорок первого близнецам исполнилось три. Они здорово выросли и начали выговаривать звук «р», но старшая сестра так и осталась Велуней. Теперь она водила их в садик. Заплетала косы Маше, завязывала шнурки Паше и обоим нещадно высмаркивала носы, чтобы не сопели, как она. Велуне было тринадцать. Она мало изменилась. Вытянулась, конечно, но и округлилась не меньше. По двору не ходила, а шмыгала, в школе, скорее, отсутствовала, чем присутствовала, а дома пахала споро и весело, подпевая включенному на улице репродуктору. Посуду больше не била, вещей не пачкала, борщей не пересаливала. И даже в бабушкином безэмоциональном и сухом «Вера» появились казавшиеся нелепыми нотки уважения.
На фронт папа не ушел, а сбежал. Думал, даже в окопе лучше, чем в комнате, пропахшей лекарствами, слезами, унынием и лозунгами о победе коммунизма. Не знал, куда податься, да и побаивался. Теща все-таки не абы какая: вхожа в кабинеты и разные важные организации. У них, как известно, длинные руки и всевидящее око. Лучше не связываться. А тут такая удача – война. Уйдешь без всяких претензий, никто и слова худого не скажет. Не сказали. Ни тогда, ни потом. Так уж принято: о покойниках либо хорошо, либо ничего. Бабушка поджимала губы и помалкивала, а Велуня напоминала близнецам, каким папа был замечательным и как их любил. Они верили. Старшая сестра никогда не обманывала. Один только раз, когда обещала, что уедут из Ленинграда вместе. Так не специально. Девочка же не думала, что у ног устраивающей отъезд бабушки разорвется бомба, и надежда на всеобщее спасение будет похоронена вместе с ней. Обманула и во второй, когда сказала, что маму ночью эвакуировали вместе с другими тяжелобольными и они обязательно встретятся после войны. Мама умерла не от голода: перерезала вены вилкой. Днем услышала, что открыли Дорогу жизни, решила, что по ней дети смогут пройти только без нее, и освободила путь.
Велуне было пятнадцать. Ее приняли на оборонный завод, а близнецов забрали в эвакуацию, позволив укутать их посильнее и услышать на прощанье такое сладкое и родное:
– Спокойной ночи, Велуня.
Спокойными ночи у нее не были до тех пор, пока не исполнилось восемнадцать и она не получила, наконец, разрешение забрать Пашку и Машку из детского дома.
– Дура! – говорила соседка по квартире. – Война закончилась вместе с мужиками. Ты хоть и некрасивая, но молодая, да еще с законными метрами. Хоть какой-нибудь жених, пусть плохонький, да найдется. А с таким довеском кому нужна?
Велуню подобные мысли не посещали. Заботило только одно: найти, забрать, обнять, привезти. Успокоилась, когда ее обвили детские ручонки, зашмыгали носами, завизжали в самое ухо:
– Велуня!
Хотя разве успокоишься? Теперь одеть, обуть, накормить. Ленинград на Москву поменяла: соседка с сестрой-москвичкой решила съехаться – у той тоже муж на фронте погиб: решили вместе детей воспитывать, а Велуня со своими в столицу отправилась. Там и подавно помощи ждать не от кого. Ни от соседей (у самих семеро по лавкам), ни от государства (ему надо себя восстанавливать, коммунизм строить, а не о Велуне с ее ребятней заботиться). Забрала с казенных харчей – вот и крутись. Крутилась. Хорошо, что машинка швейная осталась и сундук с бабушкиными вещами. Велуня в блокаду, как могла, держалась, чтобы его целиком не выпотрошить. Как знала – потом пригодится. Поначалу вещи перекраивала. Из совсем негодных шила фартучки и ухватки. Продавать не продавала, конечно. Раздавала по соседям. Кто картошечки отсыплет, кто соли, кто масла нальет. Тем и перебивались.
Потом легче стало: дворничиха тетя Клава в помощники взяла и на копеечку не скупилась. Шиковать, конечно, не шиковали – перезимовать бы, но возможность хоть изредка наесться досыта появилась. А через год и вовсе жизнь наладилась: устроилась Велуня на курсы вагоновожатых и спустя несколько месяцев водила трамвай. Домой после первой зарплаты не шла, а бежала: карманы грели капроновые ленты для Машки и настоящая рогатка для Пашки. Баловство, конечно, но на то они и дети, чтобы их баловать. А для себя ничего не купила – уже давно не ребенок.
Вслед за лентами купила Машке чулочки, а за чулочками новые, блестящие, пусть из искусственной, но все же кожи, туфельки. Та вертелась посреди комнаты, слушая восторги Велуни и строя страшные глазки Пашке, который обзывал ее «модницей». Модница очень себе нравилась и мечтала о зеркале. Его пришлось выкупить у съезжавших из соседнего подъезда жильцов. Выкупить, конечно, вместе со шкафом. Шкаф для старшей: в нем целая стопка рукавичек да фартучков. Теперь она их продает. Депо кишит одинокими женщинами, падкими на «уютную, дешевую прелесть». «Прелесть» хранилась в ящиках и присыпалась нафталином. Туда никто не лазил, кроме Велуни. Ящики для нее, а для Машки зеркало. Оно ей нужно. Девочка росла прехорошенькой – в маму. Коса густая, длинная, ноги до ушей, ресницы до бровей, на щеках ямочки, на губах улыбка. Разве можно такой без зеркала?
А Велуне зеркало ни к чему. Чего она не видела? Волос светлый, жиденький, глазки маленькие, ноги короткие, нос в конопушках, щеки в оспинках (ветрянкой от близнецов заразилась. Многое перетерпела, а чесотку не смогла). И все это богатство упаковано в одежду уже пятьдесят второго размера. Ей только двадцать, а незнакомые и сороковник дают. Лишний вес, конечно, никого не красит. А как избавишься? В трамвае сидишь, за машинкой сидишь, питаешься бутербродами. В депо, конечно, обед предусмотрен. Только она не ест – доплачивает за дополнительную порцию и домой носит. Она перебьется, а детям полный обед обеспечен.
– Вот вырастут, ускользнут, даже спасибо не скажут, чего делать станешь? – не успокаивалась соседка, глядя на вечно заспанную, неухоженную, но странным образом всем довольную Велуню.
– Случится – тогда и подумаю, – отвечала девушка.
Сейчас некогда думать ни на эту тему, ни на какую другую. Отработать бы смену и заступить на другую – домашнюю. А там постирать, приготовить, уроки проверить (для значительности, конечно. Что она понимает в этих уроках?), манжеты Машке отутюжить, пришить, заплатки Пашке поставить, по душам поговорить.
– Свою жизнь устраивать надо, – советовали женщины в депо.
Велуня только отмахивалась. Жизнь казалась устроенной замечательно. Все сыты, живут дружно. Что еще надо? Разве это не ее жизнь? А тогда чья же?
– Это сейчас так думаешь, – не сдавались товарки, – когда тебе двадцать. А тридцать стукнет, по-другому запоешь. Птенцы к тому времени оперятся, вылетят из клетки, станут своих делать – одна останешься, будешь локти кусать.
Первой улетела Машка. Недалеко, правда, в соседний подъезд. Мальчик попался приличный: работящий, непьющий, звезд с неба не хватающий, но и не бесталанный: играл на гитаре и пел песни, выжигая в девичьих грудках дыру вожделенным взглядом. От этого взгляда (не в прямом, естественно, смысле) девушка очень скоро сделалась беременной. Она плакала, прощалась с жизнью и требовала от Велуни «что-нибудь придумать». А та долго не думала: справила свадьбу (не шикарную, конечно, но и не стыдную: со своими огурчиками и помидорчиками, салатами, холодцом и песнями до утра). Пели на пару с шурином, и весь двор умилялся, какой у нее зычный красивый голос.
– Тебе бы учиться, – говорила Машкина свекровь.
– Зачем? – изумлялась Велуня. – Певичкой становиться?
– Отчего же певичкой? Певицей.
– Не-е-ет, лучше трамвай катать буду.
Катала. Из буфета теперь таскала тройную порцию обедов: одну для Пашки, две для Машки. Та, по разумению Велуни, обязана есть за двоих. Старшая сестра теперь заступила на третью смену: после трамвая и дома бежала к младшей. И там по новой стирать, готовить, убирать. Свекры съехали то ли к его матери, то ли к ее. Сказали, что освобождают молодым жилплощадь. О чем только думали? За жилплощадью ведь смотреть надо. А куда Машке смотреть с пузом-то? Еще ведь ямочки на щеках, ноги до ушей и самомнения целый вагон. Как с этим самомнением хозяйство вести? Нет, она не для хозяйства. Для хозяйства Велуня.
Чем и занималась, а Машка вяло ковырялась в тарелке и сообщала, что «суп слишком жирный, котлета слишком сухая, а кисель слишком густой и вообще аппетит что-то пропал». Велуня гладила густые волосы сестренки и сокрушалась:
– Бедная ты моя девочка!
Девочка родила девочку Соню. Несмотря на имя, та спала плохо. То болел животик, то резались зубы, то стояла плохая погода, то ребенку просто хотелось поорать. Молодой муж постоянно искал причину удалиться из дома. Машка ревела белугой, обнаруживая очередную только ей заметную складочку на упругом, вовсе не испорченном беременностью животе, дочь заходилась плачем в люльке, обижаясь на непутевую мать и на весь мир. Велуня переехала к ним. В список каждодневных дел добавилось обязательное кипячение пеленок и бутылок, прогулка с младенцем – Машка еще не оправилась после родов и хотелось полежать, – его купание, пеленание, агуканье и пение потешек.
– Вот, – хвасталась теткам в депо, – одна не осталась. Не бросили меня – стало быть, нужна.
Те крутили пальцем у виска и вздыхали:
– Сделала из себя тяжеловоза. Годков-то всего ничего, умишка и того меньше, а работы столько взвалила, что и взводу солдат не переделать.
– Какая работа? – смеялась Велуня. – Сонечку растить? Это же радость.
– Своих бы растила, – пеняли женщины.
– А девчушка чья? – Маленькие глазки от изумления делались большими. – Разве не моя?
Языки замолкали. Что с ней – блаженной – спорить. Хочет надрываться – пускай. Только ведь надорвется.
А та надрываться и не думала. Некогда было. Двигатель в ней работал бесперебойно и беспрерывно. Боялась, остановится на секунду и уже не заведется, не включится. А столько еще надо было сделать, за стольким уследить.
За Пашкой, например. Он, в отличие от сестры, не был кисейной барышней и работы не боялся. Только никак не мог определиться, кем быть и что делать. То собирался на курсы машинистов, то хотел работать в милиции, то идти на завод. Наконец определился и уехал на комсомольскую стройку.
– Пропадет, – охала Велуня и ночами вязала носки из купленной втридорога ангоры, потом бежала за шоколадными конфетами и тушенкой, собирала посылку, а потом собирала рублики, чтобы эту посылку отправить Пашке на целину.
Вернулся тот не один – с Граней. Аграфена оказалась девицей ушлой и дальновидной. Хозяйство взяла на себя, сказав Велуне, что той и у Машки «делов» хватает. Так и сказала. Та сначала взгрустнула от говора, а потом на себя разозлилась: «Человек помочь хочет, а я…»
Помогала Граня настолько активно, что уже через пару месяцев предложила девушке переехать к Машке насовсем:
– Чего бегать туда-сюда. Тебе удобнее, да и нам, как говорится, есть где развернуться.
Девушка не стала думать, зачем и куда Гране надо было разворачиваться. Просто переехала и все. А как иначе, если дети просят? Дети были счастливы. Все, кроме Машки. Муж, не хватающий с неба звезд, устал от вечного сопения за шкафом и снова начал пропадать неизвестно где. Та опять ревела, орала на Сонечку, Сонечка тоже плакала, Велуня расстраивалась. Детям надо было помочь, и немедленно.
Первый раз в жизни отправилась на поклон к начальству – выпросила комнату. Не комнату, конечно, – конуру. Пятый этаж без лифта. Шесть метров. Из мебели только кровать, табуретка, тумбочка и ветхий комодик. Больше ничего не влезает. Да и не надо. Она ведь и не жила там. Так, поспать приходила. С работы бежала то к Машке, то к Гране (у той тоже малыш родился: крепыш и бутуз Петруша).
– Выжили из собственной квартиры, – говорили за спиной.
Велуня мгновенно вспыхивала и отвечала обидчикам:
– Как вам не стыдно! Я сама ушла, по собственному желанию. Злые вы! – гневно отчитывала сочувствующих и не понимала жалостливых взглядов и сокрушенных слов:
– А ты добрая.
Чему сокрушаться? Разве можно доброту в укор ставить? Да и особенного в ней ничего нет – в ее доброте. Вот если бы о чужих детях так заботилась, о незнакомых людях пеклась, тогда да, тогда, наверное, и можно было бы искать в этом что-то удивительное. А так нет. Все обыденно, так, как должно быть. Как должно быть у всех. Как должно быть у каждого. Забота о своих родных в каждом движении, в каждой мысли, в каждом вздохе. У Пашки семья – им простор нужен. Маленький Петруша вот-вот поползет. А останься Велуня в квартире, пришлось бы угол выделять, шкафом комнату перегораживать: ну, куда это годится? Да и сама чем не выиграла? Так был бы угол, а теперь все-таки комнатушка. Казенная, конечно, но жить можно.
– Ох, и дурочка, – пеняла бывшая соседка Нинка. – Кто ж метрами разбрасывается? – Сама девушка занимала в коммуналке аж две отдельные комнаты. В одной доживали век свекровь со свекром (доживали потому, что Нинка, ни капли не стесняясь, любила порассуждать в их присутствии, как замечательно все переделает и переставит, когда «старичье, наконец, преставится»). Велуня стариков жалела. Всякий раз, появляясь в квартире, стучала в их обшарпанную дверь, заводила нехитрый разговор и так, между делом, выметала мусор, протирала окна, потом бежала на кухню, заваривала ароматный чай и, возвратившись с чайником, вытаскивала из авоськи кулек с домашними пирогами. Старики смущались, отнекивались, даже пускали слезу, а Велуня улыбалась и выговаривала строго:
– Ешьте, ешьте! Еще горяченькие. Моим троглодитам ни за что всей стряпни не одолеть. Какое счастье, что вы тут живете! Ну, что бы я без вас делала?!
И каждый раз после этих слов лица стариков светлели, слезы высыхали, а глаза начинали гореть тем особым сиянием жизни, которое появляется, когда понимаешь, что нужен кому-то.
– Спасибо, доченька! – говорили соседи, а Велуня смущалась:
– Ну, какая доченька? Я так, по-соседски. А доченька – это она, Нина.
Та набеги не одобряла:
– Балуешь их! Жалеешь!
– Жалею, – отзывалась Велуня. – Одиноко им.
– Ну да. В магазин вдвоем, во двор на скамейку вдвоем, на кухню вдвоем, к радиоприемнику тоже вдвоем. Одиноко? Это мне одиноко. Все одна: стираю, глажу, готовлю, за внуком их говно подтираю. Как же, одиноко им!
Велуня никогда не напоминала, что внук стариков приходится Нинке родным сынулей, вздыхала только и говорила:
– Бедная ты, бедная.
– Вот и я про то же, – меняла та гнев на милость.
Велуня качала головой и уходила. Некогда было лясы точить. У нее расписание: Машке белье погладить, Гране пеленки прокипятить, тесто поставить, кулебяк напечь, Пашке носки заштопать да брюки отпарить и на работу выходить в вечернюю смену. Поспеть бы все переделать, не оплошать бы.
Машка как-то оправилась. Устроила Сонечку в детский сад, сама устроилась кассиршей в универмаг. На ужин покупала котлеты в кулинарии, на завтрак, охая и причитая, варила горелую кашу. Жизнь наладилась. Велуня теперь могла приходить раз в неделю. Кое-что постирать, немножко погладить, чуть-чуть прибраться. А чаще зачем? Чаще не надо. Поговорить? А поговорить Машка и с мужем может. Да и с Сонечкой. А почему нет? Та лопочет без передышки – только держись. И поет складно Велунины потешки.