Второе открытие Америки Гумбольдт Александр
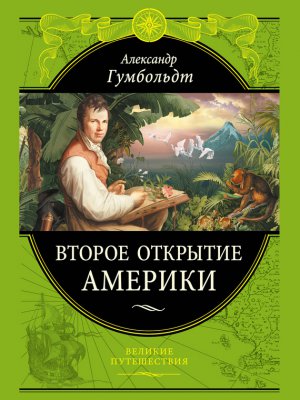
Представляют ли они собой остатки островков посреди внутреннего моря, покрывавшего совершенно ровную местность между Сьерра-Парима и горами Паресис[249], или же эти скалистые стены и гранитные башенки были подняты упругими силами, которые еще и теперь действуют внутри нашей планеты?
Поневоле задумаешься о происхождении гор, если ты видел расположение мексиканских вулканов и трахитовые вершины над длинной трещиной, если в Андах Южной Америки ты обнаружил в одной и той же горной цепи идущие рядом первозданные и вулканические горные породы и если ты вспомнишь об очень высоком острове окружностью в три мили, который в наши дни поднялся из глуби океана около Уналашки.
Берега Касикьяре украшает пальма Chiriva с перистыми снизу листьями. Кроме нее, в лесу растут лишь деревья с крупными кожистыми листьями, блестящими и незубчатыми. Этот особый характер растительности на берегах Гуинии, Туамини и Касикьяре обусловлен преимущественным распространением в экваториальных областях семейств зверобойных, сапотовых и лавровых.
Так как ясное небо сулило прекрасную ночь, то в 5 часов вечера мы решили разбить лагерь около Piedra de Culimacari – гранитной скалы, стоящей изолированно, как и все описанные мной выше скалы между Атабапо и Касикьяре. Съемка речных излучин показала нам, что она находится почти на той же параллели, как и миссия Сан-Франсиско-Солано.
В здешних пустынных местах, где до настоящего времени человек оставлял лишь преходящие следы своего существования, я всегда старался производить наблюдения близ устья какой-нибудь реки или у подножия скалы приметной формы. Только эти пункты, неизменные по своей природе, могут служить базой для географических карт.
В ночь с 10 на 11 мая я произвел очень удачное наблюдение широты по Южного Креста; долгота была определена, но не так точно хронометрически, по двум прекрасным звездам, сверкающим в ногах Центавра. Из произведенных наблюдений мы узнали сразу притом с достаточной для географических целей точностью, координаты устья реки Пасимони, крепости Сан-Карлос и места слияния Касикьяре с Риу-Негру.
Скала Кулимакари находится точно на 2°0'42''северной широты и примерно на 69°33'50''западной долготы. В двух памятных записках, написанных по-испански и адресованных: одна – каракасскому генерал-губернатору, другая – государственному секретарю Уркихо, я изложил, какое значение имеют эти астрономические определения для установления границ португальских колоний.
Во время экспедиции Солано место слияния Касикьяре и Риу-Негру считали расположенным в полуградусе к северу от экватора; и хотя пограничной комиссии никогда не удавалось прийти к окончательному результату, в миссиях неизменно считали экватор временно признанной границей.
Однако из результатов моих наблюдений следует, что Сан-Карлос-дель-Риу-Негру, или, как его пышно называют здесь, пограничная крепость, расположен вовсе не на 0°20' широты, как утверждает отец Каулин, и не на 0°53', как того хотят Ла Крус и Сюрвиль (официальные географы Real Expedicion delimites[250]), а на 1°53'42''. Таким образом, экватор проходит не к северу от португальской крепости Сан-Жозе-ди-Марабитанас, как указывается до настоящего времени на всех картах, за исключением нового издания карты Эрроусмита, а на 25 лье южнее, между Сан-Фелипе и устьем реки Гуапе.
Находящаяся у меня рукописная карта Рекены доказывает, что португальские астрономы знали об этом с 1783 года, следовательно, за 35 лет до того, как это уточнение начало появляться на наших европейских картах.
Так как в Каракасском генерал-губернаторстве издавна было распространено мнение, что искусный инженер дон Габриель Клаверо построил крепость Сан-Карлос-дель-Риу-Негру на самом экваторе, и так как при определении широт вблизи от него были допущены, по мнению Кондамина, погрешности в сторону юга, то я предполагал, что экватор проходит в одном градусе к северу от Сан-Карлоса, то есть на берегах Теми и Туамини.
Уже наблюдения, произведенные в миссии Сан-Балтасар (прохождение трех звезд через меридиан), заставили меня заподозрить неправильность этой гипотезы; однако истинное положение границ я установил лишь на основании широты Piedra Кулимакари.
Остров Сан-Хосе на Риу-Негру, прежде считавшийся границей между испанскими и португальскими владениями, находится по меньшей мере на 1°38' северной широты; и если бы комиссия Итурриаги и Солано довела до конца свои длительные переговоры, если бы лиссабонское правительство окончательно признало экватор границей между двумя государствами, тогда шесть португальских деревень и даже крепость Сан-Жозе, расположенные к северу от реки Гуапе, принадлежали бы в настоящее время испанской короне.
То, что в таком случае было бы приобретено благодаря нескольким точным астрономическим наблюдениям, имеет более важное значение, нежели то, чем испанцы владеют теперь; следует, однако, надеяться, что два народа, посеявшие первые семена культуры на громадном пространстве Южной Америки к востоку от Анд, не возобновят пограничных споров относительно территории шириной в 33 лье и относительно права владения рекой, плавание по которой должно быть свободно, как и плавание по Ориноко и Амазонке.
12 мая. Удовлетворенные нашими наблюдениями, мы в половине второго ночи покинули скалу Кулимакари. Мучения от mosquitos, которым мы снова подверглись, усиливались по мере того, как мы отдалялись от Риу-Негру. В долине Касикьяре нет zancudos (Culex), но тем многочисленнее и тем ядовитее там мошка и другие насекомые из семейства долгоножек.
Так как до прибытия в миссию Эсмеральда нам предстояло провести в этой сырой и нездоровой местности еще 8 ночей под открытым небом, то кормчий с большим удовольствием регулировал наше плавание таким образом, чтобы мы могли воспользоваться гостеприимством миссионера Мандаваки и найти какое-нибудь пристанище в деревне Васива.
Мы с огромным трудом поднимались против течения, скорость которого достигала 9 футов, а в некоторых местах (в них я измерял ее особенно тщательно) – 11 футов 8 дюймов в секунду, иначе говоря, почти 8 миль в час. Наш лагерь находился, вероятно, всего в трех лье по прямой от миссии Мандавака; и хотя мы никак не могли жаловаться на работу наших гребцов, нам понадобилось 14 часов на этот короткий переход.
К восходу солнца мы прошли устье Пасимони. Это та самая река, которая образует (при посредстве реки Бария) столь необычайное соединение с Кабабури. Пасимони берет начало в гористой местности и образован слиянием трех речек, не указанных на картах миссионеров. Вода в нем черная, но в меньшей степени, чем в озере Васива, которое также сообщается с Касикьяре.
Между этими двумя притоками, текущими с востока, находится устье реки Идапа, в которой вода белая. Я не стану возвращаться к вопросу о том, как трудно объяснить одновременное существование на небольшом пространстве различно окрашенных рек; замечу только, что у устья Пасимони и на берегах озера Васива мы были снова поражены чистотой и исключительной прозрачностью темных вод.
Еще древние арабские путешественники отметили, что в высокогорном истоке Нила, сливающемся с Бахр-эль-Абьядом [Белый Нил] близ Хальфаи, вода зеленая и такая прозрачная, что можно различить рыб на дне реки.
Прежде чем достичь миссии Мандавака, мы прошли довольно бурные пороги. В деревне, носящей, так же как и они, название Кирабуэна, всего 60 индейцев. Вообще здешние христианские поселения находятся в таком жалком состоянии, что на всем Касикьяре на протяжении 50 лье вы не встретите и 200 жителей. До прибытия миссионеров берега этой реки были заселены гуще.
Индейцы ушли в леса на восток, так как равнины на западе почти совершенно бесплодны. Часть года местные жители питаются крупными муравьями, о которых я говорил выше. Муравьев здесь ценят так же, как в Южном полушарии пауков-крестовиков, являющихся лакомством для дикарей Новой Голландии.
В Мандаваке мы встретили того славного старого миссионера, который уже прожил «20 лет среди москитов в bosques del Cassiquiare[251]» и ноги которого были настолько испещрены следами от укусов насекомых, что белый цвет его кожи был едва различим. Он поведал нам о своем одиночестве и о часто выпадавшей на его долю печальной необходимости оставлять безнаказанными самые тяжелые преступления, совершавшиеся в миссиях Мандавака и Васива.
Всего несколько лет назад в Васиве алькад-индеец съел одну из своих жен; предварительно он отвел ее к себе в conuco[252] и хорошо кормил, чтобы она стала жирней. Людоедство среди индейцев Гвианы никогда не вызывалось ни недостатком пищи, ни религиозными суевериями, как это имеет место на островах Южного моря; обычно оно бывает проявлением либо мести победителя, либо (как говорят миссионеры) «неумеренного аппетита».
Победа над вражеской ордой празднуется пиршеством, во время которого пожирают некоторые части трупа пленника. В других случаях нападают ночью на беззащитную семью или убивают отравленной стрелой врага, случайно встреченного в лесу. Труп разрезают на части и приносят как трофей в хижину. Только цивилизация заставила человека почувствовать единство человеческого рода, открыла ему, так сказать, кровные связи, объединяющие его с существами, чей язык и нравы ему чужды.
Дикари знают лишь свою семью; племя представляется им лишь более многочисленным объединением родственников. Когда в миссию, где они живут, прибывают незнакомые им лесные индейцы, они употребляют выражение, часто изумлявшее меня своей непосредственной наивностью: «Это, конечно, мои родственники, я понимаю их, когда они со мной говорят».
Те же дикари ненавидят всех, кто не принадлежит к их семье или к их племени: они охотятся на индейцев соседнего племени, ведущего войну с их племенем, как мы охотимся за дичью. Им ведомы обязанности по отношению к семье и к родственникам, но они не признают обязанностей по отношению к человечеству, предполагающих сознание общей связи между существами, созданными так же, как мы.
Без малейшей жалости они убивают женщин и детей враждебного племени. Преимущественно детей едят во время пиршеств, устраиваемых по окончании битвы или далекого набега.
Ненависть дикарей почти ко всем людям, которые говорят на другом языке и являются, по их представлениям, варварами низшей расы, возрождается иногда в миссиях после того, как она долго не проявлялась. За несколько месяцев до нашего прибытия в Эсмеральду один индеец, родившийся в лесу[253], по ту сторону Дуиды, путешествовал еще с одним индейцем, который, побывав в плену у испанцев на берегах Вентуари, мирно жил в деревне или, как здесь говорят, «под звон колокола», debaxo de la campana.
Последний шел медленно, так как болел лихорадкой, одолевающей индейцев, когда они поселяются в миссиях и резко меняют образ жизни. Досадуя на задержку, спутник убил его и спрятал труп в густых древесных зарослях около Эсмеральды. Это преступление, как и множество других, совершенных индейцами, осталось бы неизвестным, если бы убийца не стал на следующий день готовиться к пиршеству.
Ему вздумалось предложить своим детям, родившимся в миссии и ставшим христианами, пойти вместе с ним за некоторыми частями трупа. Детям с трудом удалось отговорить его, и из-за ссоры, вызванной этим событием в семье, солдат, стоявший на постое в Эсмеральде, узнал о том, что индейцы хотели от него скрыть.
Как известно, людоедство и часто связанный с ним обычай человеческих жертвоприношений распространены во всех частях земного шара и у народов самых различных рас[254]; но при изучении истории особенно поражает то, что человеческие жертвоприношения сохраняются на довольно высокой ступени цивилизации и что племена, считающие за честь пожирать пленников, не всегда относятся к числу самых диких и самых свирепых.
В этом обстоятельстве есть нечто печальное и тягостное; оно не ускользнуло от внимания миссионеров, достаточно просвещенных, чтобы задумываться над нравами окрестных племен. Кабре, гуйпунави и карибы всегда были могущественнее и культурнейе других оринокских племен; однако первые два склонны к людоедству, между тем как карибам оно всегда было чуждо.
Следует тщательно различать отдельные ветви, на которые делится большая семья карибских племен. Эти ветви столь же многочисленны, как ветви монголов и западных татар, или туркоманов. Материковые карибы, те, что живут на равнинах между Нижним Ориноко, Риу-Бранку, Эссекибо и истоками Ояпока, испытывают ужас перед обычаем пожирать врагов.
В эпоху открытия Америки это варварское обыкновение[255] существовало только у карибов Антильских островов. Из-за них стали синонимами слова: «каннибалы», «карибы» и «людоеды»; из-за их бесчеловечного поведения возник изданный в 1504 году закон, по которому испанцам разрешалось обращать в рабство всякого человека американского племени, чье карибское происхождение он может доказать.
Впрочем, я думаю, что людоедство среди жителей Антильских островов было сильно преувеличено в баснословных рассказах первых путешественников. Такой серьезный и правдивый историк, как Эрера, не побрезговал привести эти басни в своих «Decades historicas»; он даже поверил необыкновенному событию, заставившему карибов отказаться от своих варварских привычек.
«Индейцы одного островка съели доминиканского монаха, похищенного на побережье Пуэрто-Рико. Они все заболели и больше не пожелали есть ни монахов, ни мирян».
«Вы не можете себе представить, – говорил старый миссионер из Мандаваки, – как развращена familia de Indios[256]. Вы принимаете в деревню людей нового племени; они кажутся кроткими, честными, хорошими работниками. Но разрешите им принять участие в походе (entrada), предпринятом вами для возвращения убежавших индейцев, и вы с трудом сумеете воспрепятствовать им убивать всех, кого они встретят, и прятать некоторые части трупов».
Размышляя о нравах этих индейцев, вы приходите почти в ужас от сочетания чувств, казалось бы, исключающих друг друга, от способности людей лишь частично воспринимать правила человечности, от преобладания обычаев, предрассудков и традиций над естественными движениями сердца.
С нами в пироге был индеец, бежавший с берегов Гуасии; за несколько недель он достаточно приобщился к культуре, чтобы быть нам полезным, подготавливая приборы, необходимые для ночных наблюдений. Он проявлял большую мягкость характера и сообразительность, и мы даже хотели оставить его у себя на постоянной работе.
Каково же было наше сожаление, когда мы узнали из разговора с ним, шедшего при посредстве переводчика, что «мясо обезьян Marimondes, хотя оно и темнее, кажется ему по вкусу похожим на человечье». Он уверял, что «его родственники (то есть соплеменники) предпочитают в человеке, как и в медведе, ладони». Это утверждение сопровождалось жестами дикой радости.
Мы спросили юношу, обычно спокойного и очень предупредительного в мелких услугах, которые он нам оказывал, испытывает ли он еще и теперь иногда желание «съесть индейца черувичахена»; он невозмутимо ответил, что, живя в миссии, будет есть только то, что едят los Padres.
Упреки, обращенные к индейцам по поводу рассматриваемого здесь чудовищного обычая, не производят никакого впечатления; они действуют не сильнее, чем слова брахмана с берегов Ганга, который, путешествуя по Европе, вздумал бы упрекать нас за обыкновение употреблять в пищу мясо животных. В глазах индейца с Гуасии черувичахена был существом, совершенно отличным от него; убить его казалось ему не более несправедливым, чем убить лесного ягуара.
Высказанное молодым индейцем намерение питаться, пока он живет в миссии, только тем, что едят los Padres, объясняется просто соображениями вежливости. У индейцев, если они возвращаются к своим (al monte) или если их донимает голод, быстро восстанавливается прежняя привычка к людоедству.
Индейцы с Касикьяре, хотя они быстро возвращались к своим варварским привычкам, в миссиях проявляли сообразительность, некоторую любовь к труду и, главное, с большой легкостью изъяснялись по-кастильски. В большинстве деревень живут индейцы трех-четырех племен, не понимающие друг друга, а потому чужой язык, который к тому же является языком гражданских властей, язык миссионера, имеет то преимущество, что служит средством более широкого общения.
Я слышал, как индеец поиньяве разговаривал по-кастильски с индейцем гуаибо, хотя оба они всего три месяца тому назад пришли из лесов.
Нам сообщили, что на Нижнем Ориноко, особенно в Ангостуре, индейцев с Касикьяре и с Риу-Негру вследствие их сообразительности и расторопности предпочитают жителям других миссий. Индейцы из Мандаваки славятся среди окрестных племен изготовлением кураре, который по силе не уступает кураре из Эсмеральды. К сожалению, изготовлением яда индейцы занимаются гораздо охотнее, чем земледелием.
Между тем почва на берегах Касикьяре великолепная. Там встречается коричневато-черный гранитный песок, в лесах покрытый толстыми пластами humus, а на берегах рек – глиной, почти непроницаемой для воды. Земля на Касикьяре, по-видимому, более плодородна, чем в долине Риу-Негру, где маис родится довольно плохо. Рис, бобы, хлопок, сахар и индиго дают богатые урожаи повсюду, где их пробовали выращивать.
В окрестностях миссий Сан-Мигель-де-Давипе, Сан-Карлос и Мандавака мы видели дикорастущее индиго. Нет сомнений, что некоторые американские народы, в особенности мексиканцы, задолго до завоевания употребляли для иероглифического письма настоящее индиго и что небольшие лепешки этого вещества продавались на главном рынке в Теночтитлане.
Однако красящее вещество, тождественное по химическому составу, может быть извлечено из растений, принадлежащих к близким родам, и я не осмелюсь сейчас утверждать, что Indigoferae американского происхождения не имеют каких-либо родовых отличий от Indigofera anil L. и Indigofera argentea Старого Света. Для кофейных деревьев Старого и Нового Света такое различие было установлено.
Влажность воздуха и ее естественное следствие – обилие насекомых – создают здесь, как и на Риу-Негру, почти непреодолимые препятствия для введения новых культур. Даже при ясном голубом небе гигрометр Делюка никогда не показывал меньше 52°. Повсюду встречаются крупные муравьи, которые двигаются плотными рядами и нападают на культурные растения особенно охотно, потому что они травянистые и сочные, между тем как в здешних лесах стволы растений деревянистые.
Если миссионер хочет попытаться вырастить салат или какие-нибудь европейские овощи, он вынужден, так сказать, подвесить свой огород в воздухе. Он наполняет старый челнок хорошей землей и, посеяв в нее семена, подвешивает его с помощью веревок из пальмы чикичики на высоте 4 футов над землей; чаще всего челнок ставят на легкий помост.
В таком положении молодые растения предохранены от сорняков, от земляных червей и от муравьев, которые двигаются по прямой линии и, не замечая того, что растет над ними, обычно не сворачивают и не влезают по очищенным от коры сваям помоста.
Я напоминаю об этом обстоятельстве, чтобы показать, с какими трудностями связаны в тропиках, на берегах больших рек, первые попытки человека освоить клочок земли среди обширных владений природы, кишащих животными и покрытых дикорастущими растениями.
13 мая. Ночью я произвел несколько наблюдений над звездами, к сожалению, последние на Касикьяре. Широта Мандаваки 2°4'7''; долгота ее, по хронометру, 69°27'. Наклонение магнитной стрелки, по моим измерениям, равнялось 25,25° стоградусной шкалы. Следовательно, оно значительно увеличилось по сравнению с определенным в крепости Сан-Карлос.
Однако окружающие горные породы – все тот же гранит с небольшой примесью амфибола, который мы видели в Явите и который приобретает черты сиенита. В половине третьего ночи мы покинули Мандаваку. Нам предстояло еще 8 дней бороться с течением Касикьяре, а наш путь до того, как мы снова достигнем Сан-Фернандо-де-Атабапо, будет проходить по такой пустынной местности, что мы можем рассчитывать лишь через 13 дней увидеть другого миссионера-обсерванта в Санта-Барбаре.
После 6 часов плавания мы миновали оставшееся от нас к востоку устье Идапы, или Сиапы, которая берет начало на горе Унтуран, и у истоков которой есть волок, ведущий к Маваке, одному из притоков Ориноко. В Идапе вода белая; эта река вдвое уже, чем Пасимони, где вода черная.
Ее верхнее течение весьма странно искажено на картах Ла Круса и Сюрвиля, послуживших образцами для всех последующих карт. В дальнейшем, когда я буду говорить об истоках Ориноко, мне представится случай упомянуть о гипотезах, послуживших причиной этих ошибок.
Если бы отец Каулин мог видеть карту, приложенную к его труду, он очень удивился бы, обнаружив, что на ней изображены те фантазии, против которых он возражал на основании точных сведений, полученных им на месте. Этот миссионер просто говорил, что Идапа берет начало в гористой стране, вблизи от тех мест, где живут индейцы амуйсана.
Этих индейцев превратили в амойзана или в амазоне, а началом реки Идапо сделали источник, который в момент своего появления на поверхность земли разделяется на два рукава, текущие в диаметрально противоположные стороны. Такое раздвоение источника представляет чистый вымысел.
Мы расположились лагерем у Raudal Кунури. Ночью шум маленького порога заметно усиливается. Наши индейцы утверждали, будто это верное предзнаменование дождя. Я вспомнил, что горцы в Альпах очень верят в такую же примету[257]. И действительно, задолго до восхода солнца пошел дождь. Впрочем, обезьяны Araguato своим протяжным воем предупредили нас о близком ливне задолго до того, как усилился шум порога.
14 мая. Mosquitos и в особенности муравьи прогнали нас с берега раньше двух часов ночи. Мы думали прежде, что последние не ползают по веревкам, с помощью которых обычно привязывают гамаки; но либо это убеждение неправильно, либо муравьи падали на нас с верхушек деревьев; во всяком случае мы с трудом избавились от несносных насекомых.
По мере того как мы двигались вперед, река становилась уже; ее берега были такие болотистые, что Бонплану стоило большого труда добраться до подножия ствола Carolinea princeps, отягощенного крупными пурпурными цветами. Это дерево – лучшее украшение здешних лесов, как и лесов на Риу-Негру. Днем мы несколько раз измерили температуру воды в Касикьяре.
На поверхности реки она равнялась всего 24° (при температуре воздуха 25,6°); температура воды в Риу-Негру почти такая же, а в Ориноко на 4–5° выше. Оставив к западу от себя устье Каньо-Катерико, в котором вода черная и необыкновенно прозрачная, мы покинули русло реки и пристали к острову, где расположена миссия Васива.
Окружающее ее озеро имеет в ширину одно лье и сообщается при посредстве трех проток с Касикьяре. Местность вокруг болотистая и очень неблагополучная по лихорадке. Озеро, вода в котором при проходящем свете желтая, в период сильного зноя высыхает, и тогда даже индейцы не выдерживают миазмов, поднимающихся от ила.
В день нашего прибытия я начертил план Васивы. Часть деревни была перенесена в более сухое место к северу, и это изменение стало причиной длительной ссоры между губернатором Гвианы и монахами.
Губернатор утверждал, что последние не имели права переносить свои деревни без разрешения гражданских властей; но так как он совершенно не знал, где находится Касикьяре, то адресовал свои упреки миссионеру Каричаны, который живет за 150 лье от Васивы и не мог понять, о чем идет речь.
Такие географические ошибки весьма часты в стране, управляемой обычно людьми, никогда не имевшими карты подведомственных им владений. В 1785 году отца Валора назначили в миссию Падамо, предписав ему «немедленно отправиться к оставшимся без пастыря индейцам». Между тем прошло уже больше 15 лет, как деревни Падамо не существовало, а индейцы убежали al monte.
С 14 по 21 мая мы все время ночевали под открытым небом; однако я не могу назвать тех мест, где мы располагались лагерем. Эти края такие дикие и так редко посещаются, что индейцы не знают – если не считать нескольких рек – названий тех пунктов, которые я наносил на карту по компасу.
На протяжении целого градуса я не имел возможности определить широту путем наблюдения над звездами. После того как мы миновали место, где Итинивини отделяется от Касикьяре и течет на запад к гранитным холмам Дарипабо, берега стали болотистыми, с зарослями бамбука. Эти древовидные злаки достигают в вышину 20 футов; к верхушке их стебель всегда изгибается.
Они представляют новый вид с очень широкими листьями. Бонплану посчастливилось найти один экземпляр в цвету; я упоминаю об этом потому, что до настоящего времени роды Nastus и Bambusa Schreb. различали очень плохо и что в Новом Свете крайне редко удается видеть эти гигантские злаки цветущими.
Мутис 20 лет собирал гербарий в местах, где Bambusa Guadua Humb. et Bonpl. образует болотистые леса шириной в несколько лье, но ему ни разу не удалось раздобыть ее цветок. Мы послали Мутису первые колосья Bambusa Schreb. из долин Попаяна, отличающихся умеренным климатом.
Почему органы оплодотворения так редко развиваются у представителя туземной флоры, обнаруживающего такой мощный рост как на уровне океана, так и на склонах гор до высоты в 900 туазов, то есть до субальпийского района, где климат в тропическом поясе напоминает климат Южной Испании? Bambusa latifolia Humb. et Bonpl., вероятно, характерна для бассейнов Верхнего Ориноко, Касикьяре и Амазонки; это общественное растение, как и все злаки из подсемейства Nastoideae; однако в той части Испанской Гвианы, по которой мы путешествовали, оно не образует больших сообществ, называемых испаноамериканцами Guaduales, то есть бамбуковые леса.
Первый лагерь выше Васивы мы разбили сравнительно легко. Мы нашли клочок сухой, не поросшей кустами земли к югу от Каньо-Курамуни, в том месте, где обезьяны-капуцины[258], распознаваемые по чрной бороде и грустному суровому виду, медленно прогуливались по горизонтальным ветвям Genipa L. Следующие пять ночей были очень тяжелыми, так как мы приближались к бифуркации Ориноко.
Мощь растительности возрастает до такой степени, о какой трудно составить себе представление, если даже вы привыкли к зрелищу тропических лесов. Песчаных берегов больше нет; вдоль реки тянется изгородь из ветвистых деревьев. Вы видите лишь канал шириной в 200 туазов, окаймленный двумя громадными стенами, покрытыми лианами и листвой. Мы часто пытались пристать к берегу, но высадиться нам не удавалось.
Иногда перед заходом солнца мы шли вдоль берега целый час, чтобы отыскать не поляну (их не существует), а какое-нибудь менее заросшее место, где наши индейцы, поработав как следует топором, могли расчистить достаточное пространство для лагеря на 12–13 человек. Провести ночь в пироге было невозможно.
Mosquitos, мучившие нас днем, к вечеру набивались под toldo, то есть под навес из пальмовых листьев, служивший нам укрытием от дождя. Никогда у нас так не распухали руки и лицо. Отец Сеа, до того хваставший, что в его миссиях у порогов самые крупные и самые злые (las mas feroces) москиты, постепенно стал соглашаться, что на Касикьяре укусы насекомых болезненнее, чем все, когда-либо прежде испытанные им.
Посреди густого леса мы с большим трудом находили дрова, чтобы развести костер, так как в здешних экваториальных областях, где все время идет дождь, ветви деревьев наполнены соком и почти не горят. Там, где нет сухих песчаных берегов, совершенно невозможно раздобыть старую древесину, про которую индейцы говорят, что она зажарилась на солнце.
Впрочем, костер был нам нужен лишь как средство для защиты от лесных зверей; у нас осталось так мало продуктов, что для приготовления пищи мы могли бы почти вовсе обойтись без него.
18 мая под вечер мы увидели на берегу реки место, где росли в диком состоянии какаовые деревья. Бобы у них маленькие и горькие; лесные индейцы высасывают мякоть и выбрасывают бобы, которые индейцы из миссий подбирают и продают тем, кто не очень разборчив при приготовлении шоколада.
«Это Puerto del Cacao[259], – сказал кормчий. – Здесь ночуют los Padres, когда они направляются в Эсмеральду покупать сарбаканы и Juvia (вкусные плоды Bertholletia Humb. et Bonpl.)». Впрочем, по Касикьяре за год не проходит и пяти лодок; начиная от Майпурес, иначе говоря в течение месяца, мы не встретили ни живой души на реках, по которым поднимались, если не считать ближайших окрестностей миссий.
К югу от озера Дурактумуни мы ночевали в пальмовом лесу. Шел проливной дождь; однако Pothos L., Arum L. и лианы образовали такую густую естественную беседку, что мы укрылись в ней, словно под сводом листвы. Индейцы, расположившиеся на берегу реки, переплели ветви Heliconia L. и других растений из семейства банановых и устроили над гамаками нечто вроде крыши.
Наши костры освещали до высоты 50–60 футов стволы пальм, лианы, отягощенные цветами, и столбы беловатого дыма, поднимавшиеся прямо к небу. Зрелище было великолепное; но для того чтобы им мирно наслаждаться, нужно было бы дышать воздухом, не кишащим насекомыми.
Выше Каньо-Дурактумуни Касикьяре течет в одном направлении, с северо-востока на юго-запад. Там на правом берегу была начата постройка новой деревни Васива. Миссии Пасимона, Капивари и Буэнагуардия, подобно мнимой крепости у озера Васива, существуют только на наших картах. Мы удивились тому, как сильно подмыты оба берега Касикьяре в результате внезапных паводков.
Вырванные с корнем деревья образуют как бы естественные плоты; наполовину погруженные в ил, они представляют большую опасность для пирог. Если бы лодка путешественников, на их несчастье, перевернулась в этом необитаемом месте, то, вероятно, они исчезли бы, не оставив никаких следов крушения, по которым можно было бы установить, где и каким образом они погибли.
На побережье узнали бы лишь, притом очень нескоро, что лодки, вышедшей из Васивы, не видели в миссиях Санта-Барбара и Сан-Фернандо-де-Атабапо, отстоящих за сотню лье оттуда. Ночь 20 мая, последнюю перед окончанием нашего плавания по Касикьяре, мы провели близ места бифуркации Ориноко.
Мы питали некоторую надежду, что нам удастся провести астрономические наблюдения, так как падающие звезды необыкновенной величины были видны сквозь пелену тумана, застилавшую небо. Из этого мы заключили, что слой тумана должен быть очень тонким, потому что метеоров такого рода почти никогда не наблюдали ниже облаков.
Изумившие нас метеоры двигались к северу, следуя друг за другом примерно через одинаковые промежутки времени. Индейцы, не имеющие обыкновения облагораживать словами скачки своего воображения, называют падающие звезды мочой, а росу – слюной звезд. Облака снова сгустились, и мы больше не видели ни метеоров, ни настоящих звезд, которых с нетерпением ждали несколько дней.
Нас предупредили, что в Эсмеральде нас поджидают насекомые, еще «более злые и более прожорливые», чем на том рукаве Ориноко, по которому мы поднимались. Несмотря на такое обещание, мы с удовольствием мечтали о том, что наконец заночуем в обитаемом месте и займемся гербаризацией. Последний лагерь на Касикьяре поколебал наши надежды.
Я осмеливаюсь сообщить о факте, не представляющем большого интереса для читателя, но, по моему мнению, заслуживающем упоминания в путевом дневнике, где описываются все события во время плавания по столь дикой стране. Мы расположились у опушки леса.
Среди ночи индейцы сообщили нам, что они слышали совсем близко рычание ягуара и что оно доносилось с вершин соседних деревьев. Леса здесь настолько густые, что в них водятся почти исключительно те животные, которые лазают по деревьям, как четверорукие, Cercoleptes (кинкажу), виверры и различные роды Felis.
Так как наши костры ярко горели и так как в результате длительной привычки перестаешь (можно сказать систематически) обращать внимание на действительные опасности, то мы придали мало значения крикам ягуаров. Их привлекал запах и лай нашей собаки. Собака (из породы крупных догов) сначала принялась лаять; когда тигр приблизился, она стала выть и спряталась под наши гамаки, как бы ища помощи у людей.
Со времен ночевок на берегах Апуре мы привыкли к таким чередованиям храбрости и страха у нашей молодой, кроткой и очень ласковой собаки. Каково же было наше горе, когда утром, при посадке в лодку, индейцы сообщили нам об исчезновении собаки! Не было никаких сомнений, что ее утащили ягуары.
Может быть, не слыша больше их рычаний, она отошла от костров к берегу, а может быть, мы не слышали стонов собаки, так как спали глубочайшим сном. Жители берегов Ориноко и Магдалены часто уверяли нас, что самые старые ягуары (следовательно, многие годы охотившиеся по ночам) очень хитры и могут утащить животное из лагеря, сжав ему горло, чтобы оно не кричало.
Мы прождали часть утра в надежде, что наша собака заблудилась. Через три дня мы вернулись на тот же берег. Опять слышалось рычание ягуаров, питающих склонность к определенным местам; но все наши поиски оказались тщетными. Дог, который сопровождал нас от Каракаса и столько раз ускользал вплавь от преследования крокодилов, был растерзан в лесу. Я упоминаю об этом случае лишь потому, что он дает некоторое представление о хитрости больших кошек с пятнистой шкурой.
21 мая мы снова вошли в русло Ориноко тремя лье ниже миссии Эсмеральда. Прошел месяц с тех пор, как мы покинули эту реку около устья Гуавьяре. До Ангостуры нам оставалось проплыть еще 750 миль[260], но уже вниз по течению, и эта мысль придавала нам бодрости.
Спускаясь по течению больших рек, держатся тальвега, середины русла, где мало mosquitos; когда поднимаются против течения, то приходится, чтобы использовать водовороты и противотечения, держаться берега, где из-за близости леса и из-за выброшенных остатков органических веществ скопляются насекомые-долгоножки[261]. Место знаменитой бифуркации Ориноко производит очень внушительное впечатление.
На северном берегу поднимаются высокие гранитные горы. Среди них вдали можно различить Марагуаку и Дуиду. На левом берегу Ориноко на запад и на восток от бифуркации гор нет; они появляются лишь напротив устья Таматамы. Там находится скала Гуарако, которая, как говорят, в период дождей время от времени выбрасывает пламя.
В том месте, где Ориноко с юга уже не окаймлен горами и достигает начала долины или, скорее, впадины, понижающейся к Риу-Негру, он разделяется на два рукава. Главная ветвь (река Ларагуа индейцев) продолжает течь к западу-северо-западу, огибая группу гор Парима; рукав, соединяющий Ориноко с Амазонкой, устремляется в равнины, общий уклон которых идет к югу, но отдельные поверхности понижаются в долине Касикьяре к юго-западу, а в бассейне Риу-Негру к юго-востоку.
Это явление, на первый взгляд столь странное, но проверенное мной на месте, заслуживает особого внимания. Оно тем более интересно, что может пролить некоторый свет на тождественные факты, по-видимому установленные во внутренних областях Африки.
Когда поднимаются по дельте Ориноко к Ангостуре и к месту впадения Апуре, слева все время тянется высокая цепь гор Парима. Она не только не образует (как считали некоторые знаменитые географы) порога, разделяющего бассейны Ориноко и Амазонки, а напротив, на ее южном склоне находятся истоки первой из этих рек.
Ориноко (в точности как Арно в знаменитой voltata[262] между Биббьеной и Понтассиеве) описывает три четверти овала, длинная ось которого идет в широтном направлении. Он огибает группу гор, принимая в себя воды как с одного, так и с другого склона.
Начиная от высокогорных долин Марагуаки, река течет сначала на запад и на запад-северо-запад, как будто она должна впадать в Южное море; затем близ места впадения Гуавьяре она начинает отклоняться к северу и течет в меридиональном направлении до устья Апуре – второй точки изгиба.
В этой части своего течения Ориноко заполняет нечто вроде желоба, образованного пологим склоном, идущим от очень отдаленной цепи Анд Новой Гранады, и исключительно коротким противосклоном, поднимающимся к востоку к круто обрывающимся горам Парима. Такой рельеф местности является причиной того, что самые большие притоки Ориноко – западные.
Так как главный водоем протекает очень близко от гор Парима, огибая их с юга на север (словно он направляется к Пуэрто-Кабельо на северном берегу Венесуэлы), то его русло преграждено скалами.
Это район больших порогов: река с ревом прокладывает путь сквозь контрфорсы, выдвинутые к востоку; таким образом, в большом сухопутном проливе[263], между Кордильерами Новой Гранады и горным хребтом Парима, окаймляющие западный берег скалы относятся также к хребту Парима.
Около места впадения Апуре Ориноко вторично и почти совершенно неожиданно меняет направление и течет далее не с юга на север, а с запада на восток – совсем так же, как в месте впадения Гуавьяре он внезапно меняет направление и течет не на запад, а на север.
Начиная от места впадения Апуре и до своего устья на восточном берегу Америки Ориноко течет параллельно своему первоначальному направлению, но в обратную сторону; его тальвег образован там на севере почти незаметным склоном, поднимающимся к прибрежной цепи Венесуэлы, а на юге – коротким и крутым противосклоном горного хребта Парима.
Вследствие этих особенностей рельефа местности Ориноко огибает одну и ту же группу гранитных гор с юга, с запада и с севера; и, пробежав 1350 миль (по 950 туазов), он оказывается в 300 милях от своих истоков. Устье этой реки расположено на расстоянии примерно всего только двух градусов от меридиана ее истоков.
С тех пор как я покинул берега Ориноко и Амазонки, в общественной жизни народов Запада произошли перемены, знаменующие начало новой эры. За ужасами междоусобной войны последовали благодетельный мир, более свободное развитие промышленности. Бифуркация Ориноко, перешеек Туамини, который так легко прорезать искусственным каналом, привлекут внимание европейских коммерсантов.
Касикьяре, река длиной в 180 миль и широкая, как Рейн, не будет больше представлять собой бесполезный судоходный путь между двумя речными бассейнами площадью в 190 000 квадратных лье. Зерно Новой Гранады начнут доставлять на берега Риу-Негру; от истоков Напо и Укаяли, от Анд Кито и Верхнего Перу суда будут спускаться к дельте Ориноко, проплывая расстояние, равное расстоянию от Тимбукту до Марселя.
В стране, в девять-десять раз превосходящей по площади Испанию и богатой самыми разнообразными продуктами земли, можно плавать во всех направлениях благодаря естественному каналу – Касикьяре – и бифуркации рек. Явление, которое когда-нибудь будет играть столь важную роль в деле создания политических связей между народами, заслуживает, конечно, тщательного изучения.
Глава X
Верхний Ориноко от Эсмеральды до впадения Гуавьяре. – Второе плавание через пороги Атурес и Майпурес. – Нижний Ориноко между устьем Апуре и Ангостурой, столицей Испанской Гвианы.
Мне остается рассказать о самых глухих и отдаленных христианских поселениях на Верхнем Ориноко. Напротив места бифуркации на правом берегу реки возвышается амфитеатром гранитный массив Дуиды. Эта гора, которую миссионеры называют вулканом, имеет в высоту около 8000 футов. Ее южный и западный склоны отвесные, и она производит очень внушительное впечатление.
Вершина Дуиды голая и каменистая; но повсюду, где менее крутые склоны покрыты перегноем, обширные леса как бы висят над обрывами. У ее подножия расположена миссия Эсмеральда, деревушка с 80 жителями. Вокруг деревни раскинулась прелестная равнина, орошаемая ручейками с черной, но прозрачной водой.
Это настоящие луга, где возвышаются рощи пальм мориция – саговых пальм Америки. Ближе к горе, расстояние до которой от креста, поставленного в миссии, составляет, по моим измерениям, 7300 туазов, болотистый луг переходит в саванну, окаймляющую нижнюю часть кордильеры.
Там встречаются громадные, восхитительно пахнущие ананасы. Этот вид Bromelia Plum. ex L., подобно нашему Colchicum autumnale L., всегда растет поодиночке среди злаковых, между тем как Karatas, другой вид того же рода, является общественным растением, как наши верески и черника. Ананасы из Эсмеральды славятся по всей Гвиане.
В Эсмеральде миссионера нет. Священник, которому поручено совершать богослужение в этой деревне, постоянно живет в Санта-Барбаре, расположенной на расстоянии свыше 50 лье. Чтобы подняться по реке, ему надо потратить 4 дня, а потому он приезжает только 5–6 раз в год. Нас сердечно принял старый солдат.
Он думал, что мы каталонские лавочники, приехавшие в миссию для торговли мелочными товарами. Увидев кипы бумаги, предназначенные для сушки растений, он улыбнулся нашей наивной неосведомленности. «Вы приехали в страну, – сказал он, – где на такой товар нет спроса. Здесь никто не пишет; сухие листья маиса, Platano (банан), Vijaha (геликония) служат нам, как бумага в Европе, для заворачивания иголок, рыболовных крючков и других мелких предметов, чтобы они не потерялись».
Старый солдат объединял в одном лице гражданскую и духовную власть. Он учил детей если не катехизису, то употреблению четок; чтобы развлечься, он звонил в колокола; и, побуждаемый горячим стремлением послужить церкви, он иногда пользовался своим певческим жезлом так, что это вовсе не нравилось индейцам.
Эсмеральда – самое знаменитое место на Ориноко по приготовлению сильнодействующего яда, применяемого на войне, на охоте и, что может несколько удивить, в качестве лекарства против желудочных заболеваний. Яды индейцев тикуна с Амазонки, упас-тиеуте с острова Ява и кураре из Гвианы являются самыми смертоносными из всех известных нам веществ.
Еще в конце XVI столетия Рэлей слышал название урари, обозначающее растительное вещество, которым отравляют стрелы. Однако никаких точных сведений об этом яде до Европы не дошло. Миссионерам Гумилье и Джили не удалось проникнуть в места, где приготовляют кураре.
Гумилья утверждает, что «его приготовление было окутано большой тайной, что главная составная часть добывалась из какого-то подземного растения, из клубневидного корня, который никогда не дает листьев и который является корнем par excellence[264], raiz de si misma, что от ядовитых испарений, поднимающихся из котлов, погибают старухи (самые бесполезные), назначенные присматривать за приготовлением яда, и что, наконец, растительный сок считается достаточно концентрированным лишь в том случае, если несколько капель его оказывают на расстоянии отталкивающее действие на кровь.
Один из индейцев делает себе легкий укол; стрелу обмакивают в жидкий кураре и приближают к месту укола. Яд признается достаточно концентрированным, если он заставляет кровь вернуться в сосуды без непосредственного прикосновения к ним». Я не стану заниматься опровержением широко распространенных сказок, собранных отцом Гумильей.
Мог ли этот миссионер сомневаться в действии кураре на расстоянии, коль скоро он безоговорочно признавал, что листья одного и того же растения могут либо вызывать рвоту, либо очищать желудок, в зависимости от того, срывают ли его стебель за верх или за низ.
Когда мы прибыли в Эсмеральду, большинство индейцев только что вернулись из путешествия, которое они совершили на восток, за реку Падамо, для сбора Juvias, то есть плодов Bertholletia Humb. et Bonpl., и лиан, дающих кураре. Их возвращение было ознаменовано праздником, называемым в миссии la fiesta de las Juvias и напоминающим наши праздники урожая и сбора винограда.
Женщины приготовили много алкогольных напитков; два дня все индейцы были пьяны. У племен, для которых плоды пальм и некоторых других деревьев, снабжающих пищей, имеют большое значение, период сбора этих плодов отмечается общественными увеселениями; счет времени ведется по праздникам, следующим друг за другом с неизменным постоянством.
Нам посчастливилось разыскать старого индейца, менее пьяного, чем остальные; он был занят приготовлением яда кураре из только что собранных растений. Это был местный химик. Мы увидели у него большие глиняные котлы, предназначенные для варки растительных соков, более плоские сосуды, где испарение благодаря большой поверхности протекает быстрее, листья бананов, свернутые конусом и служившие для фильтрации жидкости, содержащей в том или ином количестве волокнистые вещества.
В хижине, превращенной в химическую лабораторию, царили полнейший порядок и величайшая чистота. Индеец, который должен был давать нам пояснения, известен в миссии под прозвищем Хозяин Яда (amo del Curare); он держался с той чопорностью, в какой некогда упрекали европейских аптекарей, и разговаривал таким же педантическим тоном.
«Я знаю, – сказал он, – что у белых есть секреты изготовления мыла и черного порошка, отличающегося важным недостатком: он производит шум, разгоняющий животных, если в них не попадают. Кураре, способ приготовления которого переходит у нас от отца к сыну, превосходит все, что вы умеете делать там (за морем). Это сок травы, убивающий совершенно бесшумно (так, что неизвестно, откуда нанесен удар)».
Химический процесс, которому хозяин кураре придавал столь серьезное значение, показался нам весьма простым. Лиана (bejuco), употребляемая в Эсмеральде для приготовления яда, носит то же название, что и в лесах Явиты. Это – bejuco de Mavacure, в изобилии растущий к востоку от миссии на левом берегу Ориноко, за рекой Амагуака, в сложенных гранитом горах Гуаная и Юмарикин.
Хотя пучки bejuco, виденные нами в индейской миссии, были совершенно без листьев, мы не сомневаемся, что это то же самое растение из семейства чилибуховых (очень близкого к Rouhamon Aubl.), которое мы изучали в лесу на Каньо-Пимичине. Употребляют и свежий Mavacure, и сушившийся несколько недель.
Сок недавно сорванной лианы считается неядовитым; возможно, он оказывает заметное действие только в сильной концентрации. Ужасный яд содержится в коре и в части заболони. Ножом стругают ветки Mavacure диаметром в 4–5 линий; снятую кору давят на камне для растирания маниоковой муки и превращают в очень тонкие волокна. Так как ядовитый сок желтый, то и вся волокнистая масса принимает этот же цвет.
Ее бросают в воронку высотой в 9 дюймов и шириной в 4 дюйма. Из всего оборудования индейской лаборатории хозяин яда больше всего расхваливал нам эту воронку. Он несколько раз спрашивал, видели ли мы когда-нибудь por alla (там, то есть в Европе) что-нибудь похожее на его embudo[265].
To был лист банана, свернутый фунтиком и вставленный в другой, более плотный фунтик из пальмовых листьев; весь прибор был установлен на легкой подставке из пальмовых жилок и черешков. Поливая водой волокнистое вещество – растертую кору Mavacure, приступают к приготовлению холодным способом настоя. Желтая вода в течение нескольких часов капля по капле фильтруется сквозь embudo, или воронку, из листьев.
Отфильтровавшаяся вода представляет собой ядовитую жидкость, но она приобретает силу лишь после того, как ее выпаривают, подобно мелассе, в большом глиняном сосуде и таким путем концентрируют. Время от времени индеец предлагал нам попробовать жидкость; по большей или меньшей горечи судят, достаточно ли она выпарена.
В этой операции нет ничего опасного, так как кураре оказывает смертоносное действие лишь в том случае, если оно вступает в непосредственное соприкосновение с кровью. Поэтому пары, поднимающиеся от котла, не причиняют никакого вреда, что бы ни говорили миссионеры с Ориноко.
Фонтана своими прекрасными опытами над ядом, приготовленным индейцами тикуна с реки Амазонок, уже давно доказал, что пары, выделяемые этим ядом, когда его бросают на горячие угли, можно безбоязненно вдыхать и что неправильно сообщение Кондамина о том, будто приговоренных к смерти женщин убивали парами яда индейцев тикуна.
Самый концентрированный сок Mavacure недостаточно густ и не держится на стрелах. Специально для того, чтобы придать густоту яду, к концентрированному настою добавляют другой, исключительно липкий растительный сок, который добывают из дерева с широкими листьями, называемого киракагуэро.
Оно растет очень далеко от Эсмеральды, и в это время года на нем, как и на bejuco de Mavacure, не было ни цветов, ни плодов, а потому мы не можем дать его ботаническое определение. Я уже несколько раз говорил о своеобразном роке, препятствующем путешественникам изучить самые интересные растения, между тем как тысячи других, чьи химические свойства неизвестны, стоят вокруг, отягощенные цветами и плодами.
Когда путешествуют быстро, то даже в тропиках, где цветение деревянистых растений длится так долго, едва ли на одной восьмой части всех растений удается наблюдать главные стадии плодообразования.
Таким образом, мы лишь в одном случае из восьми можем надеяться, что нам удастся определить – я уже не говорю: семейство, – но хотя бы род и вид, и легко понять, что это неблагоприятное стечение обстоятельств ощущается особенно живо, когда оно не позволяет нам ознакомиться с растениями, имеющими значение не только для описательной ботаники.
Когда липкий сок дерева киракагуэро добавляют к сильно концентрированной кипящей ядовитой жидкости, последняя чернеет и сворачивается, превращаясь в массу, которая напоминает по консистенции деготь или густой сироп. Эта масса и является тем кураре, что поступает в продажу.
Слыша от индейцев, что киракагуэро столь же необходим для приготовления яда, как и bejuco de Mavacure, вы можете впасть в заблуждение, предположив, будто первое растение тоже содержит какое-то смертоносное начало, хотя на самом деле оно служит (подобно альгорове и всякому другому камедистому веществу) лишь для придания густоты концентрированному соку кураре. Изменение цвета, происходящее в смеси, обусловлено разложением углеводорода.
Кислород сгорает, и углерод высвобождается. Кураре продают в плодах Crescentia L.; так как приготовление его сосредоточено в руках нескольких семейств и так как для смазывания каждой стрелы требуется ничтожное количество яда, то кураре первого сорта, кураре из Эсмеральды и Мандаваки, продается по чрезвычайно высокой цене. При мне за две унции платили 5–6 франков.
В высушенном виде это вещество похоже на опиум; при доступе воздуха оно сильно пропитывается влагой. Вкус у кураре горький, но очень приятный, и мы, Бонплан и я, часто проглатывали небольшие порции его. Это совершенно безопасно, если вы вполне уверены, что губы и десны у вас не кровоточат. При недавних опытах Манджили над ядом гадюк один из его помощников проглотил без всякого вреда для себя весь яд, полученный из четырех больших итальянских гадюк.
Индейцы считают, что кураре, принятое внутрь, служит превосходным желудочным средством. Такой же яд, приготовленный индейцами пираоа и салиба, хотя тоже широко известный, не пользуется столь большим спросом, как эсмеральдский. Процесс приготовления, по-видимому, повсюду почти одинаков, но нет никаких доказательств, что различные яды, продаваемые под одним и тем же названием на Ориноко и на Амазонке, все тождественны и добываются из одних и тех же растений.
Так, Орфила в своем превосходном труде «Общая токсикология» совершенно правильно различает воорара из Голландской Гвианы, кураре с Ориноко, тикуна с Амазонки и все вещества, объединенные под неопределенным названием «американские яды». Может быть, когда-нибудь обнаружат единое щелочное начало, подобное морфину опиума и вокелину чилибух, в ядовитых растениях, принадлежащих к различным родам.
На Ориноко различают Curare de raiz (из корней) и Curare de bejuco (из лиан или коры ветвей). Мы видели процесс приготовления только второго; первый слабее и пользуется меньшим спросом. На реке Амазонок мы познакомились с ядами индейцев тикуна, ягуа, пеба и хибаро; добываемые из одного и того же растения, они отличаются лишь большей или меньшей тщательностью приготовления.
Яд индейцев тикуна, который благодаря Кондамину приобрел такую известность в Европе и который начали несколько неудачно называть тикуна, добывается из лианы, растущей на острове Мормороте на Верхнем Мараньоне. Этот яд приготовляется и индейцами тикуна, ведущими независимое существование на испанской территории около истоков Якарике, и индейцами того же племени, живущими в португальской миссии Лорето.
В здешних странах охотничьи племена не могут обойтись без ядов, а потому миссионеры с Ориноко и Амазонки совершенно не препятствуют такого рода производству. Названные нами выше яды совершенно отличны от ядов из Лапеки[266] и яда из Ламаса и Мойобамбы.
Я останавливаюсь на этих подробностях, потому что отдельные части растений, которые нам удалось изучить, доказали нам (вопреки общепринятому мнению), что три яда – индейцев тикуна, из Лапеки и из Мойобамбы – добываются из растений не одного и того же вида, возможно даже не родственных между собой.
Насколько кураре по своему составу просто, настолько же приготовление яда из Мойобамбы длительно и сложно. К соку bejuco de Ambihuasca, главной составной части, добавляют перец (Capsicum L.), табак, Ваrbasco (Jacquinia arraillaris Jacq.), Sanango (Tabernae montana) и млечный сок некоторых других кутровых.
Свежий сок Ambihuasca оказывает смертоносное действие при соприкосновении с кровью; сок Mavacure становится смертельным ядом лишь после выпаривания на огне, а сок корня Jatropha Manihot L. [Manihot utilissima Pohl.] от кипячения теряет всякие вредные свойства.
В очень сильный зной я долго растирал между пальцами лиану, из которой в Лапеке приготавливают ужасный яд, и у меня онемели руки; человек, работавший вместе со мной, испытал такое же влияние быстрого поглощения яда неповрежденными кожными покровами.
Я не стану здесь останавливаться на подробностях, касающихся физиологических свойств ядов Нового Света, которые убивают так же быстро, как азиатские чилибухи (рвотный орешек, упас-тиеуте и китайский боб), но не вызывают рвоты при введении в желудок и не предвещают близкой смерти сильным возбуждением спинного мозга.
Во время нашего пребывания в Америке мы послали Фуркруа и Воклену кураре с Ориноко и бамбуковые трубки, наполненные ядом индейцев тикуна и ядом из Мойобамбы; по возвращении мы снабдили также Мажанди и Делиля, столь успешно занимавшихся ядами жаркого пояса, некоторым количеством кураре, ослабленного перевозкой по странам с влажным климатом.
На берегах Ориноко употребляют в пищу только кур, убитых уколом отравленной стрелы. Миссионеры уверяют, что мясо невкусное, если не применяется этот способ. Нашему спутнику, отцу Сеа, болевшему лихорадкой, каждое утро приносили в его гамак стрелу и живую курицу, предназначенную нам на обед.
Несмотря на обычную слабость, он не желал доверить кому-нибудь другому операцию, которой придавал большое значение. Крупные птицы, например гуан (Pava de monte) или гокко, уколотые в бедро, умирают через 2–3 минуты; чтобы умертвить свинью или пекари, нередко требуется больше 10–12 минут.
Бонплан установил, что один и тот же яд, купленный в разных деревнях, обнаруживал большие различия. На реке Амазонок мы как-то достали настоящий яд индейцев тикуна, который оказался слабее всех разновидностей кураре с Ориноко.
Старый индеец, которого называли Хозяином Яда, казался польщенным тем интересом, с каким мы следили за его химическими операциями. Он считал нас достаточно умными и потому не сомневался, что мы умеем делать мыло, ибо это искусство представлялось ему после приготовления кураре одним из самых замечательных достижений человеческого гения.
Когда жидкий яд был разлит в предназначенные для него сосуды, мы отправились с индейцем на Fiesta de las Juvias. Праздник урожая Juvias, то есть плодов Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl., отмечался танцами и самым диким беспробудным пьянством. Хижина, где в течение нескольких дней собирались индейцы, представляла весьма странное зрелище.
В ней не было ни стола, ни скамьи; зато были симметрично выстроены и прислонены к стене почерневшие от дыма большие жареные обезьяны – Marimondes (Ateles Belzebuth) и бородатые обезьяны, которых называют капуцинами и которых не следует смешивать с Machi или Saї (Simia Capucina Buffon).
Способ жарения этих животных усиливает неприятное впечатление, производимое ими на цивилизованного человека. Из очень твердого дерева делают маленькую решетку и устанавливают ее на высоте одного фута от земли. Обезьяну, с которой предварительно снимают шкуру, сгибают пополам, и она как бы сидит. Обычно ее усаживают так, чтобы она опиралась на свои тощие длинные руки; иногда руки скрещивают на спине животного.
Привязав ее к решетке, внизу зажигают очень яркий огонь. Окутанная дымом и пламенем, обезьяна одновременно жарится и чернеет[267]. При виде того, как индейцы пожирают руку или ногу жареной обезьяны, трудно удержаться от мысли, что обыкновение есть животных, по своему физическому строению столь близких к человеку, в какой-то степени содействовало уменьшению среди дикарей ужаса перед людоедством.
Жареные обезьяны, в особенности те, у которых голова круглая, имеют отвратительное сходство с ребенком; поэтому европейцы, вынужденные питаться четверорукими, предпочитают отрезать голову и руки и подавать к столу лишь остальную часть туловища.
Мясо обезьян настолько тощее и сухое, что Бонплан сохранил в своей парижской коллекции руку от плеча до кисти и отдельно кисть, зажаренные на огне в Эсмеральде; по прошествии многих лет от них все еще не исходило никакого запаха.
Мы видели, как танцуют индейцы. Их танец очень однообразен, ибо женщины не осмеливаются принимать в нем участие. Мужчины, молодые и старые, берутся за руки и образуют круг; они целыми часами молча и серьезно кружатся то направо, то налево. Чаще всего танцоры сами бывают и музыкантами.
Слабые звуки, извлекаемые из тростинок различной длины, образуют медленный и печальный аккомпанемент. Чтобы отмечать такт, первый танцор ритмично сгибает оба колена. Иногда все стоят на месте и слегка покачиваются, наклоняя туловище то в одну, то в другую сторону. Тростинки, расположенные в один ряд и связанные между собой, напоминают флейту Пана, какую мы видим на вазах великой Греции с изображениями вакхических шествий.
Идея соединить тростинки различной длины и дуть в них по очереди, двигая их перед губами, очень проста и должна была возникнуть у всех народов. Мы с удивлением наблюдали, с какой быстротой молодые индейцы подбирали и настраивали такие флейты, когда им попадался на берегу реки тростник (Carices).
Во всех странах люди, живущие в естественном состоянии, извлекают большую пользу из этих злаковых с высокими стеблями. Греки справедливо говорили, что тростник способствовал покорению народов, так как из него делали стрелы, смягчению нравов чарующей музыкой, развитию знаний, так как он служил первым приспособлением для начертания букв. Эти различные применения тростника отражают, так сказать, три периода жизни народов.
Племена Ориноко, несомненно, находятся на первой ступени рождающейся цивилизации. Тростник им служит лишь орудием войны и охоты, и флейты Пана на этих далеких берегах не издают еще звуков, способных пробудить нежные человеческие чувства.
В хижине, предназначенной для празднества, мы увидели много растительных продуктов, принесенных индейцами с гор Гуаная и привлекших наше внимание. Я остановлюсь здесь лишь на плодах Juvia, на тростнике удивительной длины и на рубахах, сделанных из коры Marima. Almendron, или Juvia, одно из самых величественных деревьев в лесах Нового Света, до нашего путешествия на Риу-Негру было почти неизвестно.
Оно начинает попадаться на расстоянии четырех дней пути к востоку от Эсмеральды, между реками Падамо и Окамо, у подножия Серро-Мапая, на правом берегу Ориноко. Еще больше растет его на левом берегу у Серро-Гуаная, между реками Амагуака и Гехетте. Жители Эсмеральды уверяли нас, что выше Гехетте и Чигуире Juvia и какаовые деревья настолько широко распространены, что дикие индейцы (гуайка и гуахарибо blancos[268]) совершенно не трогают урожая, собранного индейцами миссий.
Они не питают никакой зависти к ним из-за даров, которыми природа щедро наделила их собственную землю. Культуру Almendrones тщетно пытались ввести в поселениях на Верхнем Ориноко. Лень обитателей препятствует этому еще больше, чем быстрота, с какой горкнет масло в миндалевидных семенах. В миссии Сан-Карлос мы видели только три дерева, а в Эсмеральде – только два. На этих величественных стволах в возрасте 8—10 лет цветов еще не было.
Начиная с XVI столетия в Европу привозили небольшие drupa[269] в форме кокосовых орехов, содержащие миндальные зерна, а семена в треугольной деревянистой оболочке. Последние я видел на довольно несовершенной гравюре Клюзия. Этот ботаник называет их Almendras del Peru, возможно потому, что их, как очень редкие плоды, доставляли на Верхний Мараньон, а оттуда через Кордильеры в Кито и Перу.
В Novus Orbis Яна Лаэта, где я обнаружил первые сведения о коровьем дереве, содержится также описание и очень точное изображение семени Bertholletia Humb. et Bonpl. Лаэт называет это дерево тотоке и упоминает о drupa величиной с человеческую голову, содержащей миндальные семена. Плоды такие тяжелые, говорит он, что дикари никогда не решаются войти в лес, не прикрыв голову и плечи щитом из очень твердого дерева.
Индейцам из Эсмеральды такие щиты неизвестны, но и они говорили нам об опасности, которой подвергаются люди, когда плоды созревают и падают с высоты 50–60 футов. В Португалии и Англии треугольные семена Juvia продают под туманным названием каштаны (Castanas) или орехи из Бразилии и с Амазонки, и долгое время полагали, что, подобно плоду Pekea [Caryocar L.], они растут по отдельности на черенках.
Жители Гран-Пара последнее столетие довольно оживленно торгуют ими. Они отправляют их либо непосредственно в Европу, либо в Кайенну, где их называют тука. Знаменитый ботаник Корреа де Серра говорил нам, что Bertholletia Humb. et Bonpl. встречается в изобилии в лесах по соседству с Макапой, близ устья Амазонки, что там она носит название капукая и что местные жители собирают ее плоды, как и плоды Lecythis Loefl., чтобы выжимать из них масло.
Груз плодов Juvia, захваченный капером в 1807 году и привезенный в Гавр, был использован для той же цели.
Дерево, дающее бразильские каштаны, обычно бывает диаметром всего в 2–3 фута, но в высоту достигает 100–120 футов. По внешнему виду оно не похоже ни на Mammea L., ни на Chrysophyllum cainito L., ни на многие другие тропические деревья, у которых ветви (как у лавровых в умеренном поясе) поднимаются почти прямо к небу. У Bertholletia ветви широко раскинутые, очень длинные, почти голые у основания, а у верхушек покрытые близко сидящими пучками листьев.
Вследствие такого расположения полукожистых, снизу слегка серебристых листьев длиной свыше двух футов ветки клонятся к земле, как это происходит со стрелами (вайями) пальм. Мы не видели цветения этого величественного дерева. Цветы появляются на нем на пятнадцатом году жизни, начиная с конца марта и до начала апреля. Плоды созревают к концу мая; на некоторых деревьях они сохраняются до августа.
Так как плоды бывают величиной с голову ребенка, нередко диаметром в 12–13 дюймов, то, падая с верхушки дерева, они производят очень сильный грохот. Я не знаю зрелища, способного привести в большее восхищение органическими силами в равноденственной области, нежели большие деревянистые околоплодники, например плод приморской кокосовой пальмы (Lodoicea Comm. ex Jaume) из числа однодольных и плоды Bertholletia и Lecythis Loefl. среди двудольных.
В нашем климате только тыквенные дают за несколько месяцев плоды необычайного размера, но эти плоды мясистые и сочные. В тропиках на Bertholletia меньше чем за 50–60 дней образуется плод, деревянистая оболочка которого имеет полдюйма в толщину и который с трудом можно распилить самыми острыми инструментами.
Великий натуралист[270] уже отметил, что древесина плодов обычно отличается такой твердостью, какой никогда не достигает древесина ствола. В плоде Bertholletia мы находим зачатки четырех семенных гнезд; иногда я насчитывал их до пяти. У семян две совершенно ясно различимые оболочки, и это обстоятельство делает строение плода более сложным, чем у Lecythis Loefl., Pekea (или Caryocar L.) и у Saouvari.
Первая оболочка костяная или деревянистая, треугольная, бугорчатая на наружной поверхности и цвета корицы. 4–5, иногда 8 таких треугольных орехов прикреплены к центральной перегородке. Со временем отделившись от нее, они свободно движутся по большому шарообразному околоплоднику.
Обезьяны-капуцины (Simia chiropotes) очень любят бразильские каштаны; одного только шума, производимого семенами, когда трясут упавший с дерева плод, достаточно, чтобы возбудить до предела аппетит этих животных. Чаще всего в одном плоде я находил не больше 15–22 семян.
Вторая оболочка миндальных зерен перепончатая и желтовато-бурая. На вкус они исключительно приятны, пока свежие; однако масло, содержащееся в них в большом количестве и делающее их столь полезными для хозяйственных нужд, быстро горкнет. На Верхнем Ориноко из-за недостатка продовольствия нам часто приходилось есть помногу этих орехов, и мы никогда не ощущали никаких неприятных последствий.
Верхушка шарообразного плода Bertholletia имеет отверстие, но не растрескивается; верхний, расширяющийся конец столбика образует (по Кунту) нечто вроде внутренней крышечки, как в плоде Lecythis Loefl., но сама по себе она не раскрывается. Многие семена вследствие разложения содержащегося в семядолях масла теряют способность к прорастанию, прежде чем в период дождей деревянистая оболочка плода раскроется в результате гниения.
На берегах Нижнего Ориноко широко распространена басня, будто обезьяны-капуцины и Cacajao (Simia chiropotes и Simia melanocephala) становятся в круг и бьют камнем по плодам, пока им не удастся их раскрыть и извлечь треугольные семена.
Это представляется невероятным вследствие исключительной твердости и толщины оболочки плода. Возможно, кто-нибудь и видел, как обезьяны катали плоды Bertholletia; но хотя в них есть отверстие, к которому прилегает верхний конец столбика, все же природа не дала обезьянам столь же легкого способа раскрывать деревянистую оболочку Juvia, каким они пользуются для снятия крышечки Lecythis Loefl., называемой в миссиях крышечка обезьяньего кокосового ореха[271].
По словам нескольких вполне достойных доверия индейцев, только мелким грызунам, в особенности агути (Acuri и Lapa)[272], благодаря строению зубов и непостижимому упорству, с каким они добиваются цели при своей разрушительной работе, удается продырявить плод Bertholletia. Как только треугольные семена высыпаются на землю, сбегаются все лесные звери; обезьяны, манавири, белки, Cavia, попугаи и ара оспаривают друг у друга добычу.
Они все достаточно сильны, чтобы разбить деревянистую оболочку; они извлекают содержимое и уносят его на верхушку дерева. «У них тоже праздник», – говорили индейцы, возвращавшиеся со сбора; и, слушая их жалобы на животных, вы чувствуете, что они считают себя единственными законными хозяевами леса.
Одна из четырех пирог, на которых индейцы ездили для сбора Juvia, была почти целиком наполнена тем видом тростника (Carice), что идет на изготовление сарбаканов. Тростник был длиной в 15–17 футов; однако мы не могли на нем различить ни одного следа узлов, служащих для прикрепления листьев и веток. Он был совершенно прямой, гладкий снаружи, идеально цилиндрической формы.
Эти Carices растут у подножия гор Юмарикин и Гуаная. На них существует большой спрос даже за Ориноко, где они носят название тростника из Эсмеральды. Охотник всю жизнь хранит один и тот же сарбакан. Он хвастается его легкостью, точностью боя и лоском, как мы хвастаемся теми же качествами нашего огнестрельного оружия.
Какое же однодольное растение[273] дает этот прекрасный тростник? Были ли это действительно междоузлия (internodia) злака из подсемейства Nostoideae или, может быть, этот Carice не что иное, как какое-нибудь осоковое[274], лишенное узлов? Я не берусь решить этот вопрос, как не могу определить род, к которому принадлежит другое растение, употребляемое для изготовления рубах Marima.
На склоне Серро-Дуиды мы видели рубашечные деревья высотой свыше 50 футов. Индейцы вырезают из них цилиндрические куски диаметром в 2 фута и снимают красную волокнистую кору, тщательно следя за тем, чтобы не сделать продольного надреза. Эта кора служит им чем-то вроде одежды, напоминающей мешки без шва из очень грубой ткани.
Верхнее отверстие предназначено для головы; чтобы просунуть руки, делают две боковые дыры. Индеец носит рубахи Marima во время сильного дождя; они имеют форму poncho или ruana[275] из хлопчатобумажной ткани, столь распространенных в Новой Гранаде, Кито и Перу.
Так как в здешних странах богатство благодетельной природы считается основной причиной лени жителей, то миссионеры не упускают случая говорить, указывая на рубахи Marima, что «в лесах Ориноко совершенно готовая одежда растет на деревьях». В добавление к рассказам о рубахах можно упомянуть еще про остроконечные шапки из цветочных влагалищ некоторых пальм, похожие на шапки из редкой ткани.






