В Петербурге летом жить можно… Крыщук Николай
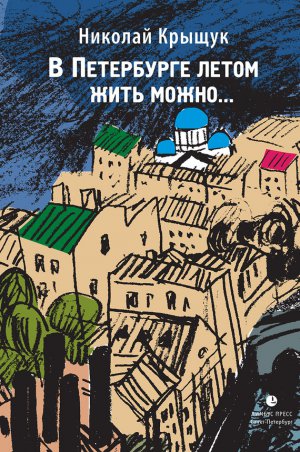
И всегда везде одинаковые. Мне плохо там, где я есть.
А мне ведь уже тридцать два. Тридцать два ноль-ноль. Скоро будет тридцать семь – красная черточка на градуснике. Потом сорок – полубред, полутьма, и сорок два – никаких амбиций, простите, прощайте, больше не получается.
Ну вот, ты видишь, какая я ужасная? Вру, конечно, что себя ненавижу, но все же в чистые минуты – нена ви ж у.
В сущности, США – мое место. Каждый живет сам по себе, любит себя, руководит собой, сам с собой справляется. И все хороши, потому что справляются сами с собой, на ноги не наступают. Так жить, кажется, не трудно. Легче, чем в сознании чудовищного одиночества, которое толкает на безумные откровения и невозможную близость. Но в себе я это уже воспринимаю как невоспитанность. Так что я их поля ягода.
Кажется, я никого по-настоящему не люблю. Просто отравлена грудным молочком российского дружества.
В чем же я упрекала и разоблачала тебя? Смешно вспомнить. Ты, видишь ли, показалась мне такой мамой морали, не ханжой, а просто самоурезанным в правах на безумие человеком. Ты не решаешься не от нерешительности, а от презрения к собственному преступлению, которое всегда грозит пошлостью и развалом. Боишься (и правильно) невсамделишности. А главное (вчера я этого не понимала), что дорога, усеянная пусть не самыми дорогими, но трепетными все же существами, будет скользкой, неудобной и ранящей. И за это-то надо было упрекать?
Все – насмарку. Душа – на замок. Для себя – только слезы и глоточек терпкой фантазии.
Я не смею обижаться – знаю. Но даже обеспеченность смертью меня обижает. Больше того, оскорбляет. Хотя… оскорбляет – это все же не про меня.
Помнишь, мы ходили с тобой по Фонтанке, где стояли буковки рыболовов, и мы казались друг другу прекрасными взбалмошными дамами, немного утомленными обилием выбора?
Мужичок стоял у пивной в ленинских ботиночках. Наскреб с трудом на маленькую пива. Только примерился, вдруг его какой-то громила спрашивает: «Сколько времени, старик?» А он кисть руки с бесценной кружкой повернул, чтобы увидеть циферблат, и ответил: «Полшестого».
Целую. Твоя Т.
P. S. Потом не раз слышала это в виде анекдота. И все были уверены, что его сочинил народ.
Письмо четвертое: Лиза – Тамаре
Томка!
Хочу ответить тебе и не могу. Хотя ты, по правде говоря, ни о чем и не спрашиваешь. Что ответить? Картинки не совпадают.
Сейчас шла домой – старушка с лицом Андерсена выметает мусор из решетки для ног. То есть, как у Ганса, нос дюреровский, а глаза белесые, вывалились в сказку. Метет так, будто не метет, а мечтает и вери т.
В магазинном окне – герань. Хочется зайти на чай. Я вдруг вспомнила, что ноги у меня худые, а глаза лукавые. Под видом строгости. У старушки тоже жизнь была не маленькая, я думаю.
Боюсь тебя обидеть своим откровением. Но уж скажу – расстояние откровению способствует.
Знаешь ли ты, что о твоем желании любви каждый мускул говорит, меняется оттенок глаз, вдруг какая-то томность или капризность проступают, если надо – вульгарность. Ты приглашаешь в игру с известными правилами.
А вот теперь вообрази, девочка, что у меня и поклонников и любовников было во много раз больше, чем у тебя. Даже ты, близкая подруга, не знаешь об этом.
Под каждый мой новый роман подстелена легкая грусть. В организме миллиарды клеток. Дай бог, две-три откликнутся клеточкам другого. А еще, что называется, – душа. Это уж вообще невероятно. Он, если циник, и сам знает про это. Но чаще-то ведь бедолага, романтик. Ему кажется, что все совпало и что судьба. Он ведь не знает, что во мне есть мрак. Ему и его хочется иметь? Получается нечестное удовольствие. С моей стороны.
А не проигрывала я никогда, потому что всегда уходила первой. Этот же (другой) всегда был уверен, что обольстил и взял. Скромную такую и недоступную.
Никогда никого не разочаровывала.
Это не цинизм, пойми. Природа хотела, я соглашалась. Но не заблудилась ни разу и ни разу не сошла с ума. При этом семью продолжала любить с ровной мужественностью, строя и оберегая. Суховато, но нежная влага для глаз всегда была рядом, как в аптечке. Пользуюсь.
Вот и получается, что не ты страшненькая, страшненькая я. Мало того, что не люблю, но и не верю. А при этом все время в отношениях и в каком-то градусе. И им все кажется, а мне нет. Им всем хочется, и мне тоже. Деревья как бы светски отряхиваются и становятся голыми. Я одеваюсь и иду гордой походкой по магазинам. «Здравствуйте, детки! Мама Лиза пришла, молочка принесла». Мир и покой. Комары только ночью спать не дают.
Зеркало все проедено моими глазами. Откуда я такая?
Купила тут по дешевке книгу Отто Вейнингера «Пол и характер». Известный был юноша в начале века. Говорят, гений. Как догадался?
Он утверждает, что женщина никогда не достигает сознания своей судьбы, что в ней не может быть трагизма, потому что она всецело зависит от предмета своей любви. У женщины к тому же отсутствует логика, потому что ей чужда непрерывность (?). Когда же мужчина стремится обосновать свое суждение, она смотрит на него как на идиота (вот это верно). Логика же в руках женщины не критерий, а палач (ну этим-то, я думаю, страдали бы и звери, если бы у них был интеллект, независимо от пола). Впрочем, у женщины, ко всем грехам, отсутствует интеллектуальная совесть (sic!).
Нехитрым путем автор приходит к выводу об аморальности женщины. Неудивительно, что он покончил с собой в персиковом еще возрасте, подписав тем самым приговор своему уязвленному романтизму.
Томка, у нас начался учебный год. Я люблю своих задумавшихся после лета ребятишек. Я не вру им. Во всем моем поведении есть, стало быть, некая норма и правда. Но еще ведь и это вот! Либо мы не только люди, либо и это тоже человеческое?
На моих губах столько поцелуев, что я иногда боюсь прикасаться к Тошке. Столькие трогали меня, что я боюсь себя перед мужем выдать взглядом. А сама я все та же – маленькая, самостоятельная, старательная ученица. И никак всего этого не примирить.
P. S. В нашем палисаднике кто-то обронил семечку – растет подсолнух. Маленький, как детский кулачок. Я люблю его больше, чем пышнотелую герань. Никогда они не поймут друг друга. Хотя оба – растения.
Л.
Письмо пятое: Валера – Лизе
Радость моя!
Почему мы столько уже в разлуке и ни разу не решились написать друг другу? Неужели из трусости? Я думаю, вполне может быть, что и из трусости. На бумаге в каком-то смысле есть опасность открыться больше, чем в постели. А может, с любовью и всегда так: сначала ей отдаются слепо, выпадают из жизни в ее объятия. Потом возвращается сознание – хозяин наш – и не узнает: «Ты кто?» Затем уж и все существо, во сне, можно сказать, плененное, начинает возмущаться: «По какому праву?» Наконец, ее изгоняют.
Я уж говорил, что сбежал в Америку от твоей нелюбви, от твоей кончившейся любви. Хотя ум мой, вполне прагматичный, говорит: «Так не бывает».
Вспоминаешь ли ты эти наши первые с тобой замечательные дни путча? Тамара кружилась в ультрарадикальной богеме и была все время пьяна. История, вспомнив ремесло, снова строила баррикады и разворачивалась в каре.
Но природа, как и большинство обывателей, путч проморгала. Мужчины ходили в задумчивых после утюга рубашках, девочки округляли губы для итальянского мороженого, исправно мигали светофоры, и осень уже начала сорить. Как при Муссолини, как при Гитлере, как при Сталине. А мы, обделенные гласностью любовники, голые, курили в полутьме квартиры.
У меня ведь до той ночи ничего подобного не было. Мне и так хватало.
Вот я вижу твою улыбку. Я научился ее вычислять. Сейчас она, вероятно, относится к выражениям «ничего подобного». Да?
Когда я тебя впервые увидел – задолго до путча, женихом, на Томкином дне рождения, – внимательные глаза и что-то как бы аристократическое в лице, что заставляло помнить о расстоянии. Фамильярность невозможна, это ясно. А близость?
До этого у меня были короткие романы, вдохновенное вранье, глубокий со вздрагиваниями сон и душ, душ, заглушающий сквернословия. Такой тип невинного развратника. Ты мне открыла то, о чем я знал по некоторым взрослым книгам, прочитанным в детстве.
Тома не знает этого. Ее примиряет с жизнью всякая нежность, пока она не почувствует потребности вызвать следующую каким-нибудь своим необыкновенным капризом.
Ну, ты ведь, Лизонька, знаешь ее! Надеюсь, ничего худого я не сказал, потому что очень ценю ее верность и любовь.
У нас здесь для туристов по тротуарам жирной краской начертаны экскурсионные маршруты. Даже дикарь не заблудится. У меня иногда ощущение, что я большую часть жизни ходил по таким вот полоскам, глазел и скучал невероятно. Потом случилась та ночь, грохот строящихся баррикад за окном и мы, выскочившие к ним, небрежно одаренные. Ночь свежей гребенкой прошлась по нашим волосам, и началась другая жизнь. Но ты почужела и растворилась чуть ли не вместе с утром.
Почему-то особенно помню, как ты перед расставанием вдруг сама купила себе цветы. Мне представился некто обожаемый тобой, может быть, семейный, и необходимо было, идя к нему в дом, соблюсти приличие, но с тайной подоплекой рдеющего поклонения.
Кошмар немыслимых измен обложил меня хвоей: зачем? Кому?
– Себе, – ответила ты наутро.
Я дарил тебе цветы, но по вдохновению, а не для ритуала. Боялся поскользнуться на общем месте любви. Каков дурак?
Вспомнился почему-то приятель. Речь его вся соткана из остроумия. Оно разукрашивает грусть глаз и немного наигранную беспомощность, которыми он обольщает женщину, чтобы вскоре под предлогом философски осмысленной бесперспективности ее оставить. Но однажды я наблюдал его в общении с женщиной, которую он глубоко и трудно любит. Как он был тягостно немногоречив, как ненаходчив в разговоре и коротко груб. Каждый, кто знал его в другой обстановке, решил бы, что он безнадежно, скорее всего, психически болен. Она, не задумываясь, изменила ему с его провинциальным другом, который мастерил для нее бумажных птичек.
Прощай. Я еще напишу тебе, если ты не против.
Валера.
Письмо шестое: Лиза – Валере
Хороший Валера, хороший! Ну почему ты такой хороший? Ну почему я тебе не могу признаться в гадком не то что поступке – даже в мысли? Знаешь, как это обедняет отношения?
Например, сейчас я бы хотела тебе признаться, что признаваться мне не в чем. Полоса лени. Даже изюм не хочется из батона выковыривать.
Хочется лениво болтать о том, как наши генералы обмениваются в суде рублями, хочется сосредоточиться на щекотке в ухе, на потрескивании обоев, бесконечно повторять незнакомое слово Сарыкамыш… Но ты ведь меня, пожалуй, пожалеешь, вместо того, чтобы презреть. А у меня уж вот глаза закислились, и мушки вокруг них кружатся, кружатся…
Удивляюсь, что твое письмо нашло меня, ведь я – девушка без адреса. Каждый день возвращаюсь домой усилием воспоминания.
Тут как-то увидела себя со стороны. Идет – полусапожки замшевые, цвета гречи. Болотного цвета чулки. Такой же макинтош с капюшоном. Свитер черный. Волосы рыжие. Идет и хмурится. Так себя понимает.
Никому и в голову не придет, что придумано давно, а только надевано сегодня. Хмурюсь же оттого, что хочу вспомнить, откуда вышла и куда должна прийти. Первую фразу придумываю на лестнице, чтобы свою плавкость не обнаружить.
Ты счастливый – помнишь меня какой-то еще. Но мне-то уж в этот контур не вписаться. А теперь представь, что какая-то убогая, лицо некрасивое, кричит на своего мальчика так, как будто он и является причиной ее общей неудачи. По поводу каблуков, например, стертых неправильной походкой. Ты меня узнаешь?
Позавчера Тошку устраивала в спецшколу. Сидим, хрустим целлофановыми обертками роз. Коробка конфет в сумке греется. Фантазии-то нет. А тут возьми и выйди директриса с впередсмотрящим носом. А к ней молоденькая учительница. Брат, говорит, погиб по пьянке. Надо хоронить. Мне бы, говорит, первого сентября прогул за свой счет. Та покачивает головой: «Первого сентября? Не знаю, не знаю». Учителка же с крестьянской родословной: «Родственники все приехали». Дура! А мегера коротко: «Смотрите сами. Как вам ваша совесть подсказывает». И приоткрыла дверь для очередного взяткодателя.
Думаешь, ушла? Думаешь, не отдала сына в лапы леопарда, попросив до этого съесть для аппетита коробку вишни в шоколаде?
Не ушла. Отдала. Потом выпила на углу смертельный стакан фальшивого «Варцихе». Я ведь теперь пью, Валера.
Ну вот, не получается письма, а еще весь оборот листа остался. Рассказала бы тебе какую-нибудь байку, но получится знаешь как? Баба мне: «Ты это что?..» А я ей: «Тэ-тэ-тэ…» А она мне: «Заткни граммофон!» А я ей: «Что-о?»
Если бы ты заехал на денек, я бы показала тебе свитер, который вяжу. Нет, вяжу – не то слово. Осуществляю мечту.
Лет в четырнадцать в октябре я оказалась в Ялте. Родители, кажется, отпросили в школе для безопасности собственного отпуска. Пляж узенький, галантерейно-кабацкая набережная. Гремит музыка, мигают витрины, дамы заливаются смехом.
Отцу позволено пиво, поэтому идем. Он в договорной завязке и может позволить купить себе меднокопченого леща. Мне дают полизать лопающуюся пенку и пригубить. А я уж давно не с ними. Потому что напротив…
Напротив – Он. Мне четырнадцать. А с ним – Она. Ненавижу. То есть, завидую и примериваюсь.
У него – борода.
С тех пор мужчины без бороды – это либо шутовство, либо подчеркнутый отказ от случайных знакомств.
Глаза такие яркие – в столе отражаются. Море за его спиной пенно заворачивает волны. Волосы на руках выцвели. Он взял носовой платок, вытер стол и бросил платок в корзину. Все говорят, а он только хмыкает. Фантастика!
Да. Так вот свитер был на ней. Он с голыми руками, а на ней свитер. Дымчатого цвета. На груди дымчатое же, но розовое солнце. И грудь изнутри волнует его, как море. А Он… Он будто бы и не смотрит на нее, но весь там. Мне ужасно захотелось спрятаться в этот миг у нее под свитером.
В общем, что тебе сказать? Овладеваю новым ремеслом. Цвета подобрала, сильно переплатив. Солнце изобразить просто, но навязав его сверху. Не то. Там был ровный слой. Не помню уже ни ее, ни его – это помню. А для такой вязки нужен математический расчет: серое – розовое-розовое – серое. Серое – розовое-розовое – серое. Заказать-то ничего не стоит, но я сама хочу.
Вообрази, и сейчас ревную – кто ей-то просчитал?
Дорогой! Спасибо за доброе письмо. Дружбы на свете гораздо меньше, чем не-дружбы. Помнишь, мы встретились в магазине, ты поднес до самой двери мои сумки (лифт был испорчен) и страшно вспотел. Если б ты знал, как я помню и ценю все это.
Лиза.
Письмо седьмое: Тамара – Лизе
Милая Лизанька!
Я прямо еще опомниться не могу – как ты позвонила! Спасибо, что вспомнила, спасибо, что поздравила. Небось, будильник ставила? Поспела к самому столу. Как подглядела.
Минут через тридцать после твоего звонка к нам нагрянули Димка с Викой и Сашенькой. Они из Москвы, ты их, может быть, даже видела у нас. С Викой мы замечательно проболтали до утра. У нее роман с начальником, искусственный выкидыш, тоска и полный раздрай.
А Димка! Нет слов. Глаза бирюзовые и орлиные. Поедает. При этом улыбается дружественнее друга. Мы с ним давно симпатизируем друг другу, жаль, что они здесь проездом. Я почти забыла о них, а теперь буду скучать.
Они уехали после завтрака. Сейчас, когда пишу, ночь, и я вдруг поняла, что из неизгладимых впечатлений самое неизгладимое – их Сашенька. Потому что ему внятно было наплевать на Америку. Нужен был друг – не какой-то один-единственный, а на сейчас, любой. Не знаю, как описать тебе мои чувства, оттого что я не родила ему друга. Он был ему очень нужен!
Роскошный беспризорник при любящих родителях. Независимый, раскованный, как бы хамоватый и при этом глубоко и неподдельно почтительный. Во всяком случае, к женщине.
Мне вдруг через него показалось, что словечко «как бы» – это нынешний стиль в Москве. Я снова отчаянно заскучала.
Он говорит на новом непереводимом жаргоне, нашпигованном каламбурами: Бомж Бруевич, Ой ли Лукой ли, Чаща всего, Вообще Бессмертный, портвейн «Как дам!»… Но дело в том, что, ловя кайф от словесной игры, он одновременно сознает ее невысокую пробу, произносит закавыченно, будто цитирует, успевает донести, раздражить и усмехнуться одновременно. В общем, не мальчик, а балет с субтитрами (его выражение).
Вспоминая его, я испытываю что-то… у чего нет определения и что мы в силу убогой лексики и торопливости называем любовью. В декабре Саше исполнится четырнадцать.
Какое-то странное равенство запланировано Богом – всем недодано. Все человечество – это одна партия, партия терпящих от любви. Каждый «шел в комнату – попал в другую». И никакое разумное перераспределение жилплощади невозможно.
Помнишь спектакль в университете, который поставил Ося? Музыка на евтушенковские «Идут белые снеги». Вальс. С разных сторон сцены выходят навстречу друг другу юноши и девушки. С протянутыми вперед руками. Сомнамбулически. Предназначенно. И столь же предназначенно он проходит мимо нее, оставляя одну с неподъемной охапкой воздуха. Мы и не заметили – позади этой стояла другая, и он шел к ней.
Вальс. Вальс.
Но мы уже понимали, что когда кончится вальс, кончится все и для тех. Я тогда выбежала из зала, чтобы никогда этого не увидеть.
Мой сурок любит меня, хотя и стал в последнее время какой-то отвлеченный. Если бы я его не знала, подумала бы, что у него есть другая. Рационально я понимаю, что в его душе тоже какие-то гольфстримы протекают, но никогда я эти гольфстримы представить не могла. И живу, в сущности, неизвестно с кем.
На твои откровения я не отвечаю. Бесенок, конечно, всегда чувствовался в тебе. То, что я тебе наплела, у меня и у самой-то не вызывало большого доверия. Но ты какая, однако, скрытная!
Не сердись, Лизанька. Днями тебе позвонят и передадут посылку – носи на здоровье. К лету я хочу со браться с финансами и приехать. Уж как я обниму тебя!
Твоя Т.
Степь
История, которую хочу рассказать, называется «Степь». Слово, при нашей напитанности англицизмами, какое-то не любо родное. Плоское, как подошва. Бедное и грубоватое.
В действительности же слово – восхитительное и точное. С этим одним слогом пусть какой-нибудь другой язык попробует справиться!
Есть степь сама по себе и есть «Степь» Чехова. Специально открыл книгу, спустя тридцать лет. Вот: «Летит коршун над самой землей, плавно взмахивая крыльями, и вдруг останавливается в воздухе, точно задумавшись о скуке жизни, потом встряхивает крыльями и стрелою несется над степью, и непонятно, зачем он летает и что ему нужно…
Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник. Вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, перебежит дорогу суслик, и – опять бегут мимо глаз бурьян, холмы, грачи…»
Какой простой писатель Чехов, подумаешь. Не нужны ему никакие тригонометрические достижения нынешней стилистики. А, может быть, они и не нужны? Он, во всяком случае, обходился арифметикой. Как известно, вполне достойно.
Но – история… Смешно было бы увидеть в ней событие, но, пожалуй, еще глупее было бы события не замечать.
Позабытое, партийное, беспризорное, студенческое слово «целина». Я был на целине, студентом. Строили коровник. Однажды, трое энтузиастов, остались мы на стройке, чтобы собрать и укрыть на случай дождя все инструменты, выскоблить цемент из ящика, отключить электричество. Остальных увезли на машине.
А компания собралась не простая. Со мной остались еще две целинницы и обе – Любы. Люба-1 была влюблена в меня. В Любу-2 я был влюблен. По иронии судьбы они были еще и невероятно похожи друг на друга. Как такой расклад случился, сам не знаю. Люба-2 была, кажется, немного скуластее и ножки у нее были миллиметра на два короче. Еще она любила лужи. Повод для любовного предпочтения вполне достаточный.
Исполнили мы всё, воодушевленные этой любовной неразберихой, как надо, и отправились домой. Часов девять, наверное, было. Закат лимонный на горизонте как-то постепенно застлался косматыми тучами и пошел дождь.
Мы идем, смеемся. Даже забавно. Нам же по девятнадцать. То есть, дождь – тоже приключение. Будет о чем рассказать. И степь – приключение.
Но вот никакой там, по Чехову, ракши на верхней ветке. Сказочник он был все же, при всем своем, иногда, цинизме. Ракша (для тех, кто внимательно читал Чехова) – это зеленая ворона. У меня такое впечатление, что он ее, как и я, увидел в словаре. Потому что никакой ракши в натуре нет. Степь и степь.
Степь и степь кругом. Дождь неторопливый. Без конца и без края. Да что там – природа и слов-то таких не знает.
А нам уже и почесать ногу о ногу невозможно, потому что промокли насквозь. Знобит.
Мы с дороги как-то сошли (за цветочками, наверное) и теперь идем явно не в ту сторону. И никаких по пути верстовых столбов, никакой ракши, хотя бы. Степь же, сковородка эта, остывает моментально. И темнеет быстро.
А Люба-1 меня любит по-прежнему. Хотя нам с ней совсем не интересно уже соприкасаться плечами. Но мы еще стихи сочиняем.
Такое время было.
Люба-1: Когда-то все умрут на свете люди.
Люба-2: И это все случится где-то вдруг.
Ну, умница! Однако очередь моя.
Я: И от всего останется на блюде
Один ублюдочный урюк.
Любы засмеялись, конечно. В одиноком пути вообще легко выглядеть остроумным.
«Причем здесь урюк?» – спросила Люба-1.
«Откуда я знаю? Кто-то забыл его, вероятно, вдруг где-то умерев».
Плыть в этом вертикальном озере дождя скоро стало невыносимо. Все тело оказалось в царапинах, которые начали пощипывать и попискивать.
Мы принялись раздеваться и не заметили, как разделись совсем, оставив на себе только полоски трусиков. Два белых пятна хлюпали рядом со мной, не вызывая ни желания, ни любопытства.
Стало и впрямь немного легче. Будто мы заговорили с природой на одном, ее, то есть, языке, без посредников.
Сквозь монотонный шепот дождя неожиданно донеслись какие-то голоса. Скоро мы увидели трех казахских мальчиков, пляшущих вокруг сидящего коня. Черный круп коня светился неизвестно откуда взявшимся светом.
«Ребята, где здесь ближайшая деревня?» – спросил я.
«Вставай, дурень!» – кричали они и пинали коня ногами. При этом дико, разыгрывая между собой какой-то спектакль, хохотали.
Наш первобытный вид их ничуть не удивил.
«Кто же это знает, дяденька?» – ответил один, в слипшихся шароварах, сутуля свои, мечтающие уже о гордом размахе, плечи.
«Но вы-то сами откуда?»
«Мы – от кудыкиной горы?» – ответом был снова истеричный смех.
Люба-2, между тем, подошла к коню и прилегла на его светящийся круп. Конь не дремал, не умирал, сидел гордо, если гордо вообще можно сидеть. Он смотрел перед собой старыми седыми глазами. Когда Люба-2 предложила ему свою голову, он заржал легонько, даже содрогнулся, но быстро успокоился, привыкнув к ласке.
«Пошли», – сказала Люба-1 Любе-2.
«Пошли, – сказал я. – Мы ведь все же когда-нибудь дойдем».
«Нет, мне с ним теплее. С ним я не замерзну. Я совсем замерзла».
Я подумал, что она права и даже позавидовал этому ее решению.
Вид обнаженной женщины, приобнявшей коня, мне показался вдруг успокоительно точным, правильным, и как бы обещал спасение.
«Ну и ладно», – сказала Люба-1.
«Ты только никуда не уходи, – предупредил я. – Мы сразу за тобой приедем».
И мы пошли дальше с Любой-1, которая меня любила.
Степь еще отдавала свое нажитое за день тепло, и ногам было приятно. Курганные захоронения мы огибали. Я вдруг увидел, как из Любиных стройных ног рождаются неоправданно полные бедра и подумал: «Они ведь ни для чего не нужны». Вспомнил, впрочем, как кто-то говорил, что широкие бедра удобны при родах.
На нашу студенческую стоянку мы набрели еще до света. Комиссар, командир и дежурная Тина ждали нас с чаем и спиртом.
Любу-2 привезли буквально через пять минут. Она удивленно напяливала что-то на себя, видя, что мы уже одетые.
Уголь в топке горел, как всегда, плохо.
Мы смотрели друг на друга чужими глазами и, посмеиваясь, вспоминали наше путешествие. Я с сожалением подумал, что был невнимателен к своим спутницам в темноте. Коленка одной из них, выступившая из-под халата, столько во мне сразу разбудила разнообразных мечтаний. Она была до румянца отлежана другой ногой, которая теперь оказалась внизу. Но указать, кто из них Люба-1, а кто Люба-2, я не смог бы даже на спор.
Окно немного уже отскоблилось от сажи. Утро серенькой походкой стало ходить по комнате. Пора было и на работу.
Вперед на пятьсот километров назад
Как начинается весна, мне известно. Сон обрывается скрипом вдруг заговоривших качелей. Им откликаются на поворотах чокнутые трамваи. Птицы передразнивают тех и других, незаметно для себя вовлекаясь в любовную игру. Мир становится невыносимо громким. Глухонемые, и те кричат. Кричат в роддомах новорожденные, свистят милиционеры, дождь посылает впереди себя ветер, который гудит с оперной серьезностью. Словно по шву, мгновенно расползается зимний прикид неба, и в нем открывается интригующая бездна исподнего. Все вообще инструменты вынуты из футляров и мучительно, в голос, пытаются вспомнить о своем предназначении.
Я еду на новеньком, вчера купленном моторе. Машина послушна. Дорога покрыта воздушной подушкой. Ветер леденит откинутый на стекло локоть. Мне не до этой, в который раз крикливо собирающейся с силами жизни. Я давно выскочил из календаря. Меня ждут.
Но я знаю и то, как начинается лето. Оно вылепливается из тихой мелодии весны, которая все-таки всегда выстраивается, всегда побеждает полоумие начала. Грозы приостановили на время свои татарские набеги. Покоятся в небе пернатые кроны. Убогие греются на солнце, впервые ненадолго вписавшись в пейзаж. Густые запахи. Просыпанная в пыль черешня чумазо улыбается. Милосердие сходит на мир, ссоры не удаются, раны запекаются, влюбленные уходят вдаль по каналам, едва касаясь друг друга. Бог в ударе.
Но мне не до этого всего. У меня назначена встреча, и меня ждут. Мы отогревались последний раз в проходной парадной и договорились. Я успел по снегу еще построить дом с телефоном и редкостным набором классической музыки и теперь еду на вечное поселение. Так было условлено. Еду и насвистываю что-то незатейливое.
Как я смял свой «Линкольн» в гармошку, что почудилось мне, не помню. Лежу на траве, лицо облеплено подорожниками. Милая моя ласково отрывает их и снова накладывает. Смеется и всплакивает, закрывая лицом небо.
– Ну, какой же ты сумасшедший! – говорит. – Спидометр так и заклинило на ста восьмидесяти. Хорошо, гаишников не было поблизости.
– Так мы можем ехать? – отвечаю.
– Ну как же мы можем, когда не можем! Ты посмотри на календарь – год-то еще какой? А мы договорились в какой? Все перепутал. На дворе еще вон какой год, а он уже сто восемьдесят выжимает.
– Машина… – шепчу я.
– Сейчас мальчики ее построят заново. Хорошо еще, мальчики рядом оказались. Ты уж с ними расплатись только. – Она целует солеными от слез губами. – И едешь ты не туда. Тебе теперь пятьсот километров обратно, а потом налево года два с половиной. Я как раз успею и буду ждать, как договорились.
– Может быть, все же поедем вместе?
– Но как же я могу, как же я могу, не попрощавшись со всеми и всем не простив? Ты ведь сам говорил – жизнь и в обратную сторону надо пешком проходить. Ну, говорил ведь?
Я щедро расплачиваюсь с мальчиками. Машина готова, новенькая почти. Тормоза, правда, плохо держат и переднее стекло в сеточку. Ну ничего, по еду осторожнее. Зато бак залит до краев свежим бензином. Мальчики улыбаются, напоминая мне свирепо-услужливых швейцаров.
Милая целует меня. Заползает на мгновение рукой под пиджак.
– Ты запомнил, как ехать? И давай с ветерком, как я люблю. И насвистывай, насвистывай что-нибудь, иначе не считается. – Смеется.
Я вижу в зеркало: она машет мне. Становится легко. Я знаю, что еду не от нее, а к ней. Она ждет меня. Только почему-то некстати вспоминаю, что голоден. И со свистом пока не получается.
Встреча на набережной
«Мощные ветры сотрясали кроны ночных городских садов. Было уже около половины шестого утра. Молодой человек шел неспешной, но быстрой походкой по улицам Петербурга, танцевально обходя лужи и подбадривающе оглядывая почти невидимые деревья: сколько листьев сохранилось на них, а ведь уже середина осени! Осень, правда, в этом году стояла на редкость теплая, светлая, сквозная – и это в гнилом-то Петербурге, в котором углы домов в эту пору покрываются белой пушистой плесенью наподобие той, что хозяйки обнаруживают в баночках с маринованными грибами, а балки, даже новые, железобетонные, сменившие благородно отслужившее дерево, страдают ревматическим недомоганием.
На молодом человеке был черный широкий плащ без рукавов, черная же с высоким околышем фуражка. В такой Чехов однажды позировал в Ялте (правда, не в черной, как помнится). Серые акцизные брюки ловко, без сгибов, находили на замшевые металлического цвета сапоги. Из всего этого можно было заключить, что он не чужд костюмного, уличного, по крайней мере, комфорта, что, в свою очередь, требовало некоторого количества денег.
Между тем лицо его казалось изможденным. В его голубых глазах была приметливая тревога, которая выражает лишь один детский интерес: любят ли меня окружающие? Свернутая немного губа, приготовленная для иронии и обструкции. Не облюбленная шарфом сухая жилистая шея, которая могла свидетельствовать и об упрямом характере, и о детской незащищенности, и о романтизме, и о физиологическом отсутствии нужды в тепле. В его мертвой бледности читалась загадка человека, что-то свершившего или кем-то обнадеженного, если вообще что-нибудь подобное можно разглядеть в нашей моросящей мгле.
Ночь уже стала растворяться в наступающем утре. Ветер, морской теплый ветер, который бывает в эту пору разве что в Алуште или Константинополе, но не в Петербурге, сотрясал кроны деревьев. Еще полчаса назад неподвижно стоявшие листья теперь рвались и беспокойно шумели, опадали и снова вздрагивали, катящимся гулом обрушиваясь с вершин. “Серой ночью, в дымной чайной…”– повторял молодой человек бессмысленное перевирание знаменитых стихов Эдгара По и почему-то был счастлив. Впрочем, отчего он был счастлив, нам известно: он сделал сегодня предложение, которое было принято. Так же как известно нам и то, как молодого человека звали: Александр Владимирович Иваницкий. Служил он на должности неоформленного пресс-атташе в одной из фирм, занимающихся мостами, и свое будущее видел в самых оправданных перспективах. Английский у него был великолепный, а генеральным директором фирмы был муж сестры.
“Скоро ветер успокоится и наступит тихое утро, но я в это время уже лягу спать”, – так примерно думал он.
Вдруг на набережной канала Грибоедова, или Екатерининского, кто знает, как его теперь называют, перед Иваницким возникла фигура мужчины. Лет ему было около сорока, немытые волосы свились в кружочки, сверкающие, но спокойные глаза с аспидными подсветками – очевидно было, что эту ночь он не спал.
“Я, может быть, напугал вас, – сказал мужчина приятным адвокатским голосом, став, тем не менее, строго на середине узкого тротуара. – Но вы не пугайтесь. Ничего худого в мыслях у меня нет. Просто я хотел бы поговорить с вами”.
“С какой стати?”– спросил, впрочем, не очень резко Александр Владимирович.
“Причины у меня есть, да и вы их скоро узнаете. Ведь ваша фамилия Иваницкий?”
“Да. Странно. Но разве это повод?”
“Вы, правда, меня скоро поймете. К тому же мы оба не спали эту ночь. Здесь в двух кварталах есть трактир, там всегда рады таким, как мы. Не буду великим прогнозистом, если скажу, что вы были бы не прочь выпить сто грамм за ваше счастье и съесть бутерброд с… кто там, впрочем, знает, что у них к этому времени осталось?”
Слова о счастье немного покоробили Иваницкого, но он старался держаться спокойно.
“Я вас не боюсь, не подумайте. Вы даже мне чем-то приятны. Но согласитесь, что это все-таки дико. В такой час!”
“А ничего дикого, если уж мы в такой час оказались на этом канале. Если же вам недостаточно, что я знаю вашу фамилию, то скажу еще, что вы идете от Ани и что сегодня, как бы это выразиться, получили согласие”.
“Кто вы?”
“Да мы с вами знакомы, – оживленно заговорил мужчина. – Помните, к Ане прошлый Новый год приходили ряженые? Я был домовым, которого отлучили в связи с приватизацией. А потом мы много пили, уже сняв маски, и вы прилюдно ели герань, уверяя, что она полезна для здоровья”.
“Понимаю. Тут ревность или что-то в этом роде. И вы хотите помешать нашему… соединению с Аней”, – самоуверенно, но без оттенка наглости, с легкостью человека, который только что получил подтверждение любви, сказал Иваницкий.
“Да нет же! Какой вы нетерпеливый! Я совсем не ревнивец и не бывший друг, или как это теперь говорят? А что до счастья, то это уж будете судить сами. Просто Аня сегодня не позволила переночевать у нее своей подруге с грудным младенцем (из-за вас, вероятно), и милиционер подобрал ту из милосердия на мосту (странное по нашим временам приключение, согласитесь).
Из отделения эта дама, с которой мы знакомы еще по школе, позвонила мне, твердя и не требуя от меня понимания о каком-то химическом карандаше, которым было наслюнявлено некое роковое, быть может, письмо об Ане, которая в свою очередь соскабливает в парадном какие-то мальчишеские глупости, еще об Анином дяде, который хотел им обеим продать под Псковом полдома. Это было, очевидно, сказано в бреду, и трубка была повешена. Я вышел на улицу, чтобы привести в порядок сказанное, решил пойти в отделение (номер она успела назвать), но по дороге надумал позвонить. Трубка была снова брошена. А через несколько буквально секунд милиционер удивительным образом перезвонил мне тут же в уличный автомат и попросил приехать. Я поехал. Там случилось то, что вам необходимо знать. В сущности, я стараюсь для вашего же блага. Долго мы будем стоять на ветру?..”
В трактире играла музыка, и желтые листья, залетевшие, видимо, с улицы, лепились к несвежему полу. Утро худосочно цедило молоко в закопченные стекла. Иваницкий понял, что авторучка попала не в тот тюльпан, и оба заржавели…»
Начинающий прозаик Алексеев обтер лицо захваченной с собой дорожной салфеткой и почувствовал приятный запах лимона. Все-таки не выдержал. В последней строке сорвался. При чем здесь тюльпан-авторучка?
И как эти ребята умели так плавно раскручивать трагические сюжеты? Вронский и Каренина познакомились страниц через сто после начала романа. Неистовый граф видел всех насквозь, а превратился в моралиста. Достоевский, тот, напротив, все придумал, даже фамилии, а получилось как! Эта скороговорка. Этот неряшливый язык, истеричный психологизм. И все при этом правда. Не скучно же им было так подробно и обстоятельно…
Что мне делать с этим Иваницким? Там либо самоубийство, либо никчемный богатый любовник обеих. Дядя, например. Еще придется Аню вывести на свет… И к чему я, главное, приплел эти акцизные брюки? Вот чушь-то! А самому до полного отчаяния – четыре шага.
Последняя пациентка
Рождественская история
Это был дом старой постройки. В нем всегда наскрипывал сверчок и играла музыка, а иногда даже в него наведывалось счастье. Зимой около дома ставили вынутую из пригородной земли елку и навешивали на нее лампы. Мужчины пили щадящий грог, жены с непостижимой нежностью стряхивали снег со своих воротников, а дети с визгом гоняли собственные тени. И под умиротворяющий оркестр между молодыми совершалась бесплодная соседская любовь. Говорили, что дом построили пленные немцы.
Доктор тросточкой коротко нажал звонок. Его ждали.
«Я ничего не могу, кроме того, что могу, – услышал он государственный голос приближающегося хозяина. – Последствия женского воспитания, – продолжал тот шепотом, подводя вошедшего к вешалке. – Я половину жизни провел в лагерях и по командировкам, в перерывах – на ответственной работе». В кармане докторского пальто подавленно хрюкнула вложенная хозяином купюра.
Доктор был похож на ворона со свернутым в вечной усмешке клювом. В редкой его седине на лысине хотелось отыскать клюкву. Серые вертикальные глаза каким-то чудом не проливались.
«Это, наверное, судьба», – пропела хозяйка, и ее сморщенные крылышки снова собрались в шелковые широкие рукава.
«Ничего нет необязательнее», – проворчал доктор. Под уже было повешенное пальто он незаметно спрятал висящую на вешалке скунсовую шубку, легко, по-охотничьи кинул эту груду меха на плечо и сказал: «Я – так! У вас прохладно. Прошу оставить нас с пациенткой наедине».
В комнате пахло засохшими цветами и книгами. Ходики разрубали на кусочки безропотную тишину. Через пару минут кукушка должна была прокуковать очередной приговор. Доктор хладнокровно остановил маятник. Пациентка свернулась в кресле, готовая превратиться в узор на подушке.
«Отдай кольцо!» – приказал старик. Девушка вздрогнула и покорно положила колечко на стол. Голова кобры, готовой воспрянуть, уставилась в полированное дерево. «Еще и аллергия на серебро», – проворчал старик.
В соседней комнате хозяйка то и дело вскрикивала в телефон: «Ой! А?»
«Вчера вызывали к принцу, – сказал доктор, ставя на пол квадратный из потертой кожи саквояж. – Боль в области висков, неспокойный сон. Пытался отговорить его от “ловушки”. Зачем? Он ведь и так все знает. Хочет довести до конца». – Девушка недоверчиво посмотрела на старика. Тот выпил приготовленный для него кофе и поморщился.
«Еще?» – спросила девушка.
«И скажи, чтоб покрепче!.. Вечно так, – пробормотал он вслед закрывшейся двери, – последнее готовы отдать, а кофе приносят жидкий». Он достал из квадратного чемоданчика фляжку и подлил в принесенный кофе немного ликера.






