В Петербурге летом жить можно… Крыщук Николай
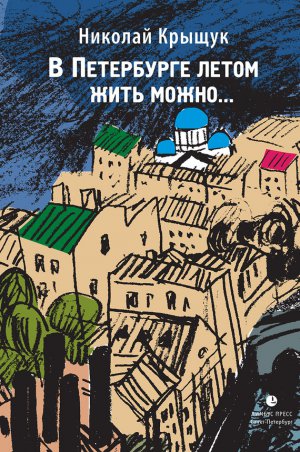
Сынишка, белокурый в степени смышлености, трогал на елке шары. Потом долго стоял у окна. Виктору даже показалось, что беззвучно плакал. Беспричинные слезы на глазах у него появлялись иногда, в минуты какой-то глубокой задумчивости.
Но нет, ничего. Вот уже сел за Щедрина.
По телевизору обещали миллион за ответ на вопрос, кто платил борзыми.
Жена, продолжая крошить на доске крабовые палочки, сказала: «До ночи еще далеко. Поешьте каши».
Андрюша, не отрываясь от книжки, ушел в комнату. Виктор молча прикидывал, как бы они распорядились миллионом.
«Морс? Компот? Американский аспирин?» – Это жена.
«Скажи, – спросил вдруг Виктор, разомлевший от температуры и домашнего тепла, – ты правда тогда ушла бы к нему босиком по снегу?» – Спросил, чтобы увидеть, как сама она ужаснется тому давнему происшествию. В такой вечер не могла не ужаснуться.
«Мама! Папа! Бабушка умерла!»
…Тюль небесный растянулся и посекся. Не остановить, не ухватить. Открылось такое, чего даже взглядом не достать. У Виктора глаза утеплились слезами. Подумал: «Почему их называют непрошеными?» Эх, бабка, бабка!
Сейчас вот отвезет и станет изучать ее телефонную книжку. Нет печальнее повести. Жена сидела, закрыв лицо полотенцем.
«Мама! А каша опять с комками».
О чем он там плакал у окна?
Мы с Виктором встречаемся часто, потому что при расселении коммуналки наши квартиры оказались в одном доме. Виктор младше меня, но его природное спокойствие всегда шло впереди возраста. Мне казалось, что это было спокойствие не сродни тому, кутузовскому, пропускающему французов к Москве, не следствие рассудительности вообще, а скорее спутник какой-то необременительной его доброты. Впрочем, бог знает.
Я даже не могу сказать, умен он или нет, был ли у него переходный возраст детских претензий к миру, как ему удается счастье и нуждается ли он в нем? Мне казалось, он из тех, кто легко встает по утрам и быстро засыпает ночью, осветив промежуток между пробуждением и сном неопределенного цвета улыбкой. Первая жена банально сбежала от него с морским офицером, выругавшись на прощанье нецензурно. Это оставило в нем след не столько горькой обиды, сколько недоумения. Есть ли в нем вообще самолюбие?
На бытовой почве
Пьянство клянут с такой истовостью, как будто открещиваются от тайного порока. Обвинения – самые поверхностные и случайные. Так супруги перед разводом вместе сочиняют аргументы для судьи. Из этого можно заключить, что истинной беды, производимой пьянством, никто не знает.
А главная беда в том, что мысль становится короткой. Мысль ведь нуждается в сне и в пробуждении, в игре и в работе утомительной. В вечерних тренировках с партнером и в вечерней грусти. Обязательно. Еще в ночной тоске и страхе. Иначе она не созреет.
Этой протяженности пьянице не хватает. Он ежедневно окорачивает судьбу. Мозг живет допинговыми озарениями. В событие вырастает скрюченная пожелтевшая ботва картофеля, будя мысль о матери. Желток в молоке, ускользающий из-под ложки – в событие заката. Люди, те вообще вызывают исключительно сильные впечатления. Интуиция становится прямо-таки звериной, поэтому то и дело подводит. Чувства уже настолько невыразимы, что брезгуют словом, подталкивая к сверхзвуковому действию.
При этом пьяницы – все поэты.
Игорь Потехин много обещал, но как-то незаметно стал пьяницей. В его черной упругой шевелюре очень рано зазмеилась седина. Неизменная «тройка», чуть тесная для спортивной, хоть и не крупной фигуры. Молодые бирюзовые глаза. По нынешним временам так вообще все данные для номенклатурной карьеры.
Сначала его повысили как своего, но потом сильно понизили. Пьянство уже перестало считаться партийным знаком, но оставалось все же житейским клеймом. Акценты сместились. Свой парень стал отсутствующим завсегдатаем разливух. Между тем, дорожало.
Бывший автор громких «подвалов» превратился в репортера. По утрам он собирал пчелиную дань с милиции, относил ее в «Пук пик». Менты иногда наливали ему оставшееся от клиентов, и с утра он уже был веселый. Легкий. Улицы ложились под ноги вроде эскалаторов. В тот же злополучный день еще и наличку дали, потому что он оказался в качестве понятого. Случай тянул на очерк. Внук резал бабку подробно, а в записной книжке его обнаружили стихи Вийона.
Перо просто само бежало по бумаге.
Он кинул рукопись машинистке, скрепив сторублевкой. За пятьдесят взял «Дюбек». Семьдесят стоил флакончик спирта. Оставшиеся тридцать грели карман. Он чувствовал себя миллиардером.
Спирт закусил скудным в эту зиму снегом. Все последние зимы таковы. «Зимы ждала, ждала природа…» Все-таки он был литератором.
Утром этого дня к ним приехал посланник из Вологды. От родственников. Они с Настей были вологодские. На том и сошлись. Там когда-то хрустели газетками со статьями Игоря и уважали как писателя.
Гость их, Сергей, чувствовал себя вроде как Есенин или Жюльен Сорель – приехал покорять столицу. Он писал стихи и исследовал творчество Клюева. На утренней кухне Игорь прочитал несколько областных подборок, пощупал клок наклеенных на картон клюевских волос, рыжих, погладил щепочку от его посоха. Все вместе это тянуло не больше, чем на пародию. Включая темный румянец, кудри и крылатые глаза Сергея. Он попросил Настю напоить пришельца чаем и пошел в милицию.
До этого Игорь почти сутки не пил. Выходит, не пьянство сгубило его, а воздержание.
Это была Настина идея. Пузырь спирта с капельницей был вмурован в шкафчик с сигнализацией. Ключи Настя носила с собой. Выдавал пузырь в сутки двести граммов ровно. В молочную бутылку. А тут по причине воздержания уже все триста на текло. Игорь жахнул их разом, еще не вполне прочухав ситуацию. Да внутри уже был флакончик.
По дороге, добавив из заначки, он купил светлой сухой картошки. Пришел вроде как хозяин.
Сытый голос Насти и халат вначале не особенно насторожили его. И губы в молоке – это у нее бывало. Шлепанцы у дивана, что ж! Она вообще бывала днем ленивая, хоть сейчас в постель. Это ему нравилось.
Всегда утренняя и туманная. Именно этого Игорю недоставало в его четкой жене. Настин же муж вообще был каратистом. Манеры можно себе представить.
Они с Настей давно жили фактически как муж и жена. Иногда муж, правда, принося алименты на дочку, оставался ночевать. Игорь ревновал, конечно. Хотя и относился к этому с пониманием. Есть ведь долг.
Но тут он сорвался на подробности. Мысль-то короткая, а воображение сильное. Настя вроде как перестала его узнавать. Картошке не обрадовалась. Вроде он коммунальный сосед. Игорь сразу почувствовал, что выпил и некрасив. А она никак его в этом и не разубеждала.
«А где этот малахольный-то?» – спросил, чувствуя, что вопросом этим как бы уже превышает оставленные ему полномочия. «Сергей со Светкой вышли за хлебом». И так это было сказано, что Игорь враз все понял. И представил на диване Настины согнутые икры – похудевшие и беспомощные. А она и не отрицала. И тогда он стал бить ее табуреткой. Рядом ничего другого просто не было.
Игорь бил в каком-то посветлелом сознании справедливости и обиды не на саму измену, а на ее пошлость и скороспелость. Раздражался на себя, что потел и надо было вытираться. Настя кричала как-то неестественно, ее было не жалко. Но вдруг она перестала сопротивляться, замолчала, разжался кулачок вокруг ножки стола, раскрылись губы и мутный кровавый пузырек на краю их долго не лопался.
Он упал на нее, обнял, закричал: «Ну, что же ты не отвечаешь? Хватит! Разобрались и ладно!» – и тут взгляд его встретился с Настиным безответным взглядом.
Губы ее чуть шевельнулись. Лопнул пузырек. Глаза закрылись. «Не спи, Настюшка, – зашептал он. – Поговори, поговори со мной. Сейчас я вызову врача».
Игорь вскочил и тут только почувствовал, что ему страшно. Страшно за себя. Господи, он же стихи писал, неужели тюрьма?
В этот момент дверь открыл Сергей со своими свежими крылатыми глазами. Светка с порога заплакала. Кто-то из них вызвал скорую, скорая – милицию. Сержант как будто забыл, что они знакомы, вел себя грубо. Настя что-то еще бормотала. Игорь плакал.
Покрытая простыней Настя была уже не опасна. Игорь все простил ей и жалел только о лучшей, веселой жизни, которая не случится.
Он не знал, что наутро Настя умрет, а потому сочинял обидные слова, которые должны были привести к примирению и эпизодическому счастью.
Стены в коридоре текли прочерченными гуашью горизонтами. Посторонние люди настырно участвовали в их жизни. Он как-то вдруг успокоился, по чти повеселел, как будто все это произошло не с ним и не с Настей, а был он вместе с ментами на чужом заурядном деле. «Дурачки, – шептал он всем этим преувеличенно горюющим людям. – Вот дурачки-то! Чего не бывает!»
Звезды поменялись местами
Телефон позвонил: «Говорит Робот. Вы сильно задолжали за неслучившиеся разговоры. Но я вас все равно люблю, хотя и не прощаю. Привет близким».
Я улыбнулась полоумно и вытерла передником рот.
«Робот звонил».
В окне сыпались небо, свет, снег. Сыпались косо, но казалось, что это город накренился и приготовился сползти в реку.
Моей малышке уже четырнадцать. Все поняла. Что же говорить о муже. Есть кое-какая школа.
Что он думает про это, о чем справедливо и несправедливо догадывается – не знаю. Но этот Робот не полная же для него неожиданность.
Когда там первыми вешают трубку, во мне начинается тихая, долго не проходящая истерика. Недособлазнена.
Там остался мужчина. Прикажи составить фоторобот – получится клякса. Ни по диагонали, ни по горизонтали, ни по вертикали – никаких вообще параметров. Запахи? Тембр? Повадки? Мускулы? Бородка? Есть ли, кстати, бородка? Бред! Ничего сейчас не вспомнить. Просто звезды поменялись местами, и все.
И к чему тогда вся эта убедительная картина? А к тому, что он все же есть. Ведь звонил. Робот – мой слуга, господин, понукальщик, шут, хромоногий, парящий, безбрежный.
Да, а что сказал все же, надо вспомнить… Нет, что же я-то в прошлый раз говорила? Главное, зачем? Ведь даже шепотом внутри не успело произнестись. А я вслух! В каком-то тусклом кафе, в проходной ухающей парадной, в сквере среди детишек, на улице трамвайной, в храме не моем, в угольном тупичке, у свалки, в переходе метро…
Самое сильное до того было, кажется, только в больнице, у постели умирающего папы. «Папа, не уходи, папа, не уходи!» Тогда обошлось. Может быть моя мольба помогла? Теперь звонит каждый день в семь утра (заводская привычка), когда я сплю. Самый драгоценный кусочек сна отламывает.
Потом, естественно, начинается жизнь. Детная, служебная, замужняя, черт бы ее побрал! Узелки на память, всхлипы тайком, недомогания, мимолетные приязни, ненатуральные восторги, уступки, недомолвки, радости, несчастья, прощанья, встречи, беды, суеты, бездны… Да, пожалуй, и бездны. О, Господи!
Потом как-то доченька случилась. Лепетала не по-моему. Любила ее, конечно. Особенно когда та болела. Пыталась мысленно превратиться в таблетку, которую заталкивала в нее силой, раствориться и поправить все в этом горячем тельце.
Муж… Ровный и стабильный, как испорченный термометр. Завтра утром снова томительно не узнаю, кажется.
Боже, какое это страшилище посмотрело сейчас на меня, пробегая? Измученные краской волосы взбиты, как у спаниеля. Щеки впали, в каждую ямку можно по грецкому ореху положить. Глаза и нос живут отдельно. И эта мымра играла когда-то Снегурочку?
Зачем позвонил этот мне Робот? Стежками-дорожками брела, наткнулась случайно, обманула, приласкала, да и забыла ведь уж совсем. Никакой судьбы. Никакой судьбы! Так какого же черта?
Читал свои стихи. Вот тоже еще номер! Мне! О чем? «Нам тридцать лет. Что ж трубы не поют? И где тот вожделенный миг расплаты? Не бросят к псам, не отдадут в солдаты и, кажется, на крест не поведут».
С печалью такой и обидой прочитал. Смущенно поглаживая шрам над бровью. К псам ему захотелось! Романтик, вероятно. То есть, наверное. Я эту породу не люблю. Отчасти не доверяю, отчасти побаиваюсь. Очень верят в то, что сами говорят, и в то, что говорят им. Не то чтобы глупые, но честны в каком-то фантастически невозможном приближении к правде. Которой либо нет, либо я ее не знаю. Потому что все, что знаю, неправда. А эти как будто знают. Извиняет лишь то, что искренне обманываются, а не просто других морочат. Может быть, эта лопоушистость и есть самое притягательное в них, о чем они, конечно, не подозревают.
Но этот-то, Робот! Руки сильные, как у каменщика. Говорил, что занимается альпинизмом. Однако об этом как-то впроброс. О стихах больше. Может быть, я его недооценила, а он в действительности дока и правильно сети расставляет?
А бородка у него есть. Вспомнила. Аккуратная такая, профессорская. Но поросль жиденькая, прозрачная, как у подростка.
Еще читал чуть ли не поэму. Очень длинное. Там мгла фигурировала сразу и как женщина, и как отчизна, среда, состояние природы, тайна, может быть, метафора времени. Два курса филфака меня кое-чему научили. Так он с ней, с этой мглой, играл, заигрывал даже, неожиданно обижался на нее, потом вдруг начинал кайфовать и баловать ее ласкательными словами. Я подумала: меня так никогда не любили.
Если не позавидуешь, полюбить нельзя. Я позавидовала. Этой. Как будто «мгла» – это женское имя, а не время суток или состояние природы.
Кстати, когда он читал, и время суток, и состояние природы соответствовали. То есть как будто он саму жизнь, не смущаясь ее присутствием, цитировал: «И мгла, божественней, чем грозы в июле, на закате дня, темна, как выписки из прозы на уголках ка лен даря».
Может быть, он действительно поэт? Этого только не хватало! Музой быть и не по уму, и не по силам.
Я думаю иногда: а чем мне хочется? Бывает, что – груша или нет – тяжелый цветок опускается в низ живота и начинает там распускаться. И ноги становятся невесомыми, непонятно, на чем стоишь. Затылком еще. Корни волос начинают вдруг разговаривать. Руки машинально проверяют блузку на груди. Глазами, конечно. Но больше затылком, памятью вообще.
А бывает, дождь, листопад, просвет в лесу, беспричинное предчувствие несчастья – все это играет мной, гонит меня, и все это почему-то любовь.
Но разве может это иметь отношение к кому бы то ни было? К Роботу, например?
Ведь если говорить конкретно, я люблю свои музыкальные часики в медальоне, шкатулку из ракушек, Лизу, особенно ее бархатную, дышащую щечку, свою фотографию на выпускном балу, где меня чей-то объектив зацепил кружащейся в танце. Вообще я, кажется, фетишистка.
Что же в Роботе? Голос, скорее всего. Низкий, но не грубый. Без хрипотцы, надутой ветрами. Он как гуталин домашней температуры. Даже пахнет как будто так же соблазнительно. Как в детстве.
Медвежье-человеческая повадка? Наверное. Как у дяди Толи. Хищнически загребет, но не сломает, не укусит, а подышит в замерзший нос.
Почему же с ним бывает страшно?
Главное: если с ним – правда, то все, что было до этого, – неправда. Но это ведь не так! И верните мне, в конце концов, папу, Лизу, мужа. Зачем их выгнал из меня чужой этот человек?
Подгорело – это не то слово. Сгорело. Безвозвратно. Хочется сказать: как жизнь. Но это уже его фигуры. Просто надо снова бежать в магазин. И это жизнь. И только это жизнь. И все.
Зверев
Иногда во дворе ночами наигрывал духовой оркестр. Звуки были живые, без такой, знаете, радиохрипотцы и гундосости, совершенно непыльные, ударяли мягко в уши. Время от времени легкую печальную мелодию смывало шумом листьев или рвано разрезал ее надсадный шум мотора, и вместо нее возвращался грозный и животный вой фановых труб. Не выдержав этого превращения, он вставал с постели и выходил на кухню покурить.
Конечно, это и были, скорее всего, трубы плюс сборная других ночных звуков – что же он, не понимал? Но так соблазнительно поверить в духовой оркестр, который высадился ночью во дворе и заиграл мелодии из детства бабушки и мамы.
На кухне тоже были звуки, но другие. По проводам, тянущимся к репродуктору, тек едва слышимый звон курантов. Именно по проводам, потому что репродуктор молчал – это он проверял не раз.
Было этому даже логическое объяснение – не каждый же раз они Красную площадь в прямой эфир включают. Записали, скорее всего. Может быть, еще со времен Сталина, с гудками «Победы». И притом целую пленку, наверное, с двух сторон, чтобы никакой накладки. И крутится она круглые сутки, а в нужный момент только микрофон оживляют. Конечно, специальная группа режиссеров и операторов ради этого дела содержится.
Он представил, как они сейчас в своей дежурке конспиративно подливают чай в водку, перебивая друг друга, рассказывают анекдоты с матерком, а куранты бьют, бьют…
Такое ночное вслушивание уже через несколько минут рождало тревогу и мрачные предчувствия, от которых он снова бежал в комнату.
Там начиналось новое действо: едва он прикладывался к подушке, в ней явственно начинала звенеть гроздь сухих колокольчиков. Приподнимается – тишина, ляжет – звенят. Конечно, и тут не было тайны – так преображалось струение собственной крови в сосудах. К тому же бессонница способствовала повышению давления. Однако и слушать было приятно, и уснуть все равно уже невозможно. Тогда-то и появлялся Зверев.
Ах, этот Зверев! Он никогда не мог зафиксировать его появление. Не было, не было – и вот уже тут. На этот случай и тапочки всегда стояли в прихожей на видном месте. Музыка, куранты, звон колокольчиков, не было, не было Зверева – и вот он тут, в приготовленных для него тапочках. И уже ощупывает все вокруг блескучими веселыми глазами, выщелкивает что-то из мефистофельской бородки, высвобождает то и дело лесным движением шею из тесного ворота и неслышно хихикает. Любил он Зверева в эти его появления.
Когда и как они познакомились, он не помнил: в первый раз не спросил, а потом уж неловко было. Здраво рассуждая, в школе еще, наверное, приятельствовали, потому что именно тогда была эта варварская привычка друг друга по фамилии окликать.
Зверев часы заводит, а он шахматы расставляет, а Зверев уж опускает пакетики «Липтона» в стаканы с кипятком. Верхний свет они меняют на настольную лампу. Первые ходы делают быстро и молча, а когда он первым задумывается, Зверев начинает невзначай и всегда с главного:
– Японцы научились синтезировать мясо из молока. Я думаю, мы спасены.
– Ты так говоришь, – отвечает он с присущим ему юмором, – как будто по молоку мы уже догнали и перегнали.
– Чудак, – отвечает Зверев. – Главное, найти метод. Скоро научатся из камня выдавливать слезу и сотворять из нее сыр. Теперь это дело техники.
Они ведь уже немолоды, родились в первой половине века, а разговаривают, как мальчишки, и благородны и нежны, как мальчишки. Не то что «детский», даже линейный мат никто себе не позволит, лучше уж сыграть глупость.
Два «Каракума» еще откуда-то.
Зверев неизменно после второй чашки заговаривает о джазе: Мадди Уотерс, Чарли Паркер, Дейв Брубек, Дюк Эллингтон, Лестер Янг, Рэй Чарльз… Он раскачивается и напевает. И хотя «На сопках Мань ч-журии» и «Славянка» говорят хозяину несравненно больше, он рад широте диапазона и искренности.
– Я ей говорю: если ты без легкого – не кури, – на тетку Зверев всегда жалуется. Это вроде репризы.
Утро. На небе вырастают деревья. Ранние резкие голоса и шум метел за окном обнаруживают непрерывность жизни. Для них это – час философии. Король стоит под шахом, а они:
– Вселенная все же ограничена, душа моя. Лет через девятьсот начнет сжиматься.
– Ага, как матка, – шутит Зверев.
Птицы уже перебивают друг друга. Остыл чай. Шах королю не опротестован. Разговор течет – в этом же все и дело.
– …и вдруг – два вертикальных огня и мачта. Большой корабль. Но и у него такой скорости не может быть. Он уже в кабельтове от меня. А ходовых огней нет. И тут вижу – всходит звезда…
Нагрузки у него по работе и по жизни несложные. Времени много. На кладбище ездит два раза в год.
Зверев иногда встречается ему в толпе, но не признается или легкомысленно помахивает рукой на бегу. Он долго обижается на него, но когда тот все же является, благородство не позволяет ему начать разговор с укора, а исчезает он так же незаметно, как является, и отношения у них получаются как бы гарантированные.
Маска, я вас не знаю
Новый год… Замечательный повод позвонить по неуютному адресу. Там на подоконнике круглогодично растут лимоны и помидоры, а в застекленной лоджии устроен мир Раи (по имени хозяйки) – жасмин и гиацинт с ненавистью поглощают аромат вносимого чая. Каллы не пахнут. Там меня не ждут.
Но Новый год!.. Пузырьки шампанского лопаются на мембране.
«Але! Але! Слышно чудовищно! Мне, пожалуйста, и непременно, хоть на два слова!..»
«Вам кого?»
«С Новым годом, косолапый! И всех своих целуй! Это звонит ваш учитель по гражданской обороне Семен Семенович Никудышин».
«Вы, вероятно, ошиблись. По гражданской обороне у нас был Пал Палыч Абсолютнопропащий».
«Да это все равно! Какое имеет значение? Рая-то ведь так Рая и есть! Раю мне надо. Рая!..»
«Рая в ванной».
«Знаю, все знаю! И тапочки у двери, и халатик на гвоздике, отметившем последний рост сына, и колонки там под зеркалом, а в них Вивальди, и мысли…»
«Откуда вы знаете про мысли?»
«Некорректный вопрос, косолапый! Ты мне трубочку дай! Я все-таки ваш учитель. Могу я просто проздравить?»
Новый год… Звоню другу.
«Слушай, ты не обижайся на меня, что ты мне не отдал когда-то три рубля. Что за счеты между нами, ей-богу! Я тебя как любил, так и люблю, хотя и не помню точно, как выглядишь. Тем более выглядишь уже, наверное, иначе».
«Спасибо, что позвонил! – отвечает. – Я как раз Нобелевскую премию получил. Вполне могу рассчитаться».
«Как не стыдно, слушай? Сколько соли вместе съели. Лучше расскажи, как твоя предпоследняя жена?»
«Хуже некуда. Сменила малиновую помаду на перламутровую. Совсем не узнаю. Только и помню, что кошек любила, а я любил ее. На последнюю подал в розыск – жить без нее не могу. Пыль заела. Нужна хозяйка».
Скоро уже полночь. В небе кувыркается распил луны. Пахнет анисом. Звоню приятелю в избирком.
«Только честно, неужели все галочки стоят именно в тех квадратах? Я-то за Тимура голосовал. В меньшинстве, конечно. Да и большинство моих знакомых в меньшинстве. Сейчас загружаем всем лишним птицу-тройку и – адью! Вот только коренник за Ивана голосовал, а извозчик – за Диабетика. Куда привезут – не знаю. Ну, поминай с лихвой!»
Небо посыпано звездами. Разеваю рот, жаба в груди дышать не дает. Звонит телефон.
«Чтоб вы прокисли, ей богу! От ваших лечебных пельменей одна изжога. И надо бы вам знать, молодой человек, что качество продуктов самым решительным образом влияет на представление о смысле жизни и в целом определяет философскую установку. От ваших пельменей я стал пессимистом».
«Не огорчайтесь, – отвечаю. – Шарлатаны процветали во все времена. А сам я специализируюсь по земснарядам. Вы, к счастью, ошиблись номером. С Новым годом, брат!»
Откровенно говоря, мне давно уже не хочется жить. Но есть еще хочется. Где-то я его понимаю. Еще звонок.
«Если вы настаиваете на рокировке, то вам шах на С5 слоном».
«Нет, что вы, – отвечаю. – Я готов извиниться».
«Мне ваши извинения не нужны. Вы настаиваете на рокировке?»
«Напротив, я хожу ладьей на В1, и вам мат».
Звонки, звонки… До Нового Года совсем ничего.
«Мурлыка. Мурлыка? Неужели ты меня бросил, не предупредив? И забыл, как в хрустящем целлофане ломалось солнце и мы коллекционировали сады и парки? Я не верю, не верю!»
«Не расстраивайся, дорогая! С Новым годом! Мурзику привет».
Стрелки на часах уже не косят. Сейчас подъедет жена – ей кажется, что мы заодно. Птица-тройка переминается в оттепельной каше. Морозные ветви тают на обоях. Книга «Звезды и судьбы» лежит на подоконнике не прочитанная. В бокале мерцает шампанское.
Звонок. В трубке трассирующие звуки и тишина.
«Папа, – говорю. – Что же ты погиб в невских болотах, не дождавшись меня? Так хочется поговорить».
И никогда не будет у меня дня светлее, чем я уже знал. И никогда не будет ночи темнее, чем предстоит. И никто не отнимет у меня то, что у меня есть. Если не отнимет.
С Новым годом!
Тост
Стол накрыт. Парят под потолком ослепительные лампы. Гурченко в «ящике» беззвучно поет песню из моего детства. Пора и выпить.
Я пью, шучу незамысловато. Натюрморт, как ему и положено, разворовывается и понемногу стареет. К утру это будет уже одно воспоминание о натюрморте. К утру все мы уже будем немного воспоминаниями. Я почему-то начинаю грустить, рюмка то и дело наполняется, зреет мрачный тост.
Господа, говорю я, позвольте выпить за необратимые улучшения и непоправимые удачи! За удачную бартерную сделку между производителями шила и мыла, за упущенные, слава богу, возможности и обретенную неуверенность. Ускоренный прогресс налицо. Мир вновь изумлен. Мы не подкачали.
Значит, план понятен? За умышленную улыбку – расстрел на месте (мера временная, но необходимая), всем демократам, деятелям искусства и переводчикам номерные знаки в левом углу чуть выше нагрудного кармана. Чтобы долго не искать в случае государственной необходимости.
Вдоль границы так называемых бывших советских республик расставляем танки и другую бронетехнику. Язвить не надо! Не дулами, как на Белый дом, а задом. Мы не варвары. По команде «раз!» запускаем моторы, по команде «два!» – пропеллеры. Через какой-нибудь час сизый дымок расстелется по просторам нашей так называемой бывшей родины. Просьбы выслушивать только из стойки на коленях. И чтобы ни капли крови.
Так обстоят дела в общественном плане и в плане собственности на землю, над которым каждый понедельник перед началом работы будем смеяться под строгим контролем западных наблюдателей.
В личном тоже все замечательно.
В фантастическом городе встретил фантастическую девушку. Зубы растут вперед, плечи, как одежная вешалка, – гордые и безучастные. Кукле положенные волосы – сухие и как бы небрежные. Наркоманка. Туфлями она, что ли, меня соблазнила с серебряными бантиками-бабочками. Понравилась ужасно. Детская улыбка. Шепелявость. Прелесть.
Я, говорит, почти единственный представитель единственной в Петербурге партии «Гренландия». Юридический адрес, где скажете. Площадь – один квадратный метр.
Замялся я – денег-то нет. Да и мысли уже давно семьей зажить. Едва остается времени, чтобы отскрести совесть, а успею ли собрать силы, чтобы улыбнуться на прощание – вопрос. К том у же в каком-то готическом зале ждут меня через два часа. Надо еще успеть забежать домой и нырнуть в смокинг.
Некстати вы, думаю, королева, ох, некстати! Но тянет. Целуемся, выпивая с губ друг у друга дождь.
Домой явился черт знает когда. Жена встречает в дверях.
«Какой ужас!»
Ну, все, думаю, попался на старости лет, жить-то осталось несколько секунд, прощения попросить некогда.
«Эти победили! Чуть не в два раза обошли!»
Я вздохнул, как будто сердце только что вот болело и отпустило, наконец. Гримасу гражданского разочарования изобразить уже было не трудно.
Что еще о личном? Ногу в этом году сломал. Судьба ко мне невнимательна. Или внимательна чересчур. Нога срослась правильно.
С детства работал над проектом ускоренных родов с помощью центрифуги. Представил. Шеф спрашивает:
«Гениально. Как это у тебя между одной и другой аморалкой мысли приходят?»
«Просто я очень талантливый, – отвечаю. – Вы думаете, легко умирать в момент расцвета собственного таланта и всеобщего упадка?»
«А ты собираешься умирать?»
«Да нет пока еще. Пока еще нет».
Чувство стыда мне не свойственно, поэтому часто краснею. Вспомнил почему-то, как жена его мне сказала в коридоре: «Никогда мы с вами не встречались в облаке снегопада и необязательного одинокого чаепития».
А и действительно!
Тут я оборвал свой тост при общем молчании. Выпить захотелось. Осталась только бутылка ликера, зеленее зелени. Научились, сволочи! Насадил на вилку сардельку, она молодо брызнула. А я заскучал.
Доборматываю уже тост, поскольку все молчат, объевшись моим красноречием. Проводили мы, говорю, лучших друзей, одних – в бессрочную эмиграцию, других – в эмиграцию духа. Андрея Дмитриевича вот уже сколько времени с нами нет. Устал он жить в тот как раз день, когда восстали декабристы. А знаете ли вы, что он совсем не пил и любил подогретую селедку. Такие детские капризы разве бывают у кого-нибудь, кроме великих?
Раздухарился я, песни стал петь, привязываться по мелочам. Еще зеленого глотнул, захотелось выскочить на улицу и полетать.
И тут пришли гости.
Кураж
Антиисторическая новелла
Произошло это буквально вчера. В крайнем случае, позавчера. То есть могу ручаться как бы за каждую деталь.
Иду откуда-то и куда-то не торопясь – обстоятельства не имеют значения. Рано. Вдруг, ба! Во-ка на! Навстречу Ельцин. Щурится. Свеженький. Сразу видно старого волейболиста и зашибалу.
Мать, думаю я, ты моя матушка!
Воробьи расшевелили сирень не хуже ветра. Тоже чуют – президент к народу вышел. А народу-то на улице – один я и есть. Ну, думаю, Вася, давай вперед и не микшируйся. Или не накипело? Все в постели свои попрятались, а ты, Вася, давай, давай!.. Тем более охранники держатся скромно и дают полную свободу демократии.
Наступаю каблуком на улитку, ниоткуда взявшуюся, и руку протягиваю:
«Здравствуйте, Борис Николаевич!»
«Здравствуй, – отвечает. – Как звать? Происхождение, пол, судимость, особые привычки? – и вдруг подмигивает: – Погода шепчет?»
«С Псковщины я, – говорю, набравшись мужества. – Зовут Вася. Приехал на экскурсию по столичным магазинам. Есть у людей много чего скопившегося… в виде вопросов, – и тоже вдруг подмигиваю: – Может, зайдем куда, посидим, поговорим?»
«Да рано еще, – отвечает. – И потом, я, Вася, на службе. У меня сейчас по программе общение с народом. Мне жена по этому случаю даже воротничок дважды крахмалила и гладила. А ты меня в забегаловку тащишь, которая к тому же еще не открыта».
Я угрюмо спускаюсь по ступенькам к самой реке. Вынимаю два складных стаканчика, нагретую животом флягу, перочинный ножик, походную пепельницу с морским якорем, очень, надо сказать, женственную и загорелую куриную ножку, надушенную аэрофлотом бумажную салфетку от подруги, мундштук, шведские спички, иконку святого Николая, зубную щетку для очистки хлеба от табака, четвертинку хлеба, сувенирное гусиное перо на случай неожиданно изящного презента, ключ от квартиры, пробитый талон на трамвай и говорю, не поднимая взгляда:
«Садись».
Он смотрит на меня так лохмато, светлоглазо, будто сразу от всей страны привет шлет. Но у меня вопросы тоже нешуточные, и водка, к тому же, стынет. Выпиваю сам, взгляда по-прежнему не поднимаю. Предупреждая готовящийся уже кураж, спрашиваю спокойно:
«Вот ежели коня стреножить, а потом сказать “беги”, то что получится?»
Он пиджак снимает, аккуратно кладет на лесенку и говорит с дворовой ухмылкой:
«Тебе в глаз сразу дать или сначала выпьем за помин души?»
Выпиваем, отламываем кусочки, утираемся по очереди душистой салфеткой. Но меня так просто не расслабишь.
«Вопрос первый: почему партийные деньги до сих пор не найдены?»
«Э-э-э, вспомнил. И я-то их держал, только когда получал зарплату, а ты почем знаешь, что они вообще есть?»
«Ответ общий, – говорю, – и неубедительный. Мне интересно, а жуликов с ваучерами тоже не можешь отыскать? Милицию приструнить вместе с мафией и мелкими мародерами? Распутных наших гражданок в дом родительский вернуть? Телефонные и компьютерные бандиты, видишь, расплодились! Рождаемость какая? Самоубийств о-го-го! О киллерах уже молчу. Вообще, одни голодают, другие завшивели совсем. Для того мы, что ли, страну разрушали?»
Жует, молчит, смотрит на меня светлоглазо.
«Ну что я, Христос, что ли?»
«А мы тебя избирали или так, феньками прикидывались?»
«Нет, табло я тебе все-таки попорчу! Христа вы тоже избирали?»
«Философию не разводи. Шахтеров и учителей не уважаешь? Солдатских матерей не уважаешь?
С депутатами ссоришься каждодневно, хотя и среди них есть хорошие люди. Интриги вокруг тебя. Перед ветеранами лебезишь, но что толку? Медаль на бутерброд не положишь! Аппаратом оброс! Бесплатных лекарств у матушки нет. Обеща-ал!»
Выпили еще, посмотрели на воду, развеселился президент.
«Помнишь, как на пустырях в волейбол играли? Опускал мяч в пыль мимо блока, как гвоздь забивал. Однажды кто-то привел на площадку тигра. Сероглазая моя: “А-да-баба! Ба-ба-а-да?” – я, разумеется, пошел пешком в пасть. Вышел, а ее нет. С тех пор не виделись. А ты говоришь, приватизация!»
«Я говорил приватизация?»
«А ты приватизация не говорил?»
«А я приватизация не говорил!»
«Ну вот, а ты говоришь!»
«А я и не говорю».






