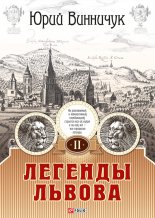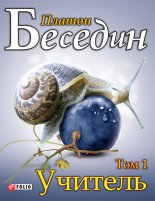Вечный сдвиг. Повести и рассказы Макарова Елена

Сори,– сказал бармен, указывая на коричневое пятно.– Он вынес тряпку, смоченную какой-то вонючей жидкостью, и, встав на колени, стал оттирать пятно на брючине. Таиландец, судя по всему: желтая кожа, узкие глаза, жидкая бородка, проплешина на лбу.
Марта стояла прямо, прижав к груди книгу. Какая-то она дерганая, все роняет, напрочь не помнит, что вынимала книгу, когда доставала кошелек. И опять она испугалась, что было бы, если бы бармен ее не окликнул и не вернул книгу, как бы она утром писала рецензию?
Может, он с Тибета?
Нет, из Сингапура. Но был на Тибете, да, мэдам,– он выпрямился, унес тряпку за стойку и стал там, продолжая говорить с ней. Было у него тяжелое испытание, женщины-женщины,– и он стал тереть бороду, похихикивая.
И что женщины? Обманули?
Сингапурец кивнул.
И вы поехали на Тибет, зачем?
Познавать истину.
И там был один монах…
Так точно, один монах.
И он вам велел испытать себя и вернуться туда, откуда все началось?
Так точно, мэм.
Так что же вы не в Сингапуре, а на пароме?
Ослушался. И теперь до конца жизни буду скитаться, чтобы снова не угодить на пятый круг.
Марта показала сингапурцу фотографию внучки.
Красивая, вздохнул он, и тоже не удивился, что Марта– бабушка.
Огни Швеции ничем не отличались от огней Дании.
Марта вышла с парома, ноги подкашивались от усталости.
Ингеборг на условленном месте не было. Марта спросила сингапурца, далеко ли отсюда до Фортуны. Но он и слыхом не слыхивал о таком месте. Он знает, что Фортуна– это судьба, и это все, что он знает.
Марта уже готова была разреветься, и тут появилась Ингеборг, взмыленная, неприбранная, что с ней?
Скорей, скорей, она все объяснит в машине.
Ингеборг никак не могла отдышаться, пыхтела и сопела, включая зажигание. Не машина– металлолом.
Как хорошо, что все обошлось, если бы ты знала, что случилось!
Марту укачивало, клонило ко сну.
А мы скоро приедем?
Минут сорок, час…
Что же случилось?
Он пришел на прием. Помнишь, давным-давно я рассказывала тебе о Гюнтере, как мы были влюблены друг в друга в университете, физик такой шандарахнутый, пел в хоре, баритон, там, в хоре, его захомутала одна с факультета перевода…
И у них родилось двое детей…
Да ладно с детьми, пусть живут до ста лет, короче, певичка шлялась направо-налево, пустила дом по ветру, на этой почве у него развилась клиническая паранойя, он подозревал ее в измене, она не признавалась. Он запил. И вот однажды застукал ее…
С собакой?
Откуда ты знаешь?– Ингеборг остановила машину, откинулась на сидении.
Модная тема в литературе. Он застрелил собаку?
Шведская деревня по имени Фортуна спала сладким сном, а человек, застреливший собаку, сидел за столом и читал книгу. Марта краем глаза взглянула на обложку. Что-то про электричество.
Представляешь, все произошло в то время, когда ты к нам ехала. Поэтому я опоздала, прости. Предупреждаю, пить при нем нельзя.
Гюнтер с собачьей преданностью ловил каждое движение хозяйки, заливался краской, когда ему предлагалось отведать салат с креветками, прятал в тарелку бледное лицо с рыжей бородой.
Ранним утром Фортуна копала грядки и жужжала косилками. Марта зарядила кофеварку, выпила кофе, настрочила рецензию на Кольдигеса, отослала ее заказчику по факсу и вышла поглядеть, нет ли поблизости автобусной остановки. Остановка была. Расписание тоже. Один автобус ушел, когда она писала рецензию, второй будет вечером. Такая Фортуна.
Ингеборг, к счастью, встала. Она готова ехать, только не может найти второй ключ, чтобы запереть Гюнтера. Хотя после сессии он будет спать долго. На всякий случай оставим записку.
Машина завелась, все шло по плану.
Он поддается гипнозу (машина подозрительно кряхтела, но с третьего раза все же завелась). Слабовольных лечить легко. Если что, высылай ко мне своего, я теперь специалист по Гюнтерам.
В аэропорту Марта увидела Пуэбло, он едва держался на ногах, кажется, он узнал ее, махнул рукой, но Марта уже была в другом романе, русском, написанном от имени лагерного пса (собачья жизнь!),– и не успела ответить Пуэбло на приветствие. А может, это был не он? Издатель разорится, ни любви, ни интриги. Злобный пес потерял хозяина и ему некого сторожить в опустевшей зоне. Марта плюхнулась в кресло, защелкнула ремень на животе. Рядом с ней уже сидела пристегнутая белокурая женщина со свежим шрамом на запястье. По сюжету ею могла быть та самая певичка, чей муж застрелил собаку, запил и попал к Ингеборг, в которую был влюблен тридцать лет тому назад. Теперь он сладко спит после сессии, а певичка, неудачно перерезавшая вены, летит в чужую страну исцеляться.
Собачий холод, Руслан рыщет по помойкам. По проходу идет Пуэбло с тем же выражением лица (вернее, морды), какое Марта только что вычитала в описании собаки Руслана.
Эммануэль остался с женой,– бросил на ходу Пуэбло.
Главное, жив-здоров,– ответила за Марту соседка.
Испаньол,– просветлел Пуэбло и загородил собою проход.
Соседка улыбнулась, Пуэблорастаял. Попросил Марту обменяться местами. Неужели он ее не узнал? Узнал, конечно, он только выглядит сумасшедшим, поскольку его разлучили с Эммануэлем (главное, жив-здоров), он помнит фотографию внучки…
Наглец! И все же Марта уступила, пересела в кресло Пуэбло. После взлета разлеглась с Русланом на трех сидениях (хвостовой отсек пустовал), лагерный пес все еще слонялся по страницам в поисках правды, к последней, похоже, приползет, издыхая. У русских все так. Рука Пуэбло. Марта ударила по ней книгой. Так бьют мух, наотмашь. Пуэбло невозмутимо принял удар. Почитаем,– сказал он, принюхиваясь к обложке. – Вы любите собак?
– Только в качестве героев литературы.
Пуэбло пошел в сортир, на обратном пути он и не взглянул в ее сторону. Пусть катится к соседке, не имеющей никакого отношения к Гюнтерам. Скорее всего, это героиня нашумевшего романа датского автора, до которого у Марты пока еще не дошли руки.
Моисей Бен-Фриц
И он смотрел на себя, на свое искривленное отражение. Зеркальные шарики, навинченные на острые железяки спинки, не помнят его мальчиком, не помнят его дыхания. И Александр Македонский не помнит его, и кони Фальконе… В нем одном все сошлось, чтобы невысказанным умереть.
Где-то он прочел, или услышал…
– Моисей Фрицевич!
или сам придумал, для облегчения души…
– Моисей Фрицевич!
что жизнь сама по себе…
– Моисей, черт тебя!
творческий акт, с созерцанием в апофеозе…
– Моська, сукин сын!
где созерцание Творца и его жертвы…
– Скотина!
соединяются в одной точке в перспективе Смерти.
Утро пустопорожних экивоков кончено.
В соседней комнате лежит он сам, Моисей Фрицевич. Зубы в стакане. Небритая физиономия торчит из-под одеяла.
– Что надо?– обращается он к самому себе.
– Чаю с лимоном.
Моисей Фрицевич плетется на кухню, нажимает на кнопку чайника.
– Без лимона будешь?
– Нет.
Тогда он вставляет зубы в челюсть, себя в костюм, ноги– в ботинки, ключ– в замочную скважину.
Вышел.
Ничего удивительного в этом. Кто ему принесет лимон, неподвижный он сам в постели?
Верблюд стоит, двугорбый, на вершине. Кэмл. Вокруг– шатры.
Бедуины. Верблюд не движется. Бедуины суетятся, вколачивают колья.
Овцы откуда-то приплелись. С пастухом. У пастуха тонкий кнут в руке. Виноград и инжир в ящиках. Бедуинки с весами.
Разве он здесь? Это его холм?
Пойду и скажу им все. На бедуинском языке.
Но он вышел купить лимон.
Моисей Фрицевич смотрит с верхотуры на бедуинов. На него смотрит верблюд. Верблюд замечает полумертвого. Спускается с горы и идет навстречу Моисею Фрицевичу. Куда коням Фальконе! Те– не шли.
И он уехал в Палестины, умирать.
Привлекателен здесь обряд похорон. Спихнут с носилок в яму, скажут дважды кадиш. Неделю кто-то будет сидеть в доме покойника, зарастать бородой. Кто будет– да он сам и будет.
У верблюда мягкие губы. Да нечего ему дать. Смотрит на Моисея Фрицевича, не мигая. Верблюды любят тихих полоумных. Сами такие.
У Моисея Фрицевича один горб. И в нем– никаких запасов. Вот купит лимон…
Умерла его мама. Пришли все родственники, он их никогда не видел. Тетки, племянники, дядьки и троюродные сестры. А он все ждал, когда мама придет. Без мамы– кого хоронить?
Она пришла и ее похоронили. Порядок.
Так и с ним будет. Он выставит транспарант: «Без меня меня не хоронить!».
Бедуинка протягивает ему упругую гроздь винограда. Смотрит на него большим верблюжьим глазом. А ему нужен лимон. Моисей Фрицевич берет из ее рук кисть, отдает верблюду. Бедуинка ругает их обоих.
Верблюд облизал кисть нежным языком и отвернулся. Капризничает? Но он не старый. Вполне еще ого-го верблюд.
Земля– одни камни. Не хочется ему туда. Но пора. Вот лимон купит…
У бедуинов в шатрах все есть. А лимонов нет.
Рядом в супере есть.
Верблюд идет за ним. Его в магазин не пустят. Мало ли что у него в горбах.
– Ты здесь подожди,– говорит ему Моисей Фрицевич. По маме еврей. Это здесь главное.
В магазине есть все. И лимон.
Все ему не надо.
Зачем?
Верблюд его не дождался. Где он? Стоит на горе, как стоял. На каждом горбу– по попоне с кисточками. Красавец.
Бедуины колготятся, продают то, что привезли с собой. Откуда?
Да с гор Иудейских.
По ступенькам мавританским восходит Моисей Фрицевич к себе.
Несет себе лимон. Включает чайник. Обводит пустые стены верблюжьим оком. Лижет лимон пересохшими губами.
Снимает костюм, ботинки, зубы. Наливает чай, опускает в него лимонную дольку, ложится, укрывается до подбородка.
– Моисей Фрицевич!
…и еще говорят, из многих смыслов…
– Моисей Фрицевич!
не проистекает единого, все крошится, и птицы небесные крошево это клюют.
– Моисей, где ты?
– Я иду.
– Ко мне?
– От тебя, всех от тебя отлучаю, один останешься.
– А верблюд?
Моисей Фрицевич высовывается из-под одеяла, смотрит в окно.
Верблюд стоит рядом.
– Это ты со мной говоришь?
Кивает.
– Будешь чай с лимоном? Ну, отвечай!
Моисей Фрицевич открывает окно, собирает крошки крекера в горсть и дает верблюду. Тот слизывает их мягкими губами.
Человеческое тепло. Единственный теплый человек– верблюд.
– Ну иди ко мне, с тобой я еще поживу! Только без бедуинов, вдвоем с тобой! Ты лучше коней Фальконе, ты– теплый человек…
Верблюд в тоске непонимания смотрит на этого страшного старика. Он не понимает по-русски, а Моисей Фрицевич– по-бедуински.
Моисей Фрицевич отдает ему лимон. Верблюд обнимает лимон толстыми губами, пробует, выплевывает и уходит.
Моисей Фрицевич выпивает остывший чай и засыпает.
Верблюд возвращается на свой холм.
Бедуины сворачивают шатры.
Пастух выгоняет овец на горную дорогу.
В Гиват-Шауле готовятся к приходу Моисея Фрицевича. Выбивают на плите «Моисей бен Фриц». Но как он найдет себя? Одного себя среди стольких плит? Вот что ему не дает покоя.
В мизере
Поселяются вместе два фантастических идиота, Моисей Фрицевич и Яков Петрович, на съемной квартире в Ашкелоне, по триста шекелей с носа. И союз этот хуже брака по расчету, последнее недоразумение.
У каждого свои фотографии,– черно-белое прошлое с обломанными углами. Вытряхнуть содержимое коробок на круглый стол, перемешать солдатиков в пилотках, евреев с желтизной в котелках европейских, ассимилированных, парней в трусах широких, стрижка бобриком, с пальмами картонными да девами румяными в шароварах и лифчиках белых… Некто на ослике, дамы роскошные, декольтированные, с лорнетами и сумочками, и дамы строгие, до подбородка застегнутые, дети в рюшечках и дети шпанистые, мальчик толстый с глазами тоскливыми, памятники такие и сякие, мал человек и ничтожен у их подножья,– поди догадайся, кто стоит у монумента в честь.
У Моисея Фрицевича все сложено в ящик из-под ручного пылесоса, да и сам он, как пылесос, гудит и все что ни попадя в себя вбирает, а потом долго над этим кумекает; у Якова Петровича для тех же целей приспособлена коробка из-под печенья «Праздничное», и сам он тоже, выеденный, но все еще праздничный, ждет вестей с родины, считает, что его многие там любили, но дорого стало отправлять оттуда письмо; все, кто его там любил, на пенсии, и он на них копит. К примеру, не купил курицу за десять шекелей– сэкономил 2800 рублей, это же живые деньги, Фрицевич!
Моисей Фрицевич затыкает уши и кричит, потому что его бесит примитивное был бы сыт. В нашем возрасте пора понять смысл, а не думать о прокорме! В чем смысл нашего с тобой пребывания в этой, с извинения сказать, схар-дире ашкелонской, среди воров и потаскух пляжных, как мы попали в этот еврейский оазис, зачем мы здесь?!
Яков Петрович лыбится и подхватывает языком верхнюю челюсть. Когда человек худеет, он худеет весь, и челюсти перестают держаться, а пригнать их– на это надо копить, что важней– его личное неудобство или пенсионеры, которые там его любят и им нечего ест.
Яков Петрович одет для морской прогулки, Моисей Фрицевич имеет обычай набрасываться по утрам,– может, ему стоило бы выходить на люди, за что уж так их ненавидеть… С его образованием, с его знанием языков…
У Фрицевича нет родного языка,– жил он то ли в Польше Литовской, то ли в Литве Польской, оттуда попал на Урал, с Урала– уже точно в Польшу, намотал себе хвост или шлейф, не знаешь, как выразиться поаккуратней,– идиш, польский, литовский, русский, немецкий да иврит каля, все у него в голове путается, прошлое с настоящим, идиш с русским,– тяжело с ним.
Все это Яков Петрович уже не думает, а говорит вслух. За столиками на берегу моря израильская молодежь пьет кофе в купальниках. Роскошь недоступная, в смысле выпить кофе, он в ту сторону и не смотрит, просто сидит себе на лавочке не один и любуется на молодежь. Рядом с ним– старушка Сима из дома престарелых, «бейт-авот» на иврите, Яков Петрович говорит про Фрицевича, а она ему– про спятивших престарелых, которые за ней следят и обзывают зона, то есть б…, они завидуют ей, что она встречается с Яковом Петровичем и изливает ему душу.
К тому же у Фрицевича была какая-то черепно-мозговая травма, и травма повлияла на речь, она у него отрывистая, иногда замрет на каком-то слоге– и не знаешь, ждать вежливо продолжения или плюнуть и уйти в свою комнату. Только уйдешь, как у него механизм речи наладится, и он стучит кулаком в стену: «Яков, Яков, ком цу мир!»
Старушка Сима поддакивает, а сама смотрит на молодых, как они в воде плещутся, как любят друг друга безо всякого сокрытия чувств, и думает, дура я была, дура идейная, всю юность прохлопала, а сейчас так ей хочется раздеться да блюкнуться в пену волн вместе с шоколадными израильтянами и мармеладными израильтянками или на лыжах вон тех пронестись по гребням пузырчатым,– но что скажет «бейт-авот», и так на нее с Яковом Петровичем все косятся, хотя между ними четкая дистанция– ни он к ней, ни она к нему, есть правда маленькие, дробненькие движения с ее стороны: то шаль натянет на плечо, то отпустит, то юбку на коленях разгладит, то гребенку поправит в волосах; есть и со стороны Якова Петровича встречные акции: то свернет газету «Время» в трубочку, то развернет и положит на лавку аккурат между ними. Скверная израильская печать, а вернее– русскоязычная, так руки пачкает.
Яков Петрович показывает Симе руки, но та не обращает на это никакого внимания– она смотрит в сторону кафе. А что если сделать жест и пригласить Симу в кафе, нельзя же так беспочвенно копить на пенсионеров, которые, конечно же, его любят и не шлют писем из-за дороговизны отправки. Но Сима наверняка бы отказалась– на что нужен чай за три с полтиной шекеля в гуще голой молодежи, если дома можно выпить в тишине и бесплатно, ну не совсем бесплатно, за пятьдесят огород. Дело, конечно, не в чае, а в движении души– в самом порыве слиться со своим народом, к чему они всю жизнь стремились, а вышло хуже интерната. Моисей Фрицевич, улегшись на кровать, думает о том, на каком языке он думает. И думает ли он вообще?! Интересно, если бы у человека изначально не было никакого языка, мог бы он размышлять, что за образы роились бы в его снах, ведь сны– это изнанка сознания, но если есть изнанка, то предполагается и лицевая сторона. Возьмем недавний сон с никелированными кроватями. Он– однозначно из детства. Зачем ему было ребенком часами смотреть на самого себя в кривое зеркало никелированных шариков? Зачем всю свою долгую жизнь он смотрел в зеркала? Из страсти к самопознанию? Везде, где были зеркала, он смотрел в них. Чтобы убедиться: раз Моисей Фрицевич отражается, значит он существует. А что, если накапливать отражения нефотографическим способом, без припечатывания к бумаге? Захотел себя, молодого,– вызвал, не надо– махнул рукой и отражение рассеялось.
Моисей Фрицевич махнул рукой, призвал свое утреннее отражение. Оно не слишком его обрадовало: под голубыми глазами– отвислые карманы, в них за ночь накапливаются слезы, беззубый рот-воронка…
Самым интересным объектом в мире является он сам, Моисей Фрицевич, и этой истины он ни от кого не скрывает. В лагере он ставил опыты на своих отражениях: способен ли этот обросший голодный человек в драной телогрейке жить со своим имманентным отражением, очищенным от грязи и стружек, отражением, влюбленным в другое отражение, имеющее форму женщины?
В комнате Якова спертый воздух. Самого его нет, но Моисей Фрицевич видит, как вздымается на его животе одеяло. Отражение Якова дышит тяжело, как паровой котел. Оно укрыто по подбородок, и голова на подушке кажется отсеченной от тела. В каких уродов превратило их время, как удалось им дожить до такого вырождения?! На себя-то тошно смотреть, а тут еще этот котел старой конструкции, б/у,– маленькое сморщенное личико с неестественно белозубым ртом,– так и уснул в зубах, лентяй… «Тени. Тени родят тени. Тени родят тени теней. Питом мишеху, ше ани ло макир бихляль, светит и убивает их светом»,– думает Моисей Фрицевич сам уже не понимая, что думает, голубое море с пароходиком вдали, пустырь с клочками высохших трав, красная машина, под которой лежит человек, отражаются на его сетчатке. Ноги человека кажутся отрезанными от тела, неужели там, под капотом, есть голова и все, что положено целому человеку? В ответ на это медленно выползает большое тело, тащит за собой круглый живот, плечи, маленькую лысую голову… Уж не Яков ли Петрович? Нет, это совсем другой и вовсе не старый, лысый молодой человек…
Яков легок на помине– идет с моря, да не один, с дамой. Дама в шали и в чем-то голубом, Яков молодцеват, дама подвижна. Они останавливаются на углу. Яков уговаривает, дама жмется. Неужели ему еще не наскучило знакомиться и читать русскоязычную прессу?
Они сворачивают за угол, они уходят!
Моисей Фрицевич стоит у двери, прислушивается, а что если они сделали круг… Но шагов не слышно. Он смаргивает слезы. От слез, что так себе текут из старых глаз и застывают у углов, образуя желтоватые катышки, никакая крыша не проломится. Крыша, как свидетельствует Мишна, может проломиться от внезапной слезы. Так случилось с женой раввина, которая двадцать лет ждала своего мужа, а тот все не шел к ней, учился. И когда, наконец, стоя на крыше, она увидела его, из ее глаз выкатилась такая огромная слеза счастья, что проломила покрытие; жена раввина провались в него и разбилась насмерть.
Мишну Яков не проходил. Типичный советский еврей. Но если типичный советский еврей не принесет хлеба и молока… В окне слишком много курорта, столько людей и моря никому не нужно. Моисей Фрицевич закрыл ставни и призвал отражение старого грека из Храма Гроба Господня. Тот сидит в маленьком храме внутри большого и взглядом останавливает прохожих, они как загипнотизированные, подходят к иконе и дотрагиваются рукой до какого-то камня. Лицо грека– это отраженный свет. Улыбаясь, Моисей Фрицевич задремывает. Яков Петрович, приподнятый, на цыпочках, с хлебом все в той же газете грязной, появляется на пороге и шнырь в свою комнату. Достает коробку из-под печенья «Праздничное», зарывается в нее, скребет по днищу, как пес лапами, подгребает под себя черно-белый песок бытия, что-то ищет и не находит, поскольку не знает, чего ищет, он взбудоражен, не знает, куда себя деть.
С коробкой под мышкой он приотворяет дверь к Моисею Фрицевичу. Тот сидит за столом в банном халате, сортирует фотографии. Жаждет отыграться.
– Показываем интимные тайны,– хихикает Моисей Фрицевич, завидев отражение Якова с двумя волосками на отлете. Они сидят друг против друга и перемешивают фотографии. Тузы– монументы, короли– они сами, дамы– ясно кто, валеты– друзья, а остальное– групповые снимки, от десяти до двух человек на каждом. Джокер– прекрасная дама из колоды Моисея Фрицевича– в декольте и длинной юбке в обтяжку, с сумочкой.
Яков расписывает пулю.
Моисей Фрицевич думает о девах Якова– в белых лифчиках и шароварах с картин Дейнеки. Бестии.
В ночи останавливается время, скапливается в ушных раковинах, давит изнутри, Моисей Фрицевич и Яков Петрович, красные и потные, вытирают лысины синей туалетной бумагой.
Свет от настольной лампы свещает игру, сами же игроки в полутьме, тасуют фотографии, следят друг за другом пристально, чтобы без блефа. Три кона сыграли– джокер не объявился. А не припрятал ли Моисей Фрицевич прекрасную даму? В отместку за то, что он, Яков, проваландался с «бейт-авотницей» и не купил ни хлеба, ни молока.
Яков ведет, но впереди отыгрыш, в шесть заходов. Жарко. Он открывает ставни, распахивает окно. Море тихое, звучат цикады, вдали все тот же пароходик с огнями.
Моисей Фрицевич открывает карту. Джокер. Прекрасная дама в декольте и длинной юбке в обтяжку.
Триста очков. Почему она– джокер? Только потому, что ее шлепнули? А кого из колоды пощадили? Двух идиотов, играющих в карты на деньги, которых у них нет.
Послушать их да и отправить в дурку:
«Мамой не крой, Ленин взял Маркса, дамы спорят, взял тебя с пальмой, а я тебя с Крейсером Аврора, Крейсер Аврора Туз, но я-то Король!»
Яков Петрович продувает. Он в мизере из-за дамы сердца Моисея Фрицевича. Попалась она ему невовремя. Минус триста.
Но и Моисей Фрицевич промахивается,– заказал две взятки в расчете на монументы, а Яков Петрович ему раз– и снова джокер.
Дама эта действительно особенная. Никому не подыгрывает. Яков Петрович вдруг как рассмеется.
А что тут смешного?
– Послушай, Моисей Фрицевич, а что если бы… они видели… как мы в них… играем?!
– И показываем интимные тайны…– подхватывает Моисей Фрицевич.
Море шумит, цикады трещат. Пароходик подмигивает с горизонта.
Яков подсчитывает очки. Никто никому ничего не должен. Ни они нам, ни мы им, ни мы друг другу.
Ничья.
Развеселились оба. Укладывают дам в лифчиках и шароварах в коробку из-под пылесоса, а чопорных и декольтированных– в коробку из-под печенья «Праздничное». Джокера, даму сердца Моисея Фрицевича, по долгом размышлении, устраивают на ночлег отдельно.
А что если, думает Яков Петрович, а что если… прекратить экономить да пригласить Симу в кафе…
А что если, думает Моисей Фрицевич, взять вот прямо сейчас и выйти к морю…
Пароходик подмигивает, цикады поют, море молчит.
Все хорошо, только слезы мешают.
Яков Петрович выходит из ванной. В дрожащей руке– кружка с зубными протезами.
– Яков, известно ли тебе, что слеза, искренняя, от счастья, способна проломить крышу?
Яков кивает, берет со стола коробку из-под печенья «Праздничное» и скорей в свою комнату. Пока милость Фрицевича не сменилась на гнев.
Моисей Фрицевич лежит у открытого окна и думает о греке, осевшем на старости лет в Иерусалиме. А его ночлежка– в Ашкелоне, тоже святая земля. Рядом с ним, в коробке из-под пылесоса, спят дейнековские девы в белых лифчиках и черных шароварах…
Постанывает море. Или Яков Петрович?
На каком языке он думает?
Постепенно расчищаются вавилоны и авгиевы конюшни.
Моисей Фрицевич дотягивается рукой до стола, нащупывает фотографию дамы сердца, кладет ее на подушку и гасит свет. Чуть приподнявшись, он смотрит в темное окно. Много воды. Моря он не заказывал. Значит, минус триста. И дама, на которой лежит его неподвижная ладонь, вне игры. Мизер.
На рассвете набегают волны, приносят с собой ветер.
Скрипит ставня, храпит Яков Петрович.
В оконных рамах, как в люльке, раскачивается отражение Моисея Фрицевича.
На линии огня
Сижу я как-то на автобусной остановке, жду автобус 22. Автобуса нет и нет, зато подходит ко мне нужный человек, Шломо Стернфельд. Директор израильского киноцентра. Вот у кого есть деньги на фильм!
Когда-то, лет десять тому назад, мы ходили к Шломо с поэтом Барсуковым. Хотели продать готовый сценарий. Не вчитываясь, Шломо насчитал три миллиона. По самым низким расценкам и при условии, что мы выкинем половину героев и съемочных дней. Если не выкинем– шесть миллионов, а то и больше. Мы с Барсуковым онемели. Вернее, онемела я, Барсуков же, гений за чертой бедности, в уме зарабатывал миллиарды. Русский поэт без гроша в кармане, прибыл в Израиль в разгар войны с Саддамом Хусейном. Зачем? А чтобы оказать моральную поддержку некой поэтессе, с которой он состоял в переписке. Израиль– благодатная почва для тех, кто склонен к героическим поступкам. Однако романтика войны с сиренами, противогазами и поэтессами ему быстро наскучила, и он решил искать поприще. И нашел. Я рассказала ему историю художницы Фридл, погибшей в Освенциме. Мы получим Оскара!– воскликнул Барсуков. Он переехал к нам. Мы писали вдохновенно. Это– фильм для Голливуда, говорил Барсуков. Поверив Барсукову на слово, Шломо заказал перевод на английский. Он добился того, что орган культурной абсорбции репатриантов заплатил моему мужу за перевод. Полистав рукопись на английском, Шломо сказал: «Это европейско-американский фильм, Израиль сможет войти в кооперацию, но на более поздней стадии». Мы послали сценарий Шварценеггеру и Барбаре Стрейзанд. Барсуков прочил ее на роль главной геронии. Не знаю, кого должен был играть Шварценеггер. Ответа мы не получили. Барсуков вернулся в Москву. И вот уже десять лет собирается в Голливуд,– на месте будет проще пристроить наш сценарий.
Все это быстро промелькнуло в памяти. Неизвестно, о чем думал Шломо в минуту моей задумчивости.
Он меня не узнал. Во-первых, без Барсукова. Во-вторых, прошло десять лет, в-третьих, мне только что выдрали зуб, и отходила заморозка. Я представилась. Шломо моргал, морщил лоб,– где он меня видел? А, вспомнил, сценарий про какую-то художницу… Фридл,– подсказала я ему и расхвасталась. Выставка путешествует по миру, каталоги на четырех языках… В Израиле хвастовство– не порок. Так что родину я выбрала правильно. Шломо поздравил меня с успехом. Пора переходить к делу. Мне нужна Шломина помощь. Нет проблем. Если он хоть чем-нибудь может быть полезен… Я рассказала ему про Бедю, девяностопятилетнего художника. Разумеется, гениального. Шломо скис. История про старого, никому не известного художника, кто даст на это деньги! Тем более сегодня, когда все бюджеты срезаются.
Автобус 22 ходит с большими интервалами. Сюжет Бединой жизни разворачивался и длился на остановке.
Дорогой беседа потеряла направление. Прозвучало имя Масарика. Бедя и президент Чехословакии Масарик родились в городе Ходонине. Козырнув примечательным фактом, я сбила Шломо с магистральной линии. Масарик, это тот, кого убили в 1934 году. Нет, Масарик умер своей смертью. Это его сына, Яна, гэбэшники выкинули из окна. Шломо сказал, что у Масарика не было сына. Ну, это уж слишком!
Народу на улицах Иерусалима мало, пробок нет, ехали мы быстро.
Если ты права, я приглашу тебя на чашечку кофе,– сказал Шломо и вышел из автобуса.
Вскоре он позвонил, признался в том, что спутал Масарика с Шушнигом, и предложил встретиться. В восемь вечера, на улице Шая Агнона, 8. Первый этаж, нажать на кнопку «Бар Шай». Бар Шай? Да, так зовут хозяина дома, который будет читать лекцию на тему Четвертой симфонии Чайковского. Он читает раз в месяц, на дому.
Окно во всю стену смотрело в ночной Иерусалим, залитый огнями. В центре гостиной, на низком журнальном столике, лежали книги про Чайковского и сухофрукты. Разряженные, припомаженные и припудренные европейские старики и старушки рассаживались по периметру. Судя по хохмам и репликам, они хорошо знали друг друга.
Старик Бар Шай, грузный, в запятнанной одежде, сидел рядом со стереосистемой. Мы со Шломо– на почетном месте, подле хозяина. Пока гости собирались, один из присутствующих, уловив ухом гул вертолета (то есть уловили все, но он был самым тревожным), попросил на секунду включить телевизор. Включили, что ввело Бар Шая в тихий, но вполне очевидный гнев,– к лекции о Чайковском вертолеты никакого отношения не имеют. Выключили телевизор. За окном бухнуло. Стреляли в Гило.
Бар Шай начал повествование. О предшественниках Чайковского, о Глинке, в общем, все очень интересно, популярно и, как говорят, «им пильпель» (с перцем). Пильпелем особо была присыпана личная жизнь композитора, которому Бар Шай чисто по-человечески сочувствовал, однако, не будь Чайковский гомиком, что в его времеа было «меод каше вэ-йотэр мэсукан» (очень тяжело и еще более опасно), не родилась бы Четвертая симфония. Доктор послал Чайковского, пребывавшего в депрессии, в Италию, и там он написал эту симфонию и оперу «Евгений Онегин».
Неподвижность лектора имела причину– его разбил инсульт, и единственное, что осталось в сохранности, это память и интеллект. Шломо сказал (провожая меня после лекции до угла), что Бар Шай выиграл международный конкурс знатоков музыки, что он помнит наизусть все имена Сибелиуса, кроме первого, Ян, и знает все те части и мелкие частички мелодий, которые Хачатурян покрал у Малера.
Прибывающие с запозданием гости не мешали докладчику. Мешал гул вертолетов. Бар Шай велел закрыть окна. Закрыли. Дамы принялись обмахиваться проспектами с концертов Чайковского (у Бар Шая была огромная коллекция всего, что связано с музыкальными событиями), но гул вертолетов отвлекал и при закрытых окнах.
Сделали перерыв. С пирогами и кофе. Я так и не поняла, есть ли у Бар Шая жена и есть ли деньги у директора киноцентра. Так почему бы не спросить прямо? Возраст у Шломо пенсионный, беседует со стариками о шахматах, ни слова о кино. Какие деньги!– воскликнул Шломо.– Все на оборону, я директор без средств. Но мы попытаемся выйти на тех, у кого они есть. То есть снова к Шварценеггеру и Барбаре Стрейзанд?
Вторая часть программы состояла из прослушивания симфонии. Вылавливались мотивы и темы, партии отдельных инструментов.
Прибавляя громкость по просьбе глуховатых гостей, Бар Шай не рассчитал, и «система» ухнула взрывом. Хорошо, что не ХАМАС,– сказал старичок в кипе, сидевший рядом со мной.
Симан ло тов (дурной знак),– вставила дама в черном, воспользовавшись паузой.