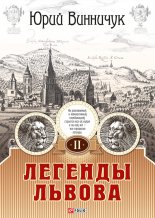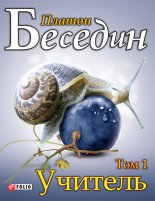Вечный сдвиг. Повести и рассказы Макарова Елена

– Ее.
– И какой долдон вымахал, на голову выше меня. Да, пора жениться.
– Женись, Генька,– я кокаю яйца о ребро сковороды, подаю тарелки и вилки.
– Смотри-ка ты, научилась кой-чему, тут не хочешь, а научишься, да? А эта твоя, без мужа?
– С мужем.
– Где он, интересно, был, когда мы ее в роддом отводили?
– Напился.
Лень рассказывать Геньке, как все произошло тогда. Входя в ум на зрелом витке, все реже думаешь: почему? Из вопрошателя становишься летописцем.
Генька ест с аппетитом. К сорока годам уже ощутимы потери.
Кто уехал, кто умер, а мы с Генькой– целы и невредимы, запиваем завтрак крепким чаем.
Звонок в дверь. Генька встает, прислоняется к стене, чтобы вошедший не заметил его. Такой стал боязливый.
Алевтинин Толян. С сеткой. В сетке– бумажный сверток.
– Мама послала. Говорит, надо сразу снести, а то закрутишься-забудешь, кто ты и как тебя зовут,– Толян запнулся, покраснел. Краска залила лицо с ушей, а нос обошла стороной. Точно, как Алевтина!
Когда он ушел, наотрез отказавшись от чая, мы развернули сверток с заначкой на будущего и, увы, неосуществившегося ребенка. Две рубашки, брюки, шорты– все застиранное, но целое.
«Хорошее кто ж кидает! Глянь, в этом платье я еще при первом муже фикстуляла, а теперь рожать пойду».
– Не выкидывай,– говорит Генька,– все-таки человек старался, берег. На даче пригодится.– Он заворачивает вещи в газету, кладет аккуратно поверх книг. Затем отключает газовую колонку, убирает тарелки в мойку, насвистывая лихой припевчик руллы-ты-руллы.
Судьба припасла Геньку на черный день. И забыла о нем. Вот он и таскается с чужими книгами и чужих жен отводит рожать. Вернее, всего одну чужую– Алевтину. Тогда же, тринадцать лет тому назад, Анька поселила у себя однорукого, прельстившись его геройством– ловко выпер с эстрады Борьку Такого.
– Как поедешь?
– На попутках.
– Ты в своем репертуаре,– вздыхает Генька.– На месте твоего мужа я бы это запретил.
…Навязчивые сны трясутся со мной в грузовике. Кто-то прячет от меня лицо, избегает свиданий, присылает вышитые гладью слова на иностранном языке. А что, если это в них указано место, где зарыт клад?
Старая няня, посылая в голодную деревню курицу, вложила в ее чрево десятку и приписала: «Ишшы в куры!». А нянина дочь не разобрала смысла, сварила курицу вместе с десяткой. Сорок лет минуло, а они все вспоминают, все горюют, какую ценность схлебали почем зря!
Все нити стянуты в узоры. Амурские волны накатывают на дунайские. Духовой оркестр нашей памяти играет под сурдинку.
Архивы эпохи застоя
Веронике Петровне приснилось много-много часов, и стенных, и ручных, и будильников, и с кукушкой.
Элеоноре Ивановне – чайные сервизы в разноцветный горошек, миленькие, и еще какой-то человек ее догонял, и сервиз один побился,– не то сама она его с подноса уронила, не то человек локтем поднос пихнул. Что-то неясное, но с посудой и с человеком.
Сильвии Эрнестовне – война, как будто кругом бомбы рвутся, а ее сын бежит по полю ягоды собирать, а там огонь, и он падает вместе с лукошком, очень страшный сон, к тому же цветной.
Ираиде Игнатьевне– лето, но не война, а наоборот, мирная жизнь на берегу моря, будто они наловили крабов, целые сети, и среди крабов маленький рачок. И жара будто, солнце светит, и все в панамках склонились над сетями, дальше что-то еще было, но будильник прервал.
Инессе Фердинандовне– будто она родила второго ребенка и ищет его в мясном магазине. И всем объясняет, что это ее ребенок, чтобы ей его отдали живым и невредимым. Такая жуть!
Анне Ивановне, машинистке кафедры, ничего не приснилось, и она ушла в свой закуток, в «зеленую зону», уселась под фикусы, кактусы и гортензии, закурила «Беломор» и принялась выстукивать очередной отчет.
Лаборантки Люся и Люба убрали со стола, вымыли посуду.
Очередной цикл врачей-гигиенистов разъехался по домам, оставив о себе память– чайный сервиз из сна Элеоноры Ивановны, в желтый горошек.
После чая всех смаривало. Сидя за столом, прикорнула Инесса Фердинандовна. Элеонора Ивановна, прикрыв ладонью трубку, чтобы не разбудить коллегу, чирикала по телефону, Сильвия Эрнестовна просто так сидела, расслабившись от аутотреннинга, Ираида Игнатьевна вязала. Лаборантка Люба, толстая, с гормональным сдвигом,– взвешивалась. Люся слюнявила марки и пришлепывала их к комсомольским билетам.
Люба до сих пор путает Сильвию Эрнестовну с Инессой Фердинандовной, а Люся с первого раза всех запомнила правильно, и что кому купить на обед, кто на какой диете, у кого разгрузка, у кого печень, у кого что.
Любе поручено сразу два дела– раскраска и расшивка. Раскрашивать план здания ПТУ– само здание– в желтый, траву вокруг– в зеленый, спортивный комплекс– в коричневый,– и расшивать журналы по темам– осветительные приборы, школьная мебель, организация труда в ПТУ.
Между циклами все дремлют. Во время циклов– пробуждаются. Нести в конференц-зал планшеты с кривыми позвоночниками от неправильного сидения за столом, макеты осветительных приборов и стульев. И самое ответственное– чай. Чай на всех. Столы сдваиваются, страиваются, сервизы прополаскиваются и выставляются на столы. А главное– появляются мужчины. Их тоже немного среди врачей-гигиенистов, но зато они шутники, сыплют медицинскими анекдотами, от которых Люся рдеет, а Любе хоть бы хны. Одна Анна Ивановна сидит в стороне, как сыч, за своей машинкой, сосет «Беломор». «Так вам всем и надо»,– говорит ее взгляд из-под тяжелых век.
Лаборантки с кафедры гигиены питания завидуют Люсе с Любой. У тех вонь от подопытных мышей и крыс, там банкеты не закатишь, а их кафедра– чистенькая, уютненькая, ни пробирок, ни штативов, никакой подопытной живности. И начальство, и научный состав– одна большая семья. Лишь АннаИвановна держится особняком. Больше всех работает, меньше всех получает.
Но и у Анны Ивановны есть одна человеческая слабость– она собирает открытки с кошечками и все про кошек. Марки, и этикетки, и статуэтки.
Кошками ее можно задобрить. Люба ей марки подарила с кошками из республики Бангладеш. За кошечек она печатает и кафедре питания. У них по штату нет машинистки, и все к ней подмазываются, с кошечками. Так что она часто остается в лаборатории допоздна. Ну а что ей дома делать? Ни мужа, ни детей. Кошки и те не живые.
Любе надоело раскрашивать, и она пошла на соседнюю кафедру. Люся уехала на Площадь Восстания собирать взносы. В кабинете заведующей все выбирали фасоны из «Бурды». Элеонора Ивановна советовала, у нее был вкус, Ираида Игнатьевна жаловалась на отсутствие пригодной материи, Сильвия Эрнестовна искала для своих двойняшек-олигофренок что-то простенькое, но с изюминкой, Инесса Фердинандовна все хаяла– и фасоны, и их нравы, и современную молодежь, Вероника Петровна часто отвлекалась на телефонные звонки, к тому же у нее свой стиль, английский, и все это нынешнее разнообразие не для нее. У Мирей Матье всегда одна и та же прическа. И у каждой женщины должен быть свой стиль, плевать на новомодные западные журналы.
К концу рабочего дня опять вспомнили про неразобранный шкаф с бумагами бывшей завкафедрой, профессора Сорской. Два года прошло после ее смерти, пора все рассортировать по папкам. Летом. Когда циклы будут выездными и лаборатория опустеет.
Все ушли. Анна Ивановна в охотку напилась растворимого кофе, постояла у окна, поглазела на колокола Крестовской церкви, на крыши сараев, отданных под гаражи. Когда они вселились на Графский, вокруг церкви ютились частные домики, их вскоре снесли, а сараи оставили. «Четвертый на восьмой, пятый на одиннадцатый…»– доносилось со станции Рижской.
Она убрала с глаз долой безграмотный отчет Ираиды Игнатьевны и достала из ящика рукопись писателя Рукавишникова.
«Реальный предмет, будучи воплощен в слове, не исчезает и не растворяется в нем, как сахар в воде,– перепечатывала Анна Ивановна, морщась.– Он стоит скалой, только обмывают его и шлифуют волны новых смыслов. Эти смыслы суть пена, пузырями вскипающая у подножья скалы. Образ, созданный на основе реального предмета, дает ему, предмету, иное истолкование. Образ отторгается от реальности, как дитя от матери при родах. Но дитя не отрицает мать, оно лишь придает женщине, его родившей, новый смысл».«Зачем пускается он в философию,– переживала Анна Ивановна,– Такую рукопись ему живо завернут. Что, скажут, за новые смыслы? Причем скала и пена пузырями?»
Вероника Петровна с Сильвией Эрнестовной пошли в «Океан» за селедкой. Погода мерзкая– снег с дождем, а в магазине тепло, даже жарко в длинной очереди за атлантической сельдью.
– Никогда раньше семи не придешь,– вздохнула Сильвия Эрнестовна, по национальности испанка. От испанки у нее скверная дикция, каша во рту, и кудри мелким бисером, и еще кожа, матовая, с выпуклыми коричневыми родинками. Языка не знает, в Испании отродясь не бывала, та еще испанка.
Вероника Петровна слизывала помаду с губ, обкусывала их с углов, потому что в конце зимы организм теряет витамин Б, и в уголках губ образуются «заеды». Вообще к весне Вероника Петровна ощущала себя разбитой. Словно вместо ее головы привинтили ей к плечам арбуз тяжелый, и плечи от этого горят, и по позвонкам как будто мураши бегают. Дома ее ждали мать в инсульте, муж с радикулитом и дочери, студентки фармацевтического факультета, одна на третьем, другая на пятом. Стирка, мойка, помойка– обычный набор, профессор женского пола не избавлен от будничных забот.
– Зато летом во Фрунзе изжаримся,– сказала Сильвия Эрнестовна.
– Ираида Игнатьевна тоже хотела с нами во Фрунзе, а вытянула Красноярск.
– Но в прошлом году ей достался Нальчик, хорошее место.
Так они стояли в очереди, вспоминали выездные циклы под селедочное амбрэ.
– Вот бы никуда не спешить, по ВДНХ гулять без авосек, как иностранцы,– вздохнула Сильвия Эрнестовна.
В метро они прибились к задней двери, поставили тяжелые сумки на пол. Раньше Сильвии Эрнестовне нравилось стоять перед темным окном и смотреть на свое отражение. А как стукнуло пятьдесят, стала она прибиваться к стенке– от себя подальше.
До Тургеневской они обсуждали доклад приезжего гигиениста из Чехословакии. Не отстают чехи, и в чем-то даже впереди нас, например показатель по сколиозу у них в два раза ниже, с прививочной системой иначе обстоит– подходят более дифференцированно, а у нас пока еще прививают в массовом порядке, даже оспу, давно отмененную Всемирной организацией здравоохранения, и потому у нас процент аллергизации растет, а у них убывает. Со стафилококком у них благополучно. И с кишечной палочкой.
– Но у нас процент высокий за счет среднеазиатских республик,– заметила Вероника Петровна,– если бы брали только по Европейской части…
Но тут мелькнул мрамор Тургеневской,– пора проталкиваться. Распрощались на переходе. Сильвии Эрнестовне на Преображенку, а Веронике Петровне– на проспект Вернадского.
Элеонору Ивановну у Крестовской церкви ждала «Волга». Времени на свидание осталось всего час сорок. Но и час сорок– время, и они с Ильей Романовичем поехали в Борисоглебский.
Цветомузыка, вино из Грузии, мягкие гобелены из Прибалтики, здоровый секс,– ни у кого из сотрудниц не было такой отдушины, и потому те старели на глазах, а Элеонора цвела, несмотря на свои сорок восемь.
У главного инженера завода была семья на Юго-Западной, у Элеоноры– на Профсоюзной, так что по пути. Квартиру в Борисоглебском Илья Романович снимал,– это его убежище, место, где можно забыться. Сегодня они забылись ровно на час, по будильнику, и все равно день увеличился, разбился на три неравные доли. Их доля была самая маленькая, перешеек между островами «работа– дом»,– но на этом перешейке они были одни на свете, и это было их счастье.
Дома, облачившись в халат и напевая, Элеонора жарила отбивные на одной сковородке и картошку– на другой, она успела до мужа, и это тоже хорошо, потому что приятно мужу, когда ему открывает дверь красивая жена, в халате, спрашивает, как дела, и целует его, вымочаленного беседами с психами, в губы.
Инесса Фердинандовна, выйдя на воздух, ощутила головокружение. Работа и диета– несовместимы. За день она по расписанию съела три яблока, и теперь голод пригнал ее в кафе «Лель», но там не было мест, и она в отчаянии купила в булочной ситник и съела его одним махом. А чтобы не толстеть, надо долго и тщательно пережевывать пищу.
Так, в недовольстве бесхарактерностью и слабоволием, доехала она до станции Беляево, и это еще был не конечный пункт. К автобусу выстроилась очередь, и если бы не гнусная погода, она бы отправилась пешком, растрясла бы предательский ситник, но погода ее остановила, и она еле впихнулась в автобус, где ей наступили на больную ногу, потом сын сообщил, что получил двойку по зачету,– она, не помня себя, кричала, что все это из-за его расхлябанности, из-за ее занятости, она вкалывает как ломовая лошадь, а он…
Сын на это заперся в комнате и завел магнитофон. Потом она к нему ворвалась с криком на ужин, и они сели лицом к телевизору, и ели глазунью с баклажанной икрой, молча глядя в телевизор без звука, потому что нет возможности вызвать монтера в субботу– на субботу заказы не принимают, а в будни они не могут, не брать же бюллетень по уходу за больным телевизором.
После ужина полегчало, но тут сын нанес второй удар– звонил отец, он уезжает на Кубу, с новой семьей, на три года, и это он сказал не ей, а сыну, значит, с ней он уже и говорить не хочет. Она велела сыну позвонить и выяснить про алименты,– как теперь с этим будет,– но сын отказался, и она оделась и ушла выгуливать спаниеля Джерри.
Джерри, как назло, рвался на автомобильную стоянку, где выгуливать собак строго запрещено, Инесса Фердинандовна тянула поводок на себя, Джерри скулил, и проходящий мимо пьяница обозвал ее дамой с собачкой, отя это и не оскорбительное прозвище, но Инессу Фердинандовну, без того воспаленную, оно задело, потому что еще со школы образ дамы с собачкой запомнился как одиночество женщины. Инесса Фердинандовна вздохнула и сказала Джерри: одни мы теперь с тобой, на всем белом свете. Но Джерри было наплевать– он сделал свои дела и снова рвался к стоянке. Тогда Инесса Фердинандовна взяла Джерри на руки, своего маленького ребеночка, и пошла вдоль бело-зеленых громадин новостроек к своему подъезду, в свою квартиру, к своему сыну, чтобы с ним, наконец, как следует поговорить.
Ираида Игнатьевна с мужем и младшей дочерью встретились у театра Образцова. Муж достал билеты на «Сотворение мира», спектакль кукольный, но для взрослых, про всякие шалости бога с Адамом и Евой, очень хороший для развенчания религиозных предрассудков. Муж Ираиды Игнатьевны, подполковник в отставке, громко смеялся, а дочь на него шикала. Ираида Игнатьевна в антракте умоляла Верундера не пилить папу, пусть он порадуется вволю, посмеется над тем, что смешно. Это же так естественно.
«А что естественно, то не стыдно!»– вставила Верундер матери, намекая на интимное, на противное, что там у них с отцом бывает. Но Ираида Игнатьевна только улыбнулась дочери, мол, ничего, это подростковое, пройдет, у старшей тоже было, а теперь вот сделала их с папуликом дважды дедом-бабой…
После «Сотворения мира» решили пройтись по переулкам до Кировской, по местам детства и юности родителей. Ираида Игнатьевна с возрастом стала сильно дальнозорка, и глаза ее, увеличенные очками, казались удивленными. По красоте она уступала разве что Элеоноре, но Элеонора регулярно посещала косметический кабинет, плавала в бассейне и спала без подушки. Ираида Игнатьевна не старалась угнаться за Элеонорой, но ухаживала за кожей лица и держала фигуру. Она носила платья-самовязы, в обтяжку, на чехле, чтобы не просвечивало, муж этого не терпел. «Семья– основа,– радостно думала Ираида Игнатьевна.– Потому-то у Инессы Фердинандовны все наперекосяк. Эндокринная система страдает, гормональный обмен нарушен, и пей хоть одну воду– все равно будешь жиреть».
Анна Ивановна ушла в восемь. Сдала ключ вахтерше, заглянула в церковь. Поставила дежурную свечу за упокой, постояла, сомкнув веки, чтобы ни на кого не отвлекаться, до конца службы, на выходе раздала пятаки нищим и, зайдя за ограду, закурила.
Дома она достала с этажерки «Иностранную литературу» с повестью «Дансинг в ставке Гитлера». Там был очень похожий описан роман. Или все романы про войну похожи? Анна Ивановна потянулась за «Беломором», хотя давала себе слово на ночь не курить– утром от этого болит голова.
Люба весь вечер проболталась у подружки. Пришли ребята из техникума, с выпивкой. Потанцевали, потом разобрались по парам. Любе достался кадыкастый Женя, худой, как рыбий скелет, и ничего у них не вышло.
Разбитая вернулась Люба домой, где отец с «мачехой» храпели на раздвижном диване, заняли ее место, думали, не придет. Любу стошнило, она постелила себе на полу и поставила будильник на 7.00.
Люся познакомилась в кино с Витей, студентом Бауманского училища. Наврала ему, что учится в МАИ. После кино они сходили в кафе-мороженое. У Вити не оказалось денег, а у Люси при себе были казенные рубль сорок, комсомольские взносы. После кафе Витя завел Люсю в подъезд погреться, влез ей под юбку, и она вывернулась и убежала. Витя нагнал ее и извинился. Признался, что наврал ей про Бауманское, что учится в десятом классе. Люся созналась, что лаборантка. И они снова подружились, и Люся продиктовала ему рабочий номер телефона, а Витя записал его горелым концом спички на коробке.
Москва заснула. Впрочем, делая зарядку, завтракая, спеша в школу и на работу,– она продолжала спать. Не зря семидесятые годы по справедливости охарактеризованы как застойные.
Миша Гольдин, студент первого курса факультета журналистики, заочник, мечтал устроиться на работу в самую гущу застоя (тогда это понятие еще не было введено, события, о которых идет речь, относятся к 71-му году). Через влиятельных знакомых отчима Мишу удалось устроить лаборантом на кафедру гигиены детей и подростков при Центральном институте усовершенствования врачей (ЦИУ).
Первой его увидела Люба. Она стояла на весах и переводила гирьку с 76 кг на 75 (за одну ночь килограмм долой), когда в лабораторию ввалился ражий детина, с копной черных волос, еврейским профилем и красивыми губами.
– Худеем?– подмигнул Миша Любе.
– Худеем,– ответила Люба.
Но тут явилась Вероника Петровна и увела Мишу в свой кабинет. Чтобы ввести в курс дела. Затем она представила кафедре нового лаборанта. Подвела его торжественно к святыне, шкафу с неразобранными бумагами– для будущего журналиста нет работы увлекательней, чем знакомство и опись архива любимой всеми Галины Капитоновны Сорской. И Вероника Петровна пустилась в пространный экскурс по санитарии и гигиене подростков. Миша слушал с огромным, неослабевающим интересом, чем спровоцировал Веронику Петровну на длиннейшую речь,– и она бы ни за что ее не прекратила (обычно на ее докладах все дремали, вязали или читали),– если бы не вмешалась Ираида Игнатьевна:
– Как Миша разберется, не зная специфики?
– Он сделает опись содержимого, а потом, по описи, мы вместе посмотрим и решим, что куда,– сказала Элеонора Ивановна.– Мы не бросим молодого человека в беде, верно?– и она снова улыбнулась Мише.
Люся и Люба размачивали в тазу последние номера «Санитарии и гигиены», добывая из их недр статью Сильвии Эрнестовны о ВЦХ и КДС, и реферат Ираиды Игнатьевны на тему «Высота стула для работников умственного труда». Пока красно-белые журналы лежали корешками в содовой воде, Люба с Люсей шептались. «Кончай крутить динаму,– сказала Люба Люсе,– или иди в подъезд с мужиком, или не иди». Архив распечатали. Миша начал с нижней полки– папок с газетными вырезками. Статьи о врачах-убийцах в подчеркиваниях и восклицательных знаках, фотография Буси Гольдштейна, слащавого вундеркинда со скрипкой, взята в зеленый овал,– молодая, мол, поросль… Четыре папки с газетными вырезками Миша отложил в сторону. В пятой лежали желтые машинописные страницы, перепечатанные без интервала. «Кунина В. И.– идеологически неустойчивая, мелкобуржуазное сознание не преодолено. В работе “Санэпидстанция коммунизма” допущен ряд заявлений, искажающих великую идею централизации СЭС на территории страны, также в работе приведены заниженные данные по нормам жилплощади на единицу населения, а коэффициент жилищных условий, не соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, неоправданно завышен. Обратить особое внимание!»
– Сорская ваша– доносчица,– сказал Миша.– Настучала на Кунину.
Кафедра замерла.
Инесса Фердинандовна оказалась самой смелой– она первая открыла рот.
– Клевета! Он подослан провокаторами, мы не позволим пятнать имя дорогого всем нам человека.
Все повскакали с мест. Захват папки № 5 был произведен той же Инессой Фердинандовной.
Миша ушел, и правильно сделал, никому он здесь не нужен, баламут.
Шкаф закрыли на замок.
– Враги мечтают посеять вражду на кафедре,– сказала Вероника Петровна,– и засылают к нам таких вот Миш Гольдиных. Попробуй он прийти сюда завтра, лично спущу его с лестницы.
– И допустите тактическую ошибку,– улыбнулась Элеонора Ивановна.– Этим вы только покажете, что нам есть что скрывать, навлечете подозрение. Наоборот, надо встретить его как ни в чем ни бывало.
– Да вы просто умираете без мужского общества,– съязвила Инесса Фердинандовна,– лишь бы в брюках, и в них…
– Зато вы цветете без мужчин,– отозвалась Элеонора Ивановна,– по лицу видно, как вам хорошо.
– Не надо…– сказала Люба от всего сердца.
– В беседы взрослых я бы на вашем месте не вмешивалась. Это неэтично,– заметила Инесса Фердинандовна.
– Девочки,– Вероника Петровна ударила ладонью по столу.– Я совершила ошибку, доверив архив чуому человеку…
– И кому мы теперь это доверим?– спросила Ираида Игнатьевна.– Или так и будем жить рядом с пороховым складом?
В пятницу вся кафедра взяла отгул. Кроме Анны Ивановны. Ей все равно делать дома нечего. Анна Ивановна нашла ключ от шкафа в комнате заведующей, сложила все папки в большой мешок, вынесла на помойку и сожгла.
Пусть живут себе мирно. Она бы и остальные бумаги, что двадцать восемь лет перепечатывала, меняя кое-где местами слова и параграфы,– сожгла бы вместе с архивом Сорской.
В понедельник все явились здоровые, красивые, переобулись из сапог в туфли– начинался новый цикл. На отсутствие папок в шкафу никто и внимания не обратил. Разве что Вероника Петровна справилась у Анны Ивановны, не приходил ли этот Гольдин на кафедру в пятницу. Нет, не приходил. Ну и забудем об этом инциденте,– сказала заведующая.
Миша уехал в Америку и описал этот случай в журнале «Таймс». В статье «Один день на кафедре» он все подметил: как мочат корешки журналов в тазу со щелочью, вместо того чтобы снять ксерокс за минуту, как транжирится рабочее время– работают одни машинистки и лаборантки, а научные сотрудницы рассказывают друг другу сны. Их кумир– бывшая начальница кафедры, доносчица и сталинистка.
Статья попала к советскому журналисту в США, тот переслал ее в Минздрав РСФСР. Видимо, Миша забылся в этой Америке. Иначе зачем ему было в фельетоне указывать адрес и полное наименование учреждения?
Лет через пять на кафедру была прислана комиссия. Никакого архива она не обнаружила, из прежнего состава сотрудников осталась одна лаборантка Люба, Любовь Тимофеевна, машинистка. Анна Ивановна умерла. Вероника Петровна тоже. Ираида Игнатьевна жива, но у нее неладно с речью, Элеонора Ивановна переехала на Профсоюзную, у нее умер муж, и она вышла замуж за другого, у того как раз тогда же померла жена. Кто же еще был? Инесса Фердинандовна! Но к той лучше не соваться. Сильвия Эрнестовна перешла в Первый мед, на кафедру микробиологии. Да, еще Люся, у нее двое детей и она живет в Северодвинске. Комиссия пообещала оказать содействие в покупке ксерокопировальной машины «Эра». А то выставили русский народ дураком– мол, в эру прогресса он журналы в тазу размачивает!
– Что бы мы без вас делали,– улыбается Любови Тимофеевне завлаб, доцент, с докторской на подходе.– Это вам,– выбрасывает он руку из-за спины, а в руке– шоколадка, с кошечкой на этикетке.
Невменяемые члены
Если ты не склочник, не бросаешь окурки где попало, не мусоришь в зеленой зоне,– тебе хорошо. Во всяком случае, Семену Харитоновичу, инвалиду войны на деревянном протезе, было хорошо.
Неподалеку от дома кинотеатр «Встречный», где показывают фильмы еще раньше Москвы, и у них там давка, а во «Встречном»– бери билет и смотри.
Перед кинотеатром детский городок с тесаными изделиями– избушкой, Бабой Ягой, Машенькой, медведем и лешим, слишком, на взгляд Семена Харитоновича, сучковатым. Раньше тут был сквер с асфальтированными дорожками, и на их пересечении стояла плита с предупредительной надписью: «Здесь будет установлен памятник в честь шестидесятилетия советской власти». Со временем всю площадь заасфальтировали,– иначе как строить детский городок,– но плиту не тронули, и граждане об нее спотыкаются. Ни к чему это! Для идейной подпитки у нас есть Ленин, он стоял и будет стоять в центре города, по нему будут сверять часы социализма будущие поколения.
Семен Харитонович сел на скамью, выпростал протезную ногу с черным торчком. Торчок видно, когда брючина заголяется, а при ходьбе нет, в ходячем виде он никому не портит настроения и не омрачает общую картину жизни. Семен Харитонович принял любимую позу– сложил ладони на инструктированном набалдашнике, лег на них подбородком. Светило солнце, падали кленовые листья, копошились дети, будущие ученики школы искусств. Прежде такой школы не было, была музыкальная, и располагалась она в одном из деревянных бараков, где давным-давно квартировали строители канала– водной централи Москвы и Московской области, разрезавшей родной город Семена Харитоновича пополам. Нынешняя молодежь и не задумывается, откуда все взялось, и его ветеранский долг– напоминать об этом. Для музыкального развития барак не годился. Со слов одной гражданки, там сливались все звуки в один, невозможно было контролировать, кто что играет.
На новой школе искусств– личной заслуге Семена Харитоновича– красуется вывеска «Дети– наше будущее». И это так и есть. А вот с бывшим директором музыкальной школы, который потом возглавил школу искусств, получилась неувязка. Не доглядел он, как завистники развели под ним костер, и, вместо того чтоб сгореть с честью, тлел целый год в Кащенке, стал психическим инвалидом и теперь сочиняет еврейские мелодии у себя в квартире.
Но не об этом хотелось думать, греясь в лучах ласкового солнца. Хотелось о значительном, общественно важном, где он, Семен Харитонович, занимал передовую позицию.
Без боя ни пяди земли! В тот незапамятный день он облачился в орденоносный пиджак и направился в горком с предложением. Город не бедный, с секретным производством. Наземные коммуникации замаскированы щитами «Овощи-фрукты», «Одежда», «Товары повседневного спроса», сами же щиты заслонены высокими тополями и развесистыми липами– врагу сюда не прорваться. Мы не иждивенцы, мы кормим страну, нам положена культура,– повторял про себя Семен Харитонович главные слова, которые скажет Хорунжему.
Хорунжий, ну точно сучковатый леший из детского городка, стучал по столу волосатыми костяшками пальцев в нетерпении конкретного дела. Но на Семена Харитоновича стуки по столу и взгляды мимо не действовали. Опыт лектора-пропагандиста приучил его к постепенному подходу к теме. Стратегия разработки главного удара– основа военного искусства. Стратегия и тактика рука об руку заходят в тыл врага, и бац:
– Требую новую школу!
Хорунжий вздрогнул, икнул, задвигал челюстями, сжевал густое словесное месиво, запил его водой из графина. И принял прежний вид. Тщательно подготовленный удар сработал вхолостую. Почесав крупный нос с черными волосками, пробивающимися из ноздрей, и смерив взглядом ветерана на протезе, Хорунжий принял сталинскую позу:
– Мы посоветуемся с товарищами, подумаем и решим.
Семен Харитонович выиграл бой. Школу искусств построили рядом с горкомом. В честь такого события директор Смородницкий пригласил Семена Харитоновича в ресторан «Былина» с оркестром по вечерам. Музыка мешала– ни поговорить, ни даже погрустить о былом вслух. Мало того, после первой рюмки Смородницкий начал шарить черными своими глазами по дамам и, извинившись перед другом, покинул его и ударился в танцы. Семен Харитонович сначала следил за ним, как он прыгает мячиком подле разных женщин,– танцевали как-то не по двое, а вперемешку, на лицо его, мясистое с черными столбиками усов, как у Чарли Чаплина и Гитлера,– но потом он перестал глядеть в сторону танцующих и дожидался перерыва, отвернувшись. У него в тот именно год умерла жена, и танцы эти были неуместны, даже если он и не принимал в них личного участия.
В антракте Виктор Исаакович подкатил к столику и предложил проехаться в «местечко по женской части». Это уж было ни в какие ворота, а пощечина моральному облику Семена Харитоновича, ведь именно борясь за моральный облик наших солдат, он едва не угодил под трибунал, сняв, в буквальном смысле, нашего сержанта с ихней немки.
Потом, когда в школе искусств разразился скандал и дело дошло до комиссии партконтроля, он не стал защищать Смородницкого, потому что явился очевидцем морального разложения в ресторане «Былина».
В остальном же, кроме сильного интереса к слабому полу, десятилетняя деятельность директора была безупречной. На базе школы искусств он создал студию эстетического воспитания для самых маленьких граждан города, организовал отделения художественное и хореографическое, проводил музыкальные фестивали и концерты в зале с отличной акустикой, а также организовал бесплатный хориз горкомовских работников, которым сам дирижировал.
Новый директор, присланный сверху, споил тихого завхоза и шумных баянистов, упразднил с позволения Хорунжего маленьких граждан и, чтобы никогда они здесь больше не учились, велел снять с фасада табличку «Студия эстетического воспитания» и чеканку в виде парящей женщины с лирой в руке.
«Неурядицы пройдут, а здание останется, и есть в нем мои кирпичики»,– думал Семен Харитонович о положительном, а одно положительное магнитом притягивает к себе другое. Как-то пожаловалась ему одна старушка из деревянного дома, что мыться негде, и он пошел к Хорунжему,– дорога протоптана,– и снова долго говорил о санитарии и гигиене, помянул военные годы, когда вши были народным бедствием,– негоже нашему городу скатиться на старые рельсы. И пожалуйста, неподалеку от станции выросла баня с парилкой и со всем, что положено. Сам Семен Харитонович был только на открытии, у него-то все удобства под боком. Еще по его предложению местную газету «Ленинец» стали печатать офсетом, с синими заголовками по будням и красными– по воскресеньям и праздникам.
Что еще сделал он для процветания города? Да все. Он для этого процветания и жил.
Переместившись на другой конец скамьи, где клены не затеняют вида, он взглянул окрест: к красной школе искусств пристроили желтое здание исполкома, горком выкрасили суриком,– хорошо. И даже в том, что Виктор Исаакович сочиняет еврейские мелодии, Семену Харитоновичу не виделось особенной беды. Ведь и еврейские, и казахские, и татарские– это общая музыка нашей многонациональной родины, и пусть она звучит, заглушает металлистов-империалистов, рокеров и брейкеров, пусть в ней потонут алкоголики, наркоманы, тунеядцы, насильники и грабители,– уйдут на дно, чтобы не портить общего вида.
Будучи в состоянии возвышенном, Семен Харитонович не заметил, как кто-то увел палку, любимую палку с инкрустированным набалдашником, к тому же необходимую совершенно. Семен Харитонович заглянул под скамью, осмотрел вокруг, но ни палки, ни хулигана, это сделавшего, не обнаружил.
– Дяденька, вашу палку школьник унес,– донеслось из-за спины.
Семен Харитонович взглянул на маленького следопыта с октябрятской звездочкой на форменном пиджаке.
– А ты не знаешь, случайно, из какого он класса?
– Может из пятого или шестого, сбегать?
– Где тебе за таким долдоном угнаться,– вздохнул Семен Харитонович и омрачился.
Стал думать исключительно о плохом: молодежь без идеалов, хамство в торговле, воровство на заводах и предприятиях,– все, чего ни коснись, виделось в черном свете. «Куда мы двинемся с таким эшелоном,– качал головой Семен Харитонович,– хоть в доску расшибись, а всегда найдется негодяй и всех уведет не туда».
Зря он оттолкнул доброго октябренка. Наказанный за антипедагогический поступок, он ждал человеческой помощи,– вот появится на горизонте знакомый и поможет дойти до дому. И знакомый появился. Виктор Исаакович. Он шел мимо школы искусств, отвернув от нее взгляд. Седой, с белой щеткой усов вдоль верхней губы, а не, как раньше было, только под носом. Шел он медленно, по привычке животом вперед, только живота теперь у него не было.
Семен Харитонович окликнул Виктора Исааковича, но тот его не узнал и долго смотрел недоверчиво, но потом обрадовался, расхохотался, и хохотал аж прямо до слез.
– Шалом,– произнес он, утирая слезы краем ладони, и Семену Харитоновичу это не понравилось, потому что свое происхождение он, по известным причинам, скрывал, из Хаимовича переделался в Харитоновича, а фамилия у него была нейтральная, Харитонов.
– Закончил сегодня симфоническую поэму,– сообщил Виктор Исаакович.– Там есть гениальная находка, контрапункт в финале, как в двадцати четырех прелюдиях Шопена, но не пьяно, а такая модуляция ехидненькая,– ти-тата, ту-руру, бемс!
– В школу не заглядывали?– Семен Харитонович попытался свернуть на общую тему, в музыке он, как говорится, не копенгаген, и к тому же Виктор Исаакович очень шумел, привлекая внимание прохожих.
На этот вопрос Виктор Исаакович вобрал в себя живот, затянул ремень потуже и смачно плюнул прямо около деревянной ноги Семена Харитоновича.
– А материально как вы теперь?– не обращая внимания на плевок, поинтересовался Семен Харитонович.
– Материально я теперь псих, получаю вторую группу и все пишу, пишу,– я полон звуками, пением, плясками,– живу наполненно и не ползаю в ногах у бюстов Хорунжих. И какое это ни с чем не сравнимое наслаждение– просто так, ни для кого, сочинять, петь, плясать…
– Но это же эгоизм высшей пробы,– не согласился Семен Харитонович,– ничего и ни для кого!
Виктор Исаакович тесней подсел к Семену Харитоновичу и, положив руку на деревянное несгибаемое колено, сообщил:
– Никому ничего не надо. Мы все страшно заблуждаемся. Вот я был директором– Бог и Червь, снизу арфы и гусли, щипковые,– ущипнул он Семена Харитоновича за брючину и, нащупав твердое, стукнул по нему кулаком.– Бам-бам-бам– вступают барабаны, но их заглушают литавры.– Виктор Исаакович поднял руки, оставив в покое ногу Семена Харитоновича, и принялся хлопать в ладоши,– они оглушительно звенят– дзинь– пауза– дзинь– пауза– и– дзинь-дзинь-дзынь-дзынь-дзынь!
Семен Харитонович отодвинулся от Виктора Исааковича, сделал вид, что к нему пристал случайный прохожий,– бывает же так, присядет кто-нибудь рядом и как начнет…
– Потише, пожалуйста,– попросил Семен Харитонович,– на вас люди смотрят.
Но людей не было, и Виктор Исаакович, направив на Семена Харитоновича дула черных глаз, вскричал:
– Ребенком я мечтал играть на пианино! А у нас не было. И я просился в гости к тете. Меня приводили, я устраивался за инструмент, и громко играл.– Виктор Исаакович нажал пальцами на воображаемые клавиши и заорал на всю ивановскую:– А тетя просила: «Витенька, майн кинд, как ты хорошо играешь, только перенеси табуретку вон туда и играй с правой стороны». Чтоб не слышно было,– пояснил Виктор Исаакович нормальным голосом, и у Семена Харитоновича отлегло от души.– Пай-мальчик, вундеркинд, я так и играл справа, пока не разъярился и не перешел на басы, я играл так, что фанера сотрясалась и чужих барабанов не было слышно. Так я стал невменяемым членом союза Композиторов.
Виктор Исаакович расплакался. Семен Харитонович положил руку на дрожащее плечо невменяемого члена и без ноты осуждения, дабы не вызвать волну огульной, безадресной критики, объяснил положение вещей:
– Какой-то сорванец умыкнул мою палку, а мне, чтобы встать, нужна опора.
Виктор Исаакович помог Семену Харитоновичу подняться со скамейки, подставил плечо, и они двинулись мимо избушки, Бабы Яги, Машеньки с медведем и сучковатым лешим.
– Гад Хорунжий, подонок из подонков,– плюнул Виктор Исаакович в лешего,– все он, гад, подстроил. Хотел свою дочь Хорунжую с завуча до директора поднять, меня уволил, а ее не поднял– прислали из области хоровика, а тот с ней шашни завел, с кенгуру этой австралийской,– и тут Виктор Исаакович высвободил плечо из-под руки Семена Харитоновича и подпрыгнул, сомкнув колени. Семен же Харитонович брякнулся на плиту в честь будущего установления памятника к шестидесятилетию советской власти. Острый ее край врезался в зад– находиться в таком положении было со всех точек зрения крайне неудобно. Именно в таком положении Виктор Исаакович его и покинул. Пошел за билетами в кино, то ли на «Вкус черешни», то ли на «Запах вишни», то ли на «Цвет граната», что-то фруктовое.
Семен Харитонович ждал Виктора Исааковича в мучительной позе. Тот же, купив билет и выйдя из кассы, заметил человека, сидящего на плите в честь установления будущего памятника, и решил пожать его мужественную руку.
– Героям плевать на святыни,– поприветствовал он Семена Харитоновича, поначалу его не узнав, но когда узнал, еще больше обрадовался и, сев рядом, стал теснить Семена Харитоновича с плиты. У Семена Харитоновича уже дрожали губы, сколько можно издеваться над инвалидом. Правда, стараниями Хорунжего Виктор Исаакович тоже стал инвалидом, только психическим.
– А вы не опоздаете на сеанс?
– Нет. Я люблю риходить к развязке. И угадывать, с чего началось.
– Может, вы до фильма отведете меня домой?
– Какой разговор, майн кинд,– всплеснул руками Виктор Исаакович.
– Если мы будем идти не останавливаясь, вы опоздаете только на журнал,– заметил Семен Харитонович.– Чтобы не вышло, как с кенгуру…
– Кенгуру?! Да разве это кенгуру?! Блудливая козочка ваша Хорунжая. А журналы я не переношу органически, особенно «Фитиль»,– и Виктор Исаакович запел мелодию «Фитиля», задорную, но в конце с сильным стуком. Семен Харитонович ждал стука, но Виктор Исаакович сдержался.– Чтобы как-то замять скандал с Хорунжей, хоровика отозвали в министерство культуры на повышение, а сверху спустили не музыканта, а чиновника отдела внешних сношений. Так начался последний акт советской трагикомедии, которую я непременно сыграю перед вами в лицах, как только вы прекратите держать меня за плечо.– Семен Харитонович объяснил, что делает это по физической необходимости, и Виктор Исаакович смирился, пусть хоть он держится, раз все и так летит в тартарары.– Теперь это не школа искусств, а бордель. А б… я не терплю, хоть и ценю профессиональную отдачу.
Семен Харитонович слушал скабрезности молча, понимая, что в Викторе Исааковиче говорит обида психически неполноценного, который личное ставит выше общественного.
Виктор Исаакович довел Семена Харитоновича до подъезда серой блочной девятиэтажки. На лавочке сидел пионер, упершись подбородком в набалдашник палки.
– Ты еще дразнить меня вздумал!– вскричал Семен Харитонович,– носишь галстук и позволяешь себе издеваться над ветераном! На этом галстуке кровь наших отцов и дедов!
– Вы бы на Петьку из шестого «б» кричали,– сказал пионер,– это он украл. А я принес.
– Как же ты узнал, где я живу?– Семен Харитонович принял палку из рук хорошего пионера, которого по ошибке принял за плохого.
– Вы выступали в клубе юного бойца и все время этой палкой размахивали.
– Да, есть у меня такая привычка… Когда вспоминаешь войну, волнуешься, ведь все это так и было: тревога, ночью, боевая, все в строй, враг затих, но не дремлет, он здесь, за нашей спиной,– и Семен Харитонович случайно ткнул набалдашником в бок Виктору Исааковичу,– мы отступаем на передовую, и тут Колька Минин как закричит: «Вперед! За Родину, за Сталина!»– он у нас заводила,– и мы несемся в ночи, рвутся мины под ногами…– Семен Харитонович пригнулся, заслоняясь от возможного осколка,– когда рвутся мины, осколки, как бенгальские огни, разлетаются… А Петьке я уши надеру, так ему и передай,– заключил Семен Харитонович, применив прием внезапной перемены темы, отработанный на Хорунжем.
– А я и есть Петька! На-ка, дед, надери уши, догоняй!
– Отважный пионер,– ухмыльнулся Виктор Исаакович вслед убегающему Петьке,– а вы перед ним спектакль разыгрываете, ах, как все это ужасно, ведь они протухли с головы!
– А вы перед кем спектакли ваши закатывали,– рассердился Семен Харитонович, ощутив теперь свою полную независимость от невменяемого члена союза композиторов.– Я бы на вашем месте помолчал. Не надо строить на личных обидах неприглядную картину общей жизни.
В ответ на это Виктор Исаакович приставил к ушам большие пальцы и помахал кистями в воздухе.
– Идите в кино,– возвысил голос Семен Харитонович, и Виктор Исаакович ушел, то ли на вкус вишни, то ли на запах черешни, то ли на цвет граната, а Семен Харитонович буквально рухнул на лавку перед подъездом и ни о чем думать уже не стал– ни о хорошем, ни о плохом, ни о победах, ни о поражениях,– надо уметь отделять случайное от закономерного, и тогда мелкие обиды никогда не вырастут в общее недовольство нашей прекрасной жизнью. Иначе заделаешься психом, как Виктор Исаакович.
Инкогнито
Жду. Звоню. Набираю по привычке свой номер. Москва не отвечает. Почту проверяю. Три раза в день. Хотя приносят один. В гостиницах смотрю в ячейку для ключа– нет ли там записки. Где она? Она должна объявиться. Временами принимаю кого-то за нее. Выходит или хорошо, или нехорошо. Слезы, обиды, ссоры. Из-за ошибки. Сознательной. Иногда от ожидания начинает стучать в висках. Чаще всего в гостиницах. Где тебе предоставлена полная свобода. Свобода инкогнито.
Повалил снег. Большими хлопьями. Доктор Кронберг смотрит в окно. Студенты с факелами и плакатами ходят вокруг местной достопримечательности– церкви одиннадцатого века. Демонстрация организована мэром города в память о Хрустальной ночи.
Мэр города ждет доктора Кронберга в Гранд-Отеле. Крутится-вертится, кивает всем подряд. Доктор Кронберг извиняется за опоздание. Он еле пробился сквозь толпу демонстрантов.
Меню занимает полстола, и в нем– все про гуся. Праздник Святого Мартина. Жили у бабуси два веселых гуся.
Красотка в декольте лениво опускает пальцы на клавиши, на черной полировке– два белых пластиковых гуся с красными клювами. Она играет мягким темным креслам, телам, хорошо одетым и глубоко погруженным в плюшевую мякоть, видны только ноги, головы и бокалы с вином. Пианино, два гуся и красотка. Она играет беззвучно. Чтобы не мешать разговорам и приему пищи.
Сфотографировались. Он, мэр, два гуся и красотка.
Снег поутих. За стеной принимают душ. Слышно, но не видно. В доме напротив жил Стриндберг. Женоненавистник и антисемит. Но гений. Это пугает. Но не так чтобы насмерть. Теперь там другие люди. Ходят в окнах без штор, по пояс. Она– в халате, лет этак пятидесяти, он в чем-то темном, возраст?
Совмещенный санузел. Можно сесть на толчок, поставить ноутбук на колени, писать и писать. На каком из известных нам языков написание этих двух глаголов совпадает? С толчка не виден дом Стриндберга. Кусок черепичной крыши и небо. Когда временно не убивают и не давят, появляется потребность в психологах. На войне не впадают в депрессию и не болеют вирусными заболеваниями. Это он сказал мэру, вместо тоста за святого Мартина. Мэр его не понял. Или понял по-своему. Улыбнулся по-детски, словно бы извиняясь за то, что его страна давно не воевала и не убивала массово.
Жду в метро. Ночь. Последний шанс на пересадку. Куда? Куда-то надо пересесть. С В на А или на С? В этом городе всего три линии. А, В, С.
Стриндберги выключили свет. Дом исчез вместе с черепичной крышей. За стеной– ни звука. Его комната– последняя по коридору. Свобода инкогнито.
Бесшумный лифт. У стойки автомат– чай бесплатно, кофе пять крон. Разумеется, он будет пить чай. Хозяин отеля, тихий гомик в костюме при галстуке, запирает входную дверь, возвращается к стойке– о, мистер Кронберг, для вас факс.– Он уплывает за стойку, выносит белый рулон, перевязанный голубой ленточкой.
Мистер Кронберг с чаем и рулоном возносится на третий этаж.
Завтраки в отелях. Тонкие ломтики всего, горшочки с рубленой сельдью, яичницей, тушеными овощами, соки, хлеба,– завтракать до ужина, никуда не ходить, ни с кем не обсуждать проблемы градостроительства.
Столиков много, чтоб всем хватило места. Чтоб ни к кому не подсаживаться.
Массивный муж ест много, легкая жена пьет грейпфрутовый сок. Туристы? В этом маленьком городе много музеев, памятников старины. В этнографическом– скелет прокаженного XIII века. Оригинал. И череп сифилитика. Той же поры. Есть также забавный экспонат– скелет некоего жителя средневековья с переломом берцовой кости. В глубоких нишах, под стеклом. Раскопан средневековый город. Манекены, в костюмах эпохи, живут и действуют там, для наглядности.
Видели ли они скелет прокаженного?
Муж отрывается от тарелки. По утрам не принято задавать вопросы. По утрам надо желать приятного аппетита и удачного дня. Жена приглашает мистера Кронберга за их стол. Ей скучно. Она чего-то ждет.
Мистер Кронберг подсаживается.
А череп сифилитика?
Людям в возрасте аппетита не испортишь. Они уже все видели.
Они приехали на конференцию по проблемам палестинского движения. Этот город знаменит не только университетом и средневековыми памятниками. Здесь пытаются установить мир на Ближнем Востоке. Жена: Вас интересует проблема Палестинской Автономии?
Мистер Кроберг: Очень. Но я не понимаю по-шведски.
Жена: Если вас и вправду интересует, я могу вам переводить, шепотом. Мы политологи.
Мистер Кронберг: Очень приятно.
Муж: Гм.
Жена. Хи.
Мистер Кронберг: Приятного аппетита.
Жду. В широкой ванне, в мыльной пене. Сюда она не позвонит. Не знает номера. Телефон. Не ее голос. Ошибиться. Сознательно. Смыть с себя пену. Открыть не той дверь.
Тяжелая дверь рядом отворяется. Политологи уходят. А что они там делали, пока он принимал душ, брился, записывал свои глупости? Политолог очень тяжелый. Он может ее сломать. Хрустнет берцовая кость. Ее скелет будет покоиться в нише с надписью: «скелет молодой женщины, берцовая кость сломана во время полового акта. ХХI век. Эра борьбы за мир».