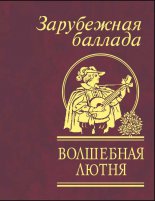Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи Раку Марина
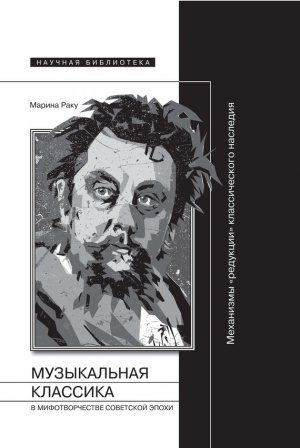
<…> преимущество Обуховой состояло в непринужденной свободе, гибкости, теплоте и бархатистости голоса, который, так и кажется, пел сам по себе, словно самый редчайший прекрасный инструмент старинного мастера. Поразительная виртуозность и техническое совершенство пения Н.А. Обуховой выражались, между прочим, в том, что она путем неустанных упражнений блестяще побеждала трудности регистровых переходов, и голос ее от низов до верхов казался сделанным как бы из одного слитка577.
Другой «Хозе» Обуховой, Николай Печковский, писал о ней:
Н.А. создавала образ Кармен исключительно при помощи вокала и фразы. Ведь еще в ранней молодости она долгое время пела за границей, где постигла все совершенство вокальной техники. Она была единственной певицей, исполнявшей гаданье в третьем действии «Кармен» звуком, в котором слышался рок578.
При этом Обухова отчасти основала традицию той сценической трактовки образа, которая в конечном счете возобладала на советской сцене. «Моя Кармен была горда, царственна, величава в своей простоте», – объясняет она свое решение образа, и нельзя не признать, что не Мухтарова или Максакова, а скорее Давыдова, Обухова, Вельтер (в Ленинграде) и даже Софья Преображенская, которая по особенностям своей фактуры и вовсе не могла выйти на сцену в этой роли, но пела фрагменты партии в концертах, определили специфический для советской сцены образ Кармен – женщины монументальной и властной.
Но канон вокальной трактовки этой партии определился записью спектакля с Давыдовой (ее переиздания продолжались до 1987 года). Ее исполнение соответствовало сформированным представлениям о русском народном характере, вольная повадка становилась знаком свободолюбия, жесткость решений – знаком цельности характера (в отличие от непредсказуемости и изменчивости, которые акцентировались, например, европейскими певицами, кумирами Обуховой). Пластически это отражалось в характерной статуарности героини. Вокально – в крупном мазке, пренебрежении деталями, в выровненном «школьном» голосоведении, не нарушаемом ради гибкости и прихотливости фразировки, приверженности ритмической мерности музыкального движения. Отсутствие контакта с западным исполнительством и с иными культурами, ментальностями в их живом проявлении (о чем в этих случаях принято забывать!) прямо влияло на направленность изменений. И, конечно, сами утвержденные постулаты «народности», «революционности», «реалистичности» непосредственно изменили ощущение того, чем был «легкокрылый Эрос» для первых создательниц образа Кармен и как овеян он был в их представлении «гением места» Испании.
Наглядный пример того, насколько разошлись пути вокальных школ, предъявило легендарное представление «Кармен» на сцене Большого театра с участием Марио дель Монако в 1959 году. Противостояние двух традиций было почти демонстративно предъявлено языковой «разноголосицей» гастролера в роли Хозе и «хозяев» (хора и исполнителей сольных партий, включая заглавную).
Но принципиальный антагонизм заключался, конечно, не в «разноязычии» исполнителей (хотя фонетика языка является одним из решающих факторов в формировании вокального стиля). Отчетливо заметно другое: дель Монако интерпретировал свою роль под несомненным влиянием веристского репертуара, возможно бессознательно (но вполне справедливо!) осознавая «Кармен» как его прямую предтечу. Он воплощал трагедию жертвы собственных страстей и неумолимого фатализма судьбы. Ирина Архипова являла императив прямодушия, правды, предельной честности и душевной силы. Она создавала в своем роде непревзойденный по законченности и непротиворечивости образ «советской Кармен», органичный во всех своих составляющих. Ее скульптурный торс, русская стать, крупная пластика лица, прямолинейность сценических эмоций абсолютно совпадали с металлическим оттенком тембра, безупречностью регистровых переходов, непреклонностью ритма, особого рода «объективностью» исполнительской манеры, не предполагающей ничего случайного. К ее пониманию образа, кажется, вполне приложим тезис, сформулированный по другому, хотя и родственному поводу:
Действительно, женская тема (и женский образ) в русском кино (советского периода в особенности), как правило, оказывается связанной с темой мужской слабости или, во всяком случае, каких-то душевных изъянов мужских персонажей в сравнении с литым женским идеалом579.
Этот «литой женский идеал» явно укоризненно сопоставлялся с образом «слабого мужчины» не только в советском кинематографе, но и иногда на советской сцене, в том числе музыкальной. Пытаясь воплотить его современными средствами в своей опере «Не только любовь» (1961), Щедрин вывел в ней председателя колхоза, «родную сестру» героини Нонны Мордюковой из кинофильма «Простая история»580, поставив в центр ее высказываний своеобразный русский аналог Хабанеры – «Частушки Варвары». Но новая Кармен, отрекающаяся от своего «слабого» партнера не во имя другого, «сильного», а ради общего дела и (не в последнюю очередь) во имя сохранения своей собственной душевной силы и цельности, вступила в неравное соревнование с героиней старой классики. В отечественном театре Кармен к тому времени стала вполне советской женщиной, по-хозяйски выходя на сцену в окружении субреточных работниц и их невыразительных кавалеров, подобно партийной чиновнице, председателю завкома или директору табачной фабрики в большинстве позднесоветских интерпретаций.
Первая попытка оспорить сложившийся канон трактовки образа Кармен была предпринята не на оперной сцене. В апреле 1967 года в афише Большого театра появилось новое название – балет «Кармен» на музыку Жоржа Бизе в аранжировке Родиона Щедрина и хореографии кубинского балетмейстера Альберто Алонсо. Очевидным адресатом эстетической полемики, развернутой его постановщиками, была привычная оперная интерпретация сюжета. Появление «новой Кармен» вызвало резкое неприятие официальных лиц, ведающих вопросами искусства. Исполнительницу заглавной роли Майю Плисецкую, Родиона Щедрина и директора театра М.И. Чулаки тогдашний министр культуры Е.А. Фурцева на обсуждении этой работы обвиняла:
Сплошная эротика. <…> Надо пересмотреть концепцию. <…> Вы… сделали из героини испанского народа женщину легкого поведения…581
Образ Кармен, как видим, для советского чиновника соотносится по меньшей мере с республиканкой Долорес Ибаррури, а вовсе не с персонажами романов Э. Золя или Ги де Мопассана, современников Бизе582. Но характерно, что и для постановщиков балета Кармен – тоже «героиня», только борется она с «тоталитарной системой». По крайней мере, так интерпретировались исполнительницей заглавной роли тогдашние намерения кубинского хореографа А. Алонсо, которые она с композитором, как видно, полностью разделяла:
Он хочет, чтобы мы прочли историю Кармен как гибельное противостояние своевольного человека – рожденного природой свободным – тоталитарной системе всеобщего раболепия, подчиненности системе, диктующей нормы вральских взаимоотношений, извращенной, ублюдочной морали, уничижительной трусости… <…> Кармен – вызов, восстание583.
Однако в интерпретации Плисецкой, как сценической, так и вербальной, риторика «героичности» связывалась с идеей индивидуализма, «вольность» трактовалась как «своеволие». Ее персонаж одинок среди толпы – «глазеющей равнодушной публики»584. Для Фурцевой же (и это, несомненно, выражение глубоко укорененного официального взгляда на художественный мир великой оперы) Кармен по-прежнему «народная» героиня, то есть героиня из народа, кровно связанная с ним.
Постановка Вальтера Фельзенштейна в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (1969) с ее характерной для этого режиссера жесткостью и определенностью концепции вызвала к жизни появление критической рецензии, весьма примечательной по новизне оценок образов самой оперы. Блестящее и энергичное эссе Г. Орджоникидзе как бы обозначило некий рубеж в отношении к шедевру Бизе, который начинает восприниматься уже не в контексте социальной проблематики, а возвращается к вечной теме «битвы полов», констатируя неоднозначность и этическую сомнительность поведения Кармен в отношении Хозе:
Нет, я не забыл, что в свое время ты бросила вызов буржуазному лицемерию и фальшивой «тихости» ее уюта. Ты призвана была разрушить картонный домик, старательно воздвигнутый господствующей моралью в защиту укрощенных страстей. Откровенность твоих желаний и упорство, с каким ты шла к цели, в какой-то мере эпатировали своей дерзостью и претензией на полную свободу воли.
Но сегодня, сто лет спустя, хотелось бы пристальней рассмотреть твою нравственную программу в ее соотнесенности с моральными ценностями самой жизни585.
Новый сценический поворот в судьбе «советской Кармен» в 1970-х годах явственно обозначила Елена Образцова. С присущим ей ярко выраженным личностным началом она впервые за многие годы реабилитировала мотив сексуальности, в то же время смыслово уравновесив его верностью героини своему «слабому» избраннику. Согласно многократно озвученной Образцовой концепции этого образа, Кармен провоцирует Хозе на поступок, который сделает его мужчиной в ее глазах, и погибает, благословляя и продолжая любить его. Это «бабье» сострадание, демонстрируемая певицей в финальной сцене русская «жаль», столь типично для женского национального характера сменяющая (или заменяющая) любовную страсть, продолжила перипетии народной ипостаси «советской Кармен» и предъявила по-своему вполне реалистический модус его воплощения.
В составляющую исполнительской палитры Образцовой в полном согласии с демонстрацией «гендерного превосходства» сильной женщины логично вошел и крупный вокальный штрих, пренебрегающий разнообразием динамических градаций, и подчеркивание грудных обертонов, столь богатых у певицы. Покоряющая полнота тембра заставляла прощать заметные огрехи дикции, недостаток рафинированной работы со словом и музыкальной фразой, некоторую «рыхлость» звучания, смазывающую фонетические нюансы. Исключительная харизматичность певицы отчасти восполняла отсутствие той тонкости нюансировки как вокальной интонации, так и психологического рисунка этой партии, которые предполагает ее французский «первоисточник». Особое качество победительности, присущее Образцовой как мало кому из легендарных исполнительниц этой роли, позволило ей восторжествовать над не менее вокально одаренными от природы соотечественницами-современницами и остаться в истории музыкального театра последней советской Кармен.
И это определение, проходящее через весь наш краткий экскурс в историю оперы Бизе на отечественной сцене ХХ века, не содержит в себе ничего оценочного, кроме того, что все, кто созидал судьбу этой героини в советском театре, участвовали в продолжении «русского мифа» об оперной Кармен. Очевидно и то, что их искания свидетельствуют не только о различии артистических индивидуальностей. «Легкокрылый Эрос» покинул советскую Кармен, оставив на месте, некогда являвшемся средоточием мистического духа Испании и фатальной борьбы полов, фундамент для возникновения еще одного скульптурно вылепленного образа «советской женщины» с отчетливо выраженным русским национальным психотипом, пусть и в красочных псевдоиспанских одеждах и с веером в руках.
Персоналии этой главы наиболее показательны для понимания того, насколько их общепринятые в современной культуре образы зависимы от исторических коллизий существования в культуре предшествующих десятилетий. Становится также ясно, что устойчивые характеристики, связанные с ними, влиятельны не только в тех областях, которые нацелены на вербальную интерпретацию художественных смыслов, но распространяются на все сферы, так или иначе сопряженные с их рецепцией.
Рассмотрим далее особенно «выразительные» случаи «работы над композиторами» в советской культуре на примере имен, выдвинутых на передний план идеологической борьбы и прошедших через диаметрально противоположные переоценки. Судьбы этих нескольких гениев мировой музыки и их наследия в советской культуре скажут больше, пожалуй, не о них самих и специфических чертах их творчества, а о самом движении и развитии этой в высшей степени интенсивной, своеобразной эпохи.
Глава II
«ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, ОБНИМИТЕСЬ!»
Творчество Бетховена, вероятно, подверглось наиболее активной мифологизации в истории мировой музыкальной культуры586. Самыми разнообразными перипетиями отмечена прежде всего рецепция его Девятой симфонии:
Это произведение в последние годы играли на концерте по случаю падения Берлинской стены, Иэн Смит выбрал его в качестве гимна Южной Родезии, а в 1992 году оно стало гимном Евросоюза. Девятая симфония звучала в спорном фильме Стенли Кубрика «Заводной апельсин» и на церемонии вступления в должность Франсуа Миттерана. Протестующие студенты на площади Тяньаньмынь в Пекине пускали его через динамики назло китайским властям. <…> Девятая симфония Людвига ван Бетховена – это не только одно из наиболее известных классических произведений, но и одно из наиболее политизированных587.
Невозможно вычеркнуть из причудливой биографии этого сочинения, ставшего сегодня гимном Европейского союза, и страницу, о которой свидетельствует запись из дневника Нины Берберовой августа 1941 года: В кинохронике видела войну на русском фронте, и там шли немецкие танки (сотни) по болотам, дорогам, по спелой ржи, по молодому лесу, вброд по рекам – и все это под Девятую симфонию588.
Интересна и весьма важна для понимания общекультурных процессов история рецепции бетховенского творчества в России. Подходы к ее воссозданию предпринимались неоднократно589, но при всей своей значимости и плодотворности они остаются лишь своего рода «предисловием» к тому исследованию, которое было бы важно осуществить. Как писала Т.Н. Ливанова590 – автор объемной публикации на эту тему, – «русская бетховениана, вне сомнений, проблема большой монографии, а не скромной статьи»591.
Советская рецепция бетховенского наследия привлекала куда меньшее внимание592. Хотя и «советская бетховениана» тоже может стать «проблемой большой монографии». В музыкальной культуре пореволюционной России Бетховен сразу же занял особое место, несопоставимое по значимости даже с такими, призванными символизировать революцию музыкантами, как Скрябин и Вагнер. И судьба его в советской культуре (также в отличие от этих двух композиторов) оказалась наиболее «успешной» и длительной. В некотором смысле можно считать, что именно Бетховен с самого начала и до конца советской эры стал наиболее незыблемым и неоспоримым ее музыкальным олицетворением. Однако это совсем не означает, что фигура Бетховена никогда не вызывала никаких идеологических опасений и могла без зазоров вписаться в прокрустово ложе требований, предъявленных культуре новыми элитами. Что-то настораживало в его музыке, требовало оговорок, приспособления к запросам разных социальных страт и идеологических групп.
Для того чтобы использовать «образ Бетховена» в интересах наступившей революционной эпохи, его требовалось пересоздать. Именно «работа над Бетховеном» открывает эру новых идеологических интерпретаций классики, осуществленных в советской культуре.
О том, как она протекала и какие рецептивные характеристики закрепились в результате за образом бетховенской музыки, пойдет речь дальше.
II.1. Бетховен-«современник»
Ту кульминацию интереса исполнителей и слушателей к бетховенскому творчеству, которую можно было наблюдать уже в первые годы революции, подготовила предреволюционная эпоха.
В течение 1900-х годов новая русская музыка заметно потеснила зарубежную классику – Баха, Гайдна, Моцарта, Бетховена – из концертных программ593. Первое десятилетие нового века стало для австро-немецкой классики в России не самым успешным временем. Перелом произошел в 1911 году, который «по праву мог быть назван “Годом Бетховена”. Ему предшествовало появление двух книг – монографии А.Г. Кена (А.А. Гинкена594) в трех томах595, и также солидной по объему биографии «Бетховен. Биографический этюд»596 В.Д. Корганова597. «Для своего времени книга Корганова была весьма ценна – в частности, тем, что в нее, помимо подробного биографического очерка, списка сочинений Бетховена и прочих приложений, вошли переводы практически всех писем Бетховена, опубликованных к тому времени по-немецки <…>»598.
В начале 1910-х годов слушатели российских столиц воспитывались на сложнейшей части наследия Бетховена: его струнные квартеты звучали для них в исполнении таких прославленных коллективов, как Чешский квартет и парижский Квартет Люсьена Капэ599. В течение летнего сезона 1911 года К.С. Сараджев исполнил в рамках концертов «Сокольнического круга» (проводившихся в московском парке) все симфонии и концерты Бетховена, а также отдельные номера из оперы «Фиделио». С.А. Кусевицкий в конце сентября того же года сразу вслед за Сараджевым начал еще более смелую акцию, продирижировав всеми бетховенскими симфониями подряд в течение четырех вечеров в Москве с однодневным перерывом (в концерты этого цикла были включены и некоторые другие бетховенские сочинения крупной формы – концерты и увертюры). Цикл был повторен через несколько дней в Петербурге. «Концерты его привлекли к себе пристальное внимание культурной России. Залы в обеих русских столицах были полны, пресса пестрила сообщениями о том, что все билеты проданы. <…> Как дополнение к циклу воспринималось исполнение Missa Solemnis»600 в феврале 1912 года в Петербурге и Москве. «Полный бетховенский цикл будет повторен им совместно с Александром Орловым в сезоне 1912 – 1913 года в рамках “Симфонических утр по общедоступным ценам”. <…> В марте – апреле “Бетховенские торжества” состоятся в Одессе, Киеве, Харькове и Ростове-на-Дону»601.
Оркестр Кусевицкого вообще часто исполнял бетховенские симфонии и в Москве и в Петербурге, включая наиболее масштабную – Девятую. Как отмечал исследователь концертной жизни предреволюционного периода Л.Н. Раабен, «это было для тех лет смело, но отвечало потребности времени, усиливавшемуся интересу к Бетховену»602.
Имя Бетховена становится синонимом классической музыки и обозначает высшую шкалу художественных оценок. Знаменитый пианист и музыкальный деятель, участник одного из лучших инструментальных ансамблей этого времени «Московского трио» Д.С. Шор совместно со своим сыном Е.Д. Шором603 и при содействии Л.В. Собинова создает в том же 1911 году Институт музыкального образования имени Бетховена («Бетховенскую студию»)604, который занимался пропагандой классической музыки и, в первую очередь, музыки самого немецкого композитора. «Бетховенской студией», в частности, в 1913 – 1915 годах был издан русский перевод книги П. Беккера «Бетховен» (в трех выпусках). Заметным явлением стал цикл лекций Д. Шора «О боннском периоде бетховенского творчества», прочитанных за три вечера в Московской консерватории в рамках заседания общества «Музыкально-теоретическая библиотека» в ноябре – декабре 1911 года605. Статья Мясковского «Бетховен и Чайковский» 1912 года, опубликованная в органе современничества «Музыка»606 и вызвавшая большой резонанс у музыкальной общественности, поверяла масштаб дарования русского композитора сравнением с непререкаемым художественным авторитетом немецкого, как бы возводя отечественную музыкальную культуру на новую высоту.
Таким образом, в начале 1910 года даже у представителей модернистских течений возникло новое отношение к бетховенской музыке. Известный музыкальный критик В. Коломийцев в рецензии на «бетховенский» концерт Артура Никиша в ноябре 1912 года признавал:
Да, наш интерес к Бетховену обновился и возрос607.
Свидетельством этого «обновления» была и работа самого Коломийцева, известного своим вагнерианством, над переводом книги Вагнера о Бетховене, которая вышла в «год Бетховена» в издательстве С. и Н. Кусевицких608. Не потерявший остроту и актуальность интерес к Вагнеру пересекался с новым взглядом музыкальной общественности на Бетховена.
Один из крупнейших тогдашних пропагандистов новейшей западной музыки В.Г. Каратыгин, сопоставляя музыку современности с наследием Бетховена, писал:
<…> как велико то действительное обновление, углубление звуковых образов Бетховена, которое достигается в результате каждого соприкосновения с лучшими образцами модернизма, – и тем больше, тем жарче любишь и ценишь живую музыкальную современность609.
Аттестация Скрябина, «бунтовщика против косности и рутины» в качестве «родного брата Бетховена», становится в устах модерниста Каратыгина наивысшей похвалой. Так уже перед революцией даже в рядах музыкальной критики, ориентированной на поддержку новых направлений в искусстве, складывается ощущение родственности устремлений Бетховена художественным исканиям современности.
Правда, существенным остается один нюанс. И Каратыгин, и Мясковский, и некоторые другие авторы, писавшие в это время о Бетховене с современнических позиций, все же видят его «завершителем предшествовавшей эпохи, не создавшим ни одной новой гармонии, ни одной новой формы», выдвигая на его фоне на первый план интересов новой эпохи Вагнера и, в особенности Скрябина, предстающего «гениальным искателем новых путей»610.
Как бы то ни было, «обновление, углубление звуковых образов Бетховена» при соприкосновении «с лучшими образцами модернизма» заставляло, по их собственному признанию, «жарче» полюбить не его самого, а «живую музыкальную современность»!
II.2. Бетховен-«революционер»
В обиход первых революционных лет музыка Бетховена вошла как один из неотъемлемых атрибутов разного рода политических и вообще публичных акций. Под звуки траурного марша из «Героической симфонии» хоронили выдающихся деятелей революции. На спрос отзывается и только что возникшее государственное издательское дело: первая национализированная нотопечатня в декабре 1918 года начинает свою деятельность с выпуска бетховенских сонат. И, конечно же, бетховенская музыка оказывается в центре революционных торжеств.
Одно из наиболее «трудоемких» для выучки и исполнения сочинений немецкого композитора – Девятая симфония, появление которой на афише и сегодня является значительным событием, в трудные годы Гражданской войны исполнялось неоднократно. Так, осенью 1918 года она звучит в Москве с интервалом всего в месяц, причем в исполнении разных составов музыкантов. По поводу первого из этих концертов (3 октября) рецензент, объясняя особый смысл обращения к этому произведению, писал:
Наивысшим выражением бетховенского демократизма является девятая симфония, благодаря прибавлению к оркестру хора, олицетворяющего соборное, народное начало, – не говоря уже о том, что шиллеровский текст финальной «оды к радости» прославляет всеобщее братство…
<…>
Наиболее гениальные места знаменитой партитуры отведены именно хору, этому раскованному Прометею общественности. Хор, подкрепленный оркестром, то вздымается на величественные высоты в гимне Промыслу, то бурно и стихийно выражает радость всеобщего братства. Вот что нужно помнить нам, начертавшим на своем знамени «все для народа», – когда мы услышим сегодня в Народном собрании знаменитую симфонию под управлением С.А. Кусевицкого, в исполнении Государственного оркестра и хоров: Народной Певческой Академии и А.А. Архангельского611.
Девятая симфония исполнялась 2 ноября того же года в Колонном зале Дома союзов силами музыкантов оркестра Большого театра, оперного театра Московского совета рабочих и московских депутатов (СРД, бывшего театра Зимина), Народного дома (всего 200 человек) и хора (300 человек), «в котором участвовали представители чуть ли не от всех московских организаций», как писала тогдашняя пресса612, а также солисты – А. Нежданова, Н. Обухова, А. Лабинский и В. Петров под управлением Э. Купера.
Одним из центральных событий ноябрьских празднеств в Москве 1918 года стала премьера 7 ноября в театре СРД613 бетховенской оперы «Фиделио», переименованной в «Освобождение». Спектакль завершался специально введенным эпилогом: актеры обращались со сцены в зал – «Влеките колесницу Свободы и Братства всех народов! Ликуйте! Прошедшего не существует более! Жизнь новая возникла!», звучал «Интернационал», затем «Марсельеза», траурный марш из «Героической симфонии» Бетховена и вновь «Интернационал»614.
Концертный сезон 1919 года открылся в столице концертами, на которых вновь звучала музыка Бетховена: в Малом зале консерватории – цикл скрипичных сонат, в Народном доме им. Петра Алексеева – квартеты. В Большом зале консерватории 1 октября начался «бетховенский» цикл, который по инициативе МУЗО Наркомпроса Кусевицкий провел в Москве с Оркестром профсоюза работников искусств615. Московские «Вечерние известия» отмечали:
Кажется, в таком концентрированном виде Москва его (Бетховена. – М.Р.) воспринимает впервые616. Все симфонии, увертюры, Missa solemnis, четыре концерта – кажется, максимум возможного для прославления искусства великого жизнетворца617.
А в Малом зале консерватории 2 октября также по инициативе МУЗО Наркомпроса начался цикл камерных концертов, посвященных Бетховену, куда вошли все фортепианные и виолончельные сонаты, трио и песни Бетховена. Журнал «Вестник театра» за 25 – 30 ноября 1919 года констатирует: «Музыкальный октябрь 1919 года прошел под знаком Бетховена»618.
Первое после революции отдельное издание, посвященное Бетховену, выходит в серии биографий «Кому пролетариат ставит памятники» (№ 4 в серии)619, приуроченной к осуществлению ленинского плана монументальной пропаганды, в ходе которой планировалось сооружение монументов выдающимся деятелям мировой истории на площадях обеих столиц. В журнале «Искусство» 8 июня 1919 года было опубликовано сообщение, что в Москве «в скором времени начнется установка памятников Сковороде, Бетховену и Сурикову»620. Однако памятник Бетховену работы С.Ф. Смирнова, выполненный в стиле кубизма, оказался в числе тех, которые были отвергнуты властями после демонстрации общественности как художественно несостоятельные621.
Музыка Бетховена и само его имя приобрели в самые кратчайшие сроки знаковый характер. 150-летие со дня рождения Бетховена в 1920-м, невзирая на то что Гражданская война еще не закончилась, было ознаменовано в Москве и Петрограде общегосударственными мероприятиями. Среди важнейших событий празднования бетховенского 150-летия в Петрограде три декабрьских симфонических концерта в Мариинском театре с участием Ф.И. Шаляпина (дир. Э. Купер). В завершение этого цикла из симфонических произведений и отрывков из оперы «Фиделио» прозвучала Девятая симфония. Буклет к концертам, озаглавленный «Памяти Бетховена», предварялся статьей И. Глебова (Асафьева). О московских торжествах нарком просвещения рапортовал в своей речи 18 февраля 1821 года на открытии Бетховенского зала в помещении бывшего царского фойе Большого театра:
Музыкальный отдел организовал серию концертов, где были исполнены все симфонии Бетховена, его Торжественная месса и некоторые другие произведения. Только что закончилась серия симфоний Бетховена в Большом театре <…>622.
Примечательно, что, говоря о будущем репертуаре новой концертной аудитории, Луначарский ограничил его исключительно сочинениями немецкого классика, включая
многие, почти забытые, но вдохновенные страницы великого музыканта623.
Cимволичным выглядело появление знаменитой цитаты «Обнимитесь, миллионы» из финала бетховенской Девятой симфонии – «Ода к радости» – на страницах хорового «Первомайского гимна», написанного в юбилейном бетховенском 1920-м недавно маститым представителем школы синодального пения, а ныне активным деятелем Пролеткульта Александром Кастальским624. Так еще до начала истории РАПМ в недрах пролетарской культуры вызревала будущая коллизия единения с Бетховеном.
К первой половине 1920-х годов присутствие Бетховена в советской культуре становится настолько прочным, особенно при сравнении с его коллегами-классиками, что вопрос о значении Бетховена для современности поднимается лишь чисто риторически. Обсуждая в 1923 году прошедший под руководством Оскара Фрида «бетховенский цикл» симфонических концертов, рецензент патетически вопрошает:
Нужен ли Бетховен современности, созвучен ли он ей? Или, может быть, «бессмертный» умер, «вечный» устарел и нет надобности тратить общественные силы и государственные средства на нестоящее дело? Встанем на минуту на точку зрения полезности искусства и необходимости государственной пропаганды только тех его видов, которые могут лишь укрепить современную идеологию, а не действовать на нее растлевающим образом625.
Среди тех явлений искусства прошлого, которые «могут укрепить современную идеологию», творчество Бетховена оказывается наиболее проверенным и «благонадежным»:
Нужен ли Бетховен современности? Что может почерпнуть у него революция? Может ли он способствовать воспитанию масс в духе революционной идеологии? <…> На все вопросы мы отвечаем категорически «да»626.
Основные позиции новой культурной политики по отношению к Бетховену были впервые изложены в речи наркома просвещения на концерте-митинге, посвященном 150-летию со дня рождения композитора и состоявшемся 9 января 1921 года. Избранная дата проведения митинга кажется символичной: притом что точная дата рождения композитора не установлена, она все же падает на середину декабря – торжественный концерт, таким образом, следовало бы провести почти на месяц раньше. Но он совпадает с другой мемориальной датой – днем Кровавого воскресенья, прочно вписанным в «революционный календарь» советской России. Именно к теме революционного искусства – Французской революции, ее празднеств, имен «старика Госсека», Мегюля, Керубини – приводит свое рассуждение о смысле бетховенского творчества Луначарский,
<…> ибо то, что отражалось в музыке вовремя Великой Французской революции, еще полнее отразилось в гигантской музыке Бетховена627.
Своей интерпретацией бетховенского наследия нарком просвещения начала 1920-х годов кодифицирует и обобщает положения, к тому времени уже неоднократно сформулированные в советской печати. Так, «Известия ВЦИК» от 3 июля 1919 года утверждали:
Героический Бетховен – живая иллюстрация революционного духа в музыке. Бетховен с первой до последней ноты своей – революционер и великий демократ. Конечно, если бы он жил теперь, то в его лице искусство обрело бы самого стойкого бойца. Ничего от изнеженности, извращенности, от пресыщенности: здоровьем и могучей силой народа веет от тех звуков…628
В одном только абзаце партийной прессы сформулированы основные характеристики образа композитора и его творчества в советской трактовке: связь с революцией, необходимость такого художника современности, демократическое социальное происхождение, душевное здоровье, героичность и народность искусства.
Впрочем, мысль о всеобъемлющей революционности музыки Бетховена утвердилась в российских музыкально-критических кругах задолго до наступления революционной эпохи. Романтическая концепция «героического Бетховена», «синтетическое представление о Бетховене как человеке и художнике, чьи творческие замыслы нераздельно связаны с его личной трагической судьбой»629, наследуется от западного музыкознания второй половины XIX века. «От старой немецкой писательской школы Адольфа Б. Маркса и отчасти от позднейшего Амброса»630 шел в своих утверждениях уже Антон Рубинштейн: «Вспыхивает Французская революция – появляется Бетховен!» Музыка Бетховена – «музыкальный отклик трагедии, которая называется свобода, равенство, братство!»631. Эти идеи особенно активно популяризировались в России в период первой русской революции632. В «Вестнике Европы» за 1907 год появляется статья С.К. Булича633 с программным заголовком «Музыка и освободительные идеи»634, главным героем которой выступает именно Бетховен. Знаменитые «бетховенские» лекции Д. Шора, с которыми он выступал не только в Москве, но и в провинции, получили, благодаря своей политической заостренности, отклик в большевистских кругах: о них писала «Правда», а в одесской газете «Наше слово» знаменитый впоследствии большевик В. Воровский. В 1910 году в Саратове они даже вызвали репрессии со стороны губернатора, закрывшего Общество народных университетов, где выступил Шор, – за то, что тот пытался «восхвалять Бетховена не как художника, а как революционного деятеля»635.
В одном из своих вступительных слов в знаменитых «Исторических концертах» 1907 – 1917 годов, проводившихся по инициативе композитора и дирижера С.Н. Василенко, известный московский критик и просветитель Ю.Д. Энгель636 так говорил о влиянии Французской революции на творчество Бетховена:
Рушились старые авторитеты и старые суеверия, со всех сторон давившие человека. Народился новый человек, прозревший божество в самом себе, в своем собственном ничтожестве, и с тех пор познавший восторг и муки вечного раздвоения. Отдельная личность, раньше бывшая ничем, теперь стала всем. <…> Вот этот-то новый человек, сознающий себя мерилом самого существования, и нашел себе впервые могучее выражение в музыке Бетховена, который таким образом открывает совершенно новую эру в истории искусства звуков. <…> Любимый объект ее вдохновения – человек в наивысшем проявлении своей воли, силы, индивидуальности; человек – герой637.
Подобные мысли Энгель высказывал не только в своих написанных на основе лекций «Очерках по истории музыки», но и в популярном «Энциклопедическом словаре» издательства «Гранат» (1899), в переводе 5-го издания немецкого «Музыкального словаря» Г. Римана, а после Октябрьской революции в период своей работы в Наркомпросе развивал их в многочисленных выступлениях перед самыми разными слушателями. Обращает на себя внимание абсолютное совпадение бетховенского образа, создаваемого Энгелем в предреволюционные годы, с тем пониманием творчества немецкого композитора, которое станет определяющим для пореволюционной культуры. Еще разительнее сходство с будущим «языком революции» самой использованной Энгелем ницшеанской лексики и риторики: «старые суеверия, давившие человека», «новый человек, прозревший божество в самом себе», вплоть до скрытой цитаты из русского текста «Интернационала»:
<…> личность, раньше бывшая ничем, теперь стала всем638.
Между тем уже к началу XX века русский читатель мог познакомиться и с «деромантизирующими», «дереволюционирующими» концепциями бетховенского творчества, отрывающими его от прямого воздействия социальной жизни. В течение XX века эта тенденция будет нарастать в западном музыкознании. В ставшей широко известной монографии Беккера 1911 года концепция «поэтической идеи», созидающей художественную форму, «эстетической автономии» художника и его творения от событий реальности сформулирована на примере Бетховена вполне отчетливо: «Внешняя жизнь протекает мимо, не касаясь его»639:
Не революционером-разрушителем выступил Бетховен. Буря и натиск ему неведомы. Да и против чего ему было восставать? Не существовало ни тормозящих традиций, ни узких предрассудков, с которыми приходилось бы бороться640.
Полемика вокруг тезиса о «революционности» Бетховена продолжалась до середины 1920-х годов641, хотя отсылка к Бетховену в связи с музыкой Великой французской революции становится в 1920-х годах широко употребительной. Так, Е. Браудо в своей «Всеобщей истории музыки» посвящает музыке революционной Франции отдельный раздел, мотивируя свой пристальный интерес к ней так:
Не только в бытовом, но и в чисто музыкальном отношении Великая Французская Революция внесла в искусство начало, подготовившее героическую эпоху первой половины 19 столетия и ее сильнейшего выразителя Бетховена642.
Музыка революции интересна автору как провозвестница бетховенского стиля, а музыка Бетховена, в свою очередь, вызывает интерес как подготовка современного искусства.
Однако Сабанеев в те же годы, что и Браудо, утверждал прямо противоположное:
Думать, что Бетховен реально и сознательно воплощал в музыке идеи французской революции, было бы наивно и немотивированно: в нем отразился вообще тон эпохи, сотканный столько же из идей революции, сколько из наполеоновского милитаризма, которому Бетховен тоже отдал дань поклонения, сколько из романтических представлений о сущности музыки, которые начали свое воздействие уже в музыке Моцарта643.
Склонный к парадоксам и острым полемическим выпадам Сабанеев не может, однако, оспорить одно из самых устойчивых представлений эпохи, настолько глубоко оно закрепилось в ней. Как пишет один из редакторов журнала «Музыкальная новь»,
<…> ни один композитор столь тесно не связал себя с судьбами революции, как Бетховен, и хотя это была революция буржуазная, хотя ее лозунги далеки от лозунгов современности, тем не менее музыка Бетховена для нас все еще действенна, она дальше, чем какая-либо другая, от перспектив сдачи в архив644.
И уточняет, что Бетховен
<…> «связан» с Великой Французской Революцией, как обычно утверждают, причем едва ли кому в голову приходит анализировать конкретно природу этой связи645.
Это отсутствие аргументации «за ненадобностью» говорит в сущности о том, что приведение бетховенского творчества к общему знаменателю «революционной музыки» является для данного времени риторическим приемом. Но в горниле подобной риторики за Бетховеном на многие десятилетия закрепляется роль «медиума» любой революции.
По-видимому, внутренне полемичной по отношению к этой ситуации, складывавшейся в советской культуре на рубеже 1910 – 1920-х годов, была попытка А.Ф. Лосева интерпретировать одно из самых знаменитых бетховенских творений – Пятую симфонию – в «Очерке о музыке», так и оставшемся незавершенным646. Философ помещает разбор этого сочинения в качестве примера той «музыкальной критики», которая, по его мнению, должна возникнуть в качестве одной из ведущих отраслей современной науки о музыке. Краткая авторская аннотация этого фрагмента точно обозначает оппозиционную суть его словесной трактовки:
Мы дадим здесь отвлеченно-мифическое описание и именно Пятой симфонии Бетховена, пользуясь мифом о Хаосе и Личности, их борьбе и синтезе647.
В официальной советской культуре бетховенской музыке настоятельно присваиваются другие смыслы, поскольку ясно, что именно
<…> сила, мужественность, призыв к борьбе, революционный пафос – это те грани Бетховенского творчества, которые обеспечивают ему жизненность и «неумирание»648.
Ключом к этим обеспечивающим «жизненность» смыслам становится понимание симфонии как жанра, напрямую связанного с революционной тематикой. Под «симфонией» же начинает подразумеваться собственно «бетховенская симфония».
В конце 1930-х И.Я. Рыжкин649 сформулирует это следующим образом:
Говорить о Бетховене – это значит прежде всего говорить о симфонической музыке, или, более широко, о симфонических принципах музыкального искусства – о симфонизме. И, наоборот, говорить о симфонизме – это значит прежде всего говорить о Бетховене650.
Проблемы творческого пути Бетховена и развития важнейшей линии классического искусства осмысляются с помощью пропагандистской риторики и логики, воспроизводящей структуру знаменитой строчки Маяковского, превращенной в партийный лозунг: «Мы говорим – Ленин, подразумеваем – партия. Мы говорим – партия, подразумеваем – Ленин».
II.3. Бетховен – «Ленин вчера»
Как бы то ни было, до начала 1920-х у русской публики еще был выбор, каким слышать Бетховена, но начиная с речей Луначарского возможность такого выбора заметно сужается.
Нарком просвещения наделил облик композитора скульптурной героичностью. Лирический герой бетховенского симфонизма ассоциируется у Луначарского с трагически окрашенным, жертвенным образом революционера-трибуна. Подобно финалу всякой подлинной трагедии, итог бетховенской симфонической коллизии, «реконструированный» в выступлениях наркома культуры, был катарсическим и, следовательно, оптимистическим. От лица героя Бетховена Луначарский говорил: «Если я погибну – моя гибель прекрасна, ее оплачут мне подобные. Но, может быть, я одержу победу. Во всяком случае, ее одержит, в конечном счете, человеческий гений»651.
Бетховен наделялся новыми чертами: этот образ вождя и героя одновременно приобретал ореол Бога Отца – тот оттенок сакральности, который нередко проступает в текстах бывшего богостроителя – ныне революционного наркома:
Нам хотелось бы видеть сейчас среди нас Гете, Софокла; но никого из них сердце не жаждет так, как Бетховена. <…> Мы благословляем его за эту могучую ласку, так успокаивающую, гармонизирующую все то, чем ужасна наша жизнь. Хотелось бы прижаться к нему, как сын к отцу, хотелось бы поцеловать ту руку, которая запечатлела эту веру и эти страдания на нотной бумаге. Бетховен – герой, Бетховен – вождь, и никогда, я думаю, он не был так нов, так необходим, никогда призывы Бетховена не могли раздаться с такой силой, как теперь. Хотелось бы думать, что не только над головами присутствующих, что скоро проповедь его начнет реять над головами миллионных масс, находить отклик в рабоче-крестьянских сердцах, что этот могучий, горячий источник любви, скорби и веры в будущее станет достоянием всего человечества652.
Характерно признание об успокоении, гармонизации бетховенской «могучей лаской» всего того, «чем ужасна наша жизнь», которое проступает в этих строках. Гармонизация жизни и есть одна из главных целей социальной мифологии. Бетховен оказывается необходимым советской культуре именно в качестве мифа, о чем недвусмысленно свидетельствует не только патетичное, но и по-своему весьма откровенное слово наркома.
В чертах этого музыкального «отца» и «вождя», чья «проповедь» скоро «начнет реять над головами миллионных масс», находя «отклик в рабоче-крестьянских сердцах», заметно сходство с отеческим обликом «вождя мирового пролетариата». Образы Бетховена и Ленина начинают мифологически уподобляться уже при жизни Ленина.
Примечателен следующий эпизод: в ноябре 1918 года Наркомпрос организует первый в Москве государственный квартет, которому присваивается имя В.И. Ленина. Зимой 1919 года руководитель квартета скрипач Л.М. Цейтлин, встретив Ленина на одном из митингов, сообщает ему о наименовании квартета. В ответ он слышит совет присвоить коллективу имя Бетховена. Таким образом это сопоставление символически получает благословение самого вождя.
Впервые публичное сопоставление имен Бетховена и Ленина показательным образом совместило две даты: оно возникло в год 150-летнего юбилея со дня рождения композитора и по поводу 50-летия вождя русской революции – в статье старого большевика, начальника Особого отдела ВЧК Михаила Сергеевича Кедрова, напечатанной в «Известиях Арханг[ельского] губ. Ревкома и Архгубкома Р.К.П. [(б)]»653 от 23 апреля 1920 года под заголовком «Ленин и Бетховен». Получивший образование врача в Берне и Лозанне, товарищ Ленина по эмиграции, чекист Кедров вспоминает, как на швейцарских собраниях он играл по просьбе лидера большевиков бетховенскую музыку:
Он мог часами слушать сонаты и увертюры Бетховена, этого гениального выразителя в музыке духа французской революции654.
Примечателен описанный им эпизод. Кедров – «кость от кости, плоть от плоти московской интеллигенции» (как характеризовал его писатель Варлам Шаламов), – присланный в 1918 году на север России для предотвращения контрреволюционного мятежа и отличившийся в своей «профилактической» работе такой жестокостью, что был даже отозван в Москву для выяснения обстоятельств655, именно по этому поводу оказывается на приеме у Ленина. Разговор, в результате которого чекист получил «индульгенцию» и возможность вернуться обратно для продолжения своей деятельности, завершается вопросом Ленина:
– А вы продолжаете заниматься музыкой?
На мой ответ:
– Немного, да и то после часу ночи, – заметил:
– Хотелось бы мне вас послушать656.
С 1924 года, после смерти Ленина, фигуры Ленина и Бетховена окончательно обретают мифологическое подобие. Оно закрепляется с помощью апокрифа о слушании вождем «Аппассионаты», пересказанного Горьким со слов знаменитого пианиста и дирижера Исайи Добровейна на страницах очерка о Ленине, который в первом варианте открывался этим эпизодом657 и в котором сопоставление «Ленин – Бетховен» окончательно кодифицируется.
Выступая в годовщину смерти Бетховена перед концертом, устроенным для комсомольского актива Москвы, Луначарский говорит о
<…> действительно гениальнейшем политике Владимире Ильиче и гениальнейшем музыканте Бетховене658.
Специфичная «историософия», базирующаяся на риторических сопоставлениях «Великая пролетарская революция» – «Великая французская революция», «передовой рабочий класс» – «передовая буржуазия рубежа XVIII – XIX веков», присвоила Бетховену роль «Ленина вчера», еще до того, как в роли «Ленина сегодня» утвердился Сталин659.
В течение 1930-х годов художественным творчеством узакониваются и другие исторические сопоставления. Особенно популярными, по понятным причинам, становятся те, что связаны с именем Сталина: Сталин и Иван Грозный, Сталин и Георгий Саакадзе, Сталин и Петр I. Против последнего уподобления и вообще всяческих исторических аналогий сам диктатор публично возражал, следуя в этом за Бухариным660, но фактически поощрял их661, что и привело к появлению романа и пьесы А.Н. Толстого «Петр I», одноименного фильма В. Петрова по их мотивам, романа А. Антоновской «Великий Моурави» и поставленного по нему фильма М. Чиаурели «Георгий Саакадзе», фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный»662, драматической дилогии А.Н. Толстого об Иване Грозном («Орел и орлица», «Трудные годы»)663.
Мифологические подобия связывают прошлое, будущее и настоящее, придавая им единовременный характер. Однако они же проявляют и генеалогию включенных в эту цепь явлений. Для убедительности подобных аналогий необходима редукция описываемых явлений до совпадения их характеристик. Такую же редукцию вынужден претерпевать и творческий облик художника – все, что осложняло бы возможность его прямого уподобления иным авторам или иным эстетическим феноменам, должно быть отсечено. Характеристики целенаправленно спрямляются.
II.4. «Бетховенская симфония»
Процедуре мифологического уподобления подвергаются не только эпохи и имена исторических деятелей. Такой же процесс претерпевает смысловая интерпретация самих сочинений. В случае с Бетховеном стратегия смысловой редукции особенно очевидна на примере создания мифологемы «бетховенская симфония».
Восприятие бетховенских симфоний по принципу мифологических подобий хотя еще и не формулировалось отчетливо, но практически осуществлялось уже в начале 1920-х годов. Приведу некоторые примеры.
В марте 1921 года газета «Жизнь искусства» сообщает, что Мейерхольд задумал ставить «феерическую пантомиму» на материале Третьей симфонии Бетховена под названием «Дифирамб электрификации». Впервые имя Бетховена было поставлено в контекст этой темы, актуальнейшей для начала 1920-х годов, Луначарским в день открытия VIII съезда Советов в декабре 1920 года. Нарком просвещения связал впечатление от доклада Ленина об электрификации с образом радости из Девятой симфонии, которая и была исполнена после его выступления:
Мы почувствовали огромную радость, может быть, не ту, гимном которой является Девятая симфония, но предчувствие этой великой радости <…>664.
Событие слишком примечательное, «знаковое» для эпохи, наделенное сильнейшим мифологическим смыслом («да будет свет!»), и слишком близкое по времени, чтобы выветриться из памяти во всех его подробностях. Однако Мейерхольд предлагает свою версию той же темы. Бетховенскую Девятую в его представлении сполна способна заменить Третья: и та и другая могут быть исполнены как «дифирамб электрификации».
Для столь тесно связанного с музыкой и энциклопедически образованного человека, как Мейерхольд, подобное решение не может быть случайным. И хотя постановка не была осуществлена, сам замысел знаменитого режиссера представляется чрезвычайно показательным.
Еще более заметным и в своем роде эпохальным для истории балетного мирового театра событием стал опыт постановки Федором Лопуховым танцсимфонии «Величие мироздания» на музыку Четвертой симфонии Бетховена. Характерная для 1920-х убежденность в том, что «немая пластика балета скрывает в себе крики и бури идейного порядка» (А. Волынский), приводила к попыткам содержательного углубления хореографического текста за счет введения в либретто образов, отсылающих к философским, социальным или историческим концепциям и способствующих максимальной актуализации сюжета. На основе этих серьезных идеологических притязаний и родился жанр танцсимфонии, повлиявший на развитие мировой хореографии и, в частности, на становление театра Баланчина: юный Георгий Баланчивадзе (будущий Джордж Баланчин) оказался одним из очевидцев премьеры.
«Красная газета» от 14 сентября 1922 года сообщала:
Балетный артист Лопухов разработал план постановки балета «Мироздание» на музыку Бетховена. Хореографическим способом предлагается показать современную научную точку зрения на развитие мира. Так как работа эта представляет в художественном отношении большой интерес, союз работников постановил дать Лопухову возможность показать свой новый балет в одном из больших петроградских театров665.
18 сентября 1922-го состоялся открытый общественный просмотр танцсимфонии в петроградском МАЛЕГОТе, а 7 марта 1923 года – единственный премьерный спектакль, встреченный разгромной критикой. Название было снято с афиши театра666.
Сюжет Четвертой симфонии был расшифрован балетмейстером в названиях сцен. Первая часть состояла из двух эпизодов – «Образование света» и «Образование солнца», вторая называлась «Тепловая энергия», третья – «Радость существования», четвертая – «Вечное движение». Тема торжества добра над злом «виделась балетмейстеру как зарождение света, вытесняющего тьму»667. Обратим внимание на выбор тем, ассоциированных с образом бетховенской музыки и Мейерхольдом и Лопуховым. «Величие мироздания», как и «Дифирамб электрификации», – «прометеевские» темы, воплощающие идею покорения природы культурой в соответствии с основным лозунгом времени, сформулированным Луначарским:
Социализм есть организованная борьба с природой до полного ее подчинения разуму668.
Сохраняя несомненную преемственность от сюжета «Весны священной» Стравинского и даже косвенно к нему отсылавших в таких, например, эпизодах второй части, как «Активно пульсирующее мужское начало» и «Пассивное развитие женского начала» (кажется, эти аллюзии прошли незамеченными в исследовательской литературе о хореографе), сюжет «Величия мироздания» наделял тему иррациональной природной стихии и космогонических игр мотивом становления человеческого начала – через последовательность эпизодов третьей части от «Резвячества питекантропусов» («позднее Лопухов непременно хотел, чтобы это были неандертальцы…»669) к «Косарям» – крестьянам, предстающим на сцене в организованном движении коллективного труда, окультуривающего природу.
Но еще более явственно, чем в тексте либретто (неудачного с точки зрения самого хореографа и послужившего главной мишенью для критики), эта «прометеевская» тема воплощалась в самой хореографической драматургии первой танцсимфонии. Как точно формулирует В. Красовская, «нова была не тема, а ее носитель, единственный герой танцсимфонии – самозарождающийся классический танец. <…> Намеренно неуклюжие позировки, ломкие, скрученные, захватывающие экспрессивные движения понемногу смещались в привычные ракурсы и линии классического танца»670. Это превращение сопровождалось развитием «пластического образа прозрения»671 – рукой, заслоняющей глаза от расширяющегося круга света и отнятой от лица.
Причины неуспеха этого новаторского спектакля могут быть осознаны в разных аспектах. Не последнюю роль, по-видимому, сыграло соперничество с Лопуховым также претендовавшего на новаторскую роль в петроградском балете критика и руководителя новой балетной школы Акима Волынского, возглавившего травлю молодого балетмейстера. Но важнее все-таки оказалась идиосинкразия балетной общественности к идейной «перегруженности» балетного представления. В. Красовская так комментирует ситуацию этого судьбоносного для советского балета провала: «Лопухов попал в ловушку собственной печатной программы. Разбив балет на части, он посулил показать в эпизоде “Тепловая энергия” взаимодействие “пассивного женского” и “активно пульсирующего мужского” начал; в эпизоде “Жизнь в смерти и смерть в жизни” – раскрыть смысл человеческого бытия и тому подобное. <…> Критики высмеяли претензии Лопухова на философичность»672.
Поиски Федора Лопухова и в жанровом, и в сюжетном направлении как минимум лет на сорок предвосхищают находки современной мировой хореографической классики (даже описанное взаимодействие «женского и мужского начал» напоминает сходные пластические решения Мориса Бежара или Пины Бауш в их постановках «Весны священной»!). Однако настоящей «ловушкой» для Лопухова, по его собственному признанию, стала музыка Бетховена:
Смысл музыки Бетховена, ее содержание я знал хорошо по работам музыковедов. Но так же знал, что и я могу «прочесть» ее, основываясь на своем понимании Бетховена. Я много обсуждал эти вопросы с Б. Асафьевым, с А. Гауком, дирижировавшим моей танцсимфонией, и с Э. Купером, у которого я учился читать партитуру. Асафьев и Гаук склонялись к тому, что для моего замысла надо было бы наново писать музыку. В то же время они не восставали против моего намерения воспользоваться музыкой Бетховена. В его симфонии, помимо общих волновавших его вопросов, есть много так называемых «сельских» созерцательных моментов – любования природой, всем существующим. Все это, хотя и не полностью, отвечало моим наметкам хореографии. <…> По-прежнему отстаивая правомерность хореографического жанра танцсимфонии, я вижу теперь, что в своей работе допустил серьезную ошибку, которая, по-видимому, и решила судьбу постановки. Чем полнее мне удавалось воспроизвести в пластике музыкальные мысли Бетховена, тем дальше я уходил от волновавшей меня темы «величия мироздания». Для нее нужно было написать специальную музыку, а не приспосабливать к ней бетховенскую. Сейчас я это понимаю673.
На музыку Четвертой симфонии Лопухов ставит в сущности «сюжет» Девятой. Движение этого сюжета – от мрака к свету, от хаоса к Элизиуму. Оппозиция «природа-культура», миф о покорении мироздания человеком, тема «света» может быть раскрыта для Мейерхольда на материале Третьей симфонии, для Лопухова – на материале Четвертой, а для Луначарского – на материале Девятой. Однако важно, что все эти интерпретации, будучи принципиально различны по своей образности, ассоциируются с тем выработанным на рубеже 1910 – 1920-х годов «портретом» Бетховена, на котором он уподоблен революционеру, действующему по образу и подобию Прометея. В мифологическую цепочку «параллельных мест» встраивается и любая из его симфоний, закономерно уподобляющаяся Девятой с ее столь же стройной сюжетной мифологической перспективой – от хаоса к гармонии и свету.
С середины 1930-х годов и само творчество Бетховена начинает трактоваться как внутренне телеологичное, целенаправленно развивающееся к созданию Девятой, которая видится окончательным, подытоживающим сочинением гения:
Принято думать, что 9-я – последняя – симфония занимает в творчестве Бетховена совершенно особое положение. Это правильно лишь отчасти. От первых восьми симфоний девятая отличается своим масштабом, формой, характером изложения, но по преимуществу, не по основному содержанию. Напротив, она является закономерным выводом из всего предшествующего творчества Бетховена, его музыкальным завещанием. <…> [В предшествующих симфониях] уже можно найти большую часть того, что покоряет слушателей 9-й симфонии: соединение смелой новизны с демократической общедоступностью, мужественную, непреклонную направленность «от мрака к свету», образ самоотверженного героя, освобождающего угнетенные массы от ига тиранов, и грандиозные концовки, наполненные гулом бесчисленной ликующей толпы674.
В исследовании И. Рыжкина «Бетховен и классический симфонизм» 1938 года, претендующем уже на более развернутое по сравнению с предшествующими работами советских музыковедов рассмотрение симфонического творчества Бетховена в контексте европейской музыкальной традиции, доказательство того, что Бетховен является ее главной вершиной, выстраивается на примере всего лишь трех симфоний: ступеней, восходящих к «духовному завещанию» композитора, его Девятой.
В музыкантский обиход вплоть до наших дней прочно войдет анекдот из студенческой жизни:
– Сколько симфоний написал Бетховен?
– Три: Третью, Пятую и Девятую.
Вся будущая советская бетховениана будет опираться именно на эти – центральные для создания образа «героического» Бетховена – сочинения. Они окажутся главным объектом анализа в монографиях, посвященных композитору, на долгие годы и по сию пору образуют костяк «бетховенских» глав в учебниках истории зарубежной музыки для музыкальных училищ и консерваторий. Именно эти три опуса окажутся полноправными представителями бетховенского стиля в массовом сознании, отчетливо ориентированном на концепцию Бетховена – «героя» и «революционера».
Сравнение революции с симфонией сыграло важнейшую роль в процессе мифологизации бетховенского творчества. Сформулированное во времена Вагнера675 и подхваченное в статьях Блока, оно активно актуализируется после 1917 года идеологами нового режима в ответ на заклинания 1910 – 1920-х годов о необходимости создания «музыки революции».
II.5. Революция как симфония. Симфония как революция
Журналист, «старый большевик» Лев Сосновский в начале 1920-х делился своими ощущениями:
Когда я сижу в Большом театре, слушаю музыку, рассматриваю сцену и красный, позолотой изукрашенный зал, то что-то свербит в моем сердце: «Нет, нет, не то…» <…>. Был ли ты когда-нибудь, уважаемый читатель, на всероссийской конференции? Если да, то тебе ничего не нужно больше говорить – ты и сам это пережил. Если нет, тогда доверься мне, дай мне твою руку, я поведу тебя… Советская конференция – одна из тех великих симфоний, которые узнал теперь мир. Автор симфонии – стопятидесятимиллионный народ великой страны. Исполнители – тысячи лучших сынов этого народа. Солисты – немногие действительно одаренные мужи мировой истории. Каждая симфония отличается от другой. Кто слышал симфонию № 2 26 Октября 1917 года в Смольном? К моему великому сожалению, я не смог присутствовать на этом незабываемом и несравненном представлении. Декрет о мире, декрет о земле, об отказе от внешних долгов – этих трех аккордов достаточно, чтобы потрясти человечество до глубины сердца и разбить на два лагеря – на друзей и врагов советской России676.
Как бы ни была подчеркнута массовость авторства этого музыкального творения революции, как бы ни был символичен ее язык («аккорды» декретов которого, и особенно «декрета об отказе от внешних долгов», несомненно должны были «потрясти человечество»), – симфонист-аноним, стоящий за этими строками, все же просматривается сквозь толщу «стопятидесятимиллионного народа великой страны». Ведь неприятие, которое испытывает большевик Сосновский по отношению к окружающей его театральной атмосфере, выражается им парафразой на текст из финала бетховенской Девятой: «Нет, не те звуки». Эти слова не случайно упомянуты здесь. Натура профессионального революционера не приемлет, собственно говоря, не роскоши Большого театра (он, кстати, в это время постоянно используется новой властью для проведения официальных мероприятий), а фальши старого искусства, которая символизирует в его глазах и фальшь старой жизни: «Нет, нет, не то…» Описанная Сосновским «визионерская» симфония временно замещает несуществующую, ненаписанную, но, как и любая фантазия, она все-таки должна иметь своей опорой нечто реально существующее. Единственным близким мечтаниям большевика музыкальным образом оказывается образ бетховенского сочинения.
Само будущее общество отождествляется вождями революции с образом бетховенской симфонии. Бухарин провозглашал:
Мы можем с полной совестью сказать: мы создаем и мы создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит «собачий вальс» перед героическими симфониями Бетховена677.
В обобщающей эти представления формулировке Луначарского о том, что «каждая революция есть грандиозная симфония»678, прочитывается и некий дополнительный смысл. Его разъясняет появившийся в том же 1926 году русский перевод работы немецкого музыковеда П. Беккера «Симфония от Бетховена до Малера»679 со вступительной статьей Асафьева.
Суть концепции этой ставшей знаменитой тогда книги заключается в стремлении автора дать родовое определение симфонии как жанра и сведении его к исключительно социологическим характеристикам:
Подлинная причина, заставившая Бетховена прибегнуть для выявления своих мыслей к столь громоздкому организму, как его симфонический оркестр, может быть выражена следующим образом: он хотел говорить посредством своей инструментальной музыки с массами680.
Подобное намерение, по мнению Беккера, преследовал в истории европейской симфонии один Бетховен. Более того, Бетховен, по его версии,
<…> создал не новый род музыки, но новую аудиторию слушателей681.
Именно обращенность к «народному собранию» представляется Беккеру главным требованием, предъявляемым симфонии:
Я считаю высшим качеством симфонического произведения присущую ему силу общественно-массового воздействия682.
По характеристике немецкого музыковеда, это качество сродни религии,
<…> которая равным образом стремится к организации и возвышению единых личностей в некое единое «содружество»683.
Ни предшественники, ни преемники Бетховена (за исключением Малера в отдельных его опусах), как полагает Беккер, не достигли того результата, который являет собой в особенности его Девятая симфония:
Девятая симфония в своей внутренней сущности базируется на предпосылке общечеловеческого братства, тогда как идеалом следующих за Бетховеном поколений является объединение не в мировом масштабе, но лишь в пределах отдельных национальностей. <…> Не существует преемника Бетховена в смысле его творческих заветов684.
Само обозначение слушательской аудитории как «народного собрания», согласно Беккеру, «применимо лишь начиная с Бетховенской симфонии»685.
Иными словами: высшее достижение истории музыкальных жанров – это симфония, высшее достижение симфонического жанра – это симфонии Бетховена, а высшее достижение среди симфоний Бетховена – Девятая. Следовательно, по Беккеру, Девятая симфония Бетховена – высшее и пока непревзойденное достижение истории музыки.
Асафьев в предисловии к этой работе, откровенно прагматически проецируя концепцию Беккера на современную российскую ситуацию, суммирует:
Иначе говоря, проектируется такой путь: музыкально неорганизованная масса людей, воспринимающих симфонию, под воздействием формирующей силы музыки становится союзом, товариществом, в котором на почве общих одинаковых переживаний рождается чувство солидарностей686.
Фактически здесь заложена основа того проекта создания «советской музыки», в оформлении которого Асафьеву суждено было принять наиболее активное участие. Непосредственным предшественником его на русской почве следует считать Александра Скрябина с его неосуществленным замыслом «Мистерии», само исполнение которой должно привести к перерождению человечества. В такой крайней утопической форме идею Девятой до Скрябина не интерпретировал, пожалуй, никто, включая Малера с его Восьмой симфонией, на которую единственно указывает Беккер как последовательный опыт продолжения бетховенской концепции. Скрябин одновременно выступил в русской культуре как проводник этой традиции и как первый и единственный (!) современный композитор (смерть настигла его всего за два года до наступления революции), ненадолго назначенный советскими идеологами на роль «революционного» (о чем говорилось выше).
Разочарование в Скрябине, который из-за «огрехов» своей философии не может быть вписан в пантеон прямых предшественников «музыки революции», по-видимому, и заставляет того же Асафьева обходить молчанием это сходство. Важнейшей составной частью проекта «советской музыки» становится идея прямой (в обход Серебряного века) преемственности советской культуры от бетховенского творчества. Важнейшей целью – воспитание тех «продолжателей» бетховенского дела, которых не разглядел в истории «буржуазной культуры» Беккер.
При всех попытках откреститься от искусства «буржуазного прошлого» советская культура инстинктивно ищет предшественников. «Вопрос о наследовании» на поверку волновал советскую власть, по-видимому, осознававшую нелегитимность своего происхождения, едва ли не больше всех остальных.
II.6. «Учеба у Бетховена»
«Бетховеноцентризм» предопределил специфическую советскую трактовку истории музыки, при которой все композиторы стали делиться на предшественников и последователей Бетховена. Однако она была неизбежна при повсеместном гегельянском телеологизме, свойственном нарождавшимся в 1920-х годах стилям советской публицистики и пропаганды. Попытка предложить иной подход к истории музыки окажется обреченной на многие десятилетия. В 1923 году профессор Московской консерватории К.А. Кузнецов завершал опубликованную первую часть «Введения в историю музыки» следующим, по его мнению, «неизбежно напрашивающимся утверждением»:
<…> исторически тот или иной стиль представляется законченным не только в том смысле, что он дает как раз то, чего ищет современная ему человеческая душа, но и в том смысле, что он отражает по своему, в пределах присущих ему формальных средств, основную органическую схему: часть, влекущуюся к некоторому единому центру. И целое, обнаруживающее способность к дифференциальному росту. <…> Итак, художественный стиль есть то, что живет и тем самым осуществляет некоторый абсолютный закон бытия. Все стили нужны жизни, поскольку через них воплощается духовная потенция эпохи. <…> Историк отказывается производить расценку там, где человеческие поколения, каждое с присущим ему пафосом и свойственными ему формами экспрессии, вкладывали свои лучшие потенции. Смена одного стиля другим не есть замена худшего лучшим, низшего высшим. Прогресс, конечно, есть, поскольку нельзя объективно доказать, будто, например, мелизматика монодизма столь же совершенное средство музыкальной перспективности, как и аккордность полифонизма. Это значит лишь, что новые жизненные зовы не могли быть удачно реализованы в старых стилистических формах, но это не значит, что старые зовы как-то ниже своим достоинством зовов новых.
Подлинный историзм в том и познается, что он всякой эпохе, всякому стилю придает одинаковое значение как продукту единого, в конечном итоге, биения органической жизни. Поэтому историк отказывается от всевозможных попыток брать отдельный этап, как относительный акт некой высшей целостности. Во всех попытках создавать ту или иную схему «исторической драмы», характерно именно то, что относительность обычно обрывается на том самом акте, в котором живет и действует сам интерпретатор этой драмы – будь то Гегель, идеолог общественного рая или обновленного христианства. Завтрашний день приносит новый, незаконный – шестой акт наряду с узаконенными пятью. Кончается иллюзия неразгаданности всемирно-исторического плана687.
К счастью для Кузнецова, серьезность этих слов не была расслышана, и инвективы против «Гегеля, идеолога общественного рая или обновленного христианства», направленные, конечно же, на современность, не сказались на довольно успешной в настоящем и будущем профессиональной карьере автора. Однако продолжение работы не увидело света, и к масштабным замыслам, способным соперничать со своим ранним трудом, Кузнецов больше не возвращался. Слишком очевидной оказалась несвоевременность требования «подлинного историзма» с его равным вниманием к различным музыкальным стилям и эпохам в пору, когда бетховеноцентризм занял уже прочные позиции в советской культуре.
Пошатнуть их хотя бы отчасти попытался уже в начале 1940-х годов И.И. Соллертинский. В своем докладе «Исторические типы симфонической драматургии», прочитанном на пленуме Оргкомитета Союза советских композиторов СССР в Ленинграде в мае 1941 года, он противопоставил как различные, но равно приемлемые два типа симфонизма – «шекспиризирующий» и «байронизирующий». О первом, отождествляемом с творчеством Бетховена, он писал:
Бетховен был великим симфонистом и создал один из основных типов мирового симфонизма <…>. Этому типу, надо думать, принадлежит большое будущее и в советском симфонизме. Но – при всех его исключительных возможностях – это не единственный, а всего лишь один из возможных типов симфонической драматургии. Этот тип симфонизма прежде всего можно определить как симфонизм, построенный на объективном и обобщенном отражении действительности и совершающихся в этой действительности процессов борьбы; как симфонизм драматический, ибо драма есть процесс, действие, где наличествует не одно, а несколько сознаний и воль, вступающих друг с другом в борьбу; следовательно – как симфонизм полиперсоналистический (прошу извинения у читателя за несколько «гелертерский» термин, но не могу подобрать другого, более точного и более легкого), «многоличный». Словом, симфонизм бетховенского типа исходит не из монологического, а из диалогического принципа, из принципа множественности сознаний, множественности противоборствующих идей и воль, из утверждения – в противоположность монологическому началу – принципа чужого «я» <…>. Такой тип симфонизма я условно назову симфонизмом шекспиризирующим <…>. Шекспиризация здесь понимается в том смысле, что именно Шекспир развил до возможных художественных пределов искусство драматического «полиперсонализма», полного психологического перевоплощения, изощреннейшей психологической характеристики самых разных человеческих образов и типов. Ни одного из своих персонажей Шекспир не делает рупором авторского «я»; идея пьесы возникает из объективного изображения судеб героев, а не из лирического или дидактического высказывания автора688.
Второй же тип симфонизма характеризовался им так:
Монологический симфонизм вовсе не является «снижением», «разложением», «оскудением», «распадом» симфонизма бетховенского типа: это особый тип симфонизма, и его истоки можно проследить в музыке эпохи «бури и натиска» и предромантизма, в частности, – в иных субъективно-окрашенных произведениях Моцарта и прежде всего – всего соль-минорной симфонии.
В монологическом симфонизме весь реальный процесс борьбы идей, личностей, мир социально-этических конфликтов дан через преломление глубоко индивидуального авторского я, лишь одним голосом авторского сознания… Это будет – вновь в условной рабочей терминологии – тип байронизирующего симфонизма689.
Но и Соллертинскому, обладавшему большим авторитетом и обширным влиянием, не удалось поколебать упрочившиеся идеологические позиции.
Тем не менее интерес представляет его анализ того, как вообще возникла подобная ситуация. Он пишет:
Происхождение этой бетховеноцентристской концепции установить не так уж трудно. Это – работы итальянского музыкального писателя Джанотто Бастианелли (особенно «La crisi musicale europea»690), которые хорошо знал и точки зрения которых популяризировал в своих выступлениях покойный А.В. Луначарский. Это – с воодушевлением и блестящим знанием первоисточников написанные книги Ромэна Роллана691, где элементы бетховеноцентризма выступают очень отчетливо (Гендель – по Роллану – «скованный Бетховен» и т.д.692) и где общая концепция – при всей своей яркости – все же односторонняя. Взгляды Ромэна Роллана у нас же часто целиком, без всякой критики, вбирались в работы советских музыковедов. Наконец, это – брошюра покойного Пауля Беккера – «Симфония от Бетховена до Малера», переведенная на русский язык в 1926 году и очень популярная еще в АСМовские времена. Позже эта бетховеноцентристская теория была положена – в вульгарно-социологической транскрипции – в основу одностороннего выпячивания Бетховена у теоретиков РАПМ. По традиции она в значительной мере бытует в советском музыковедении и поныне693.
В действительности РАПМ подняла Бетховена на щит фактически сразу после своего организационного оформления в 1923 году:
Из всего богатства имен и вещей – лишь единицы принимаются нами целиком. Бетховен – почти единственная фигура, мощно вырисовывавшаяся во весь рост на экране нашей современности694.
Тема «Бетховен и современность» на все лады варьировалась пролетарской критикой. Брюсова, обращаясь к имени Бетховена, признавалась:
Наша современность во многом далека даже от недавнего прошлого. <…> Зато все то из прошлого, в чем слышится «лад» новой жизни и нового сознания, воспринимается особенно сильным, благодарным чувством, как речь старшего товарища, предшественника, вложившего свою творческую часть в дорогое нам новое695.
Из «интимного соседа социализма» (по Луначарскому) Бетховен превратился у рапмовцев в его «старшего товарища и предшественника». Из романтического трибуна, подобного деятелям Французской революции, – в прототипа большевика-рабочего. В их представлениях революционером мог стать только выходец из рабочей среды, что мало соответствовало реальности исторических событий, свидетелями которых адепты «пролетарской музыки» стали всего за несколько лет до этого: ведь главными действующими силами двух русских революций стали интеллигенция, военные и добровольные вооруженные формирования весьма пестрого социального состава. Но история рапмовцев и не интересовала. Речь для них шла о современном герое, пришедшем на смену жертвенному образу борца-одиночки и, в отличие от него, уверенном в победе. Лебединский смело утверждал:
Нельзя не увидеть близости подобной суммы идей, подобного мироощущения – идеологии современного революционного рабочего. Он тоже борется с окружающей его действительностью, стараясь изменить ее. Он также уверен в своей победе в конечном счете. Он также отдает порой свою жизнь в этой борьбе, убежденный в том, что так нужно, что такая смерть прекрасна, что о нем будут помнить, его будут оплакивать, у него будут учиться подобные ему люди. Обычно Бетховена ругают именно за то, что его музыка близка идеологии рабочего696.
Привычные для прессы 1920-х риторически выстроенные исторические аналогии, такие как «Великая пролетарская революция» – «Великая Французская революция», «передовой рабочий класс» – «передовая буржуазия рубежа XVIII – XIX веков», помогали объяснить некоторые «слабости» гения:
Бетховен <…> почувствовал появление на мировой арене нового сильного класса – буржуазии и сумел отразить в своем творчестве ее романтические чаянья и ее упоение победой. <…> Для того чтобы суметь полно отразить настроения, возникающие в данную эпоху у передового класса, художник должен проникнуться верой, являющейся наиболее передовой для данной эпохи. Лишь глубоко во что-нибудь веря, можно создать захватывающие произведения, воодушевленные верой и проникнутые искренней экзальтацией. И у того же Бетховена мы можем вспомнить глубочайшую веру в бога, бывшую тогда самым передовым умственным течением697.
Передовой класс прошлого сопоставляется с передовым классом данной эпохи, «глубочайшая вера в бога, бывшая тогда самым передовым умственным течением» – с передовой верой в построение коммунизма.
Поскольку особую ценность музыке Бетховена в глазах идеологов придавало демократическое «социальное происхождение» ее автора, то на повестку дня встала
<…> задача – найти социологическую подпочву для всего творческого стиля Бетховена, для каждого его сочинения, а впоследствии, может быть, и для каждого звука!698
Иными словами – необходимость проиллюстрировать, как в музыкальном строе самих сочинений отражается «плебейство», буржуазная идеология восходящего класса:
Бетховен и третье сословие – так ставится вопрос. 3-я, 5-я и 9-я симфонии – ключ к его разрешению699.
«Учеба» у «старшего товарища» Бетховена (объединенного в довольно-таки неожиданный союз с Мусоргским) стала главным лозунгом, выдвинутым идеологами РАПМ. Его происхождение они объясняли насущными задачами идеологической борьбы:
Между прочим, как возник лозунг Мусоргского и Бетховена? Он возник тогда, когда идеологи современничества бросили лозунг об уходе от действительности, когда они ориентировали молодежь на учебу у западной буржуазно-упаднической музыки. Тогда РАПМ противопоставил лозунг против – учебы у Мусоргского и Бетховена <…>700.
Но само понятие «учебы» у классиков трактовалось РАПМ своеобразно – отнюдь не в профессиональном плане, поскольку понятие «профессионализма» отвергалось как одно из проявлений «жречества». Под «учебой у Бетховена» имелись в виду и «воспитание масс в духе революционной идеологии», и «критическая учеба» основам диалектического метода в музыке.
Первый пункт отражал то представление о симфонии как акте воспитания «новой аудитории», о котором говорилось выше. При этом широкая «демократичность» бетховенского языка вообще не подвергалась сомнению. Согласно аттестации революционных демократов, Бетховен – образец доступности «для всех». Н.Г. Чернышевский писал о нем, будучи в области музыки неофитом, с простодушием, которым впоследствии отличались разве что рабкоры 1920-х:
Все-таки писать надо так, чтоб все могли понимать. Ведь великие идеи, как и высшая красота, сами по себе крайне просты и всякому доступны, если понятно выражены. Приведу в пример хотя бы самого себя. Никакого музыкального слуха у меня нет и никогда я ни на какую музыку не ходил, но раз Ольга Сократовна увезла меня в концерт. Поют, играют. А я, помнится, корректуру читаю. Вдруг заиграли что-то совсем особенное. – Да это, должно быть, Бетховен, подумал я; справился с афишей и в самом деле не ошибся. Что же вы думаете, ведь весь номер прослушал701.
Популяризаторская литература 1920-х шла порой еще дальше, представляя Бетховена своего рода «народником». Так, в биографии Бетховена из серии ЖЗЛ известный автор сочинений «для детей и юношества», в том числе исторических романов и жизнеописаний великих людей М.В. Ямщикова (выступавшая под псевдонимом А. Алтаев702) писала о Девятой симфонии: