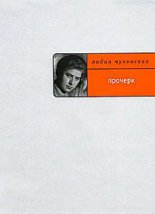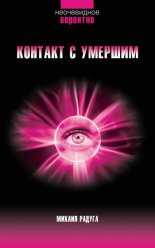Справа налево Иличевский Александр
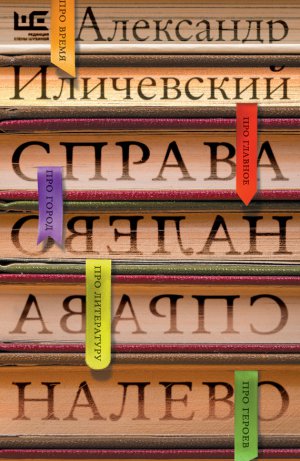
Одна из загадок портуланов — отсутствие их эволюции на протяжении XIV и XV веков, что говорит в пользу существования какого-то одного эталонного прообраза. Портулан Пири Рейса, средневековый шедевр картографии, созданный в Константинополе в начале XVI века, по точности на порядок превосходил все существовавшие до него карты мира. В силу кривизны Земли портуланы были мало пригодны для путешествия через океан, однако прекрасно работали при каботажном плавании.
Увы, всё это не отвечает на вопрос: какая именно точка справа от Крымского полуострова на Каталонском атласе была выбрана в качестве опорной для навигационного пучка локсодром. Обращение за помощью к специалистам не помогло идентифицировать связанный с этой точкой населенный пункт. Но спустя какое-то время возникла не догадка, а некая свободная ассоциация, которая не дала ответа на вопрос, но зато помогла сделать смелое предположение в хлебниковедении.
Дело вот в чем. Велимира Хлебникова с юности интересовало сравнение дельты Волги с дельтой Нила. Река, собирающая в свое лоно и в линзу Каспийского моря (единственного моря на планете, чьи берега хранят все мировые религии) свет Земли Русской, река, вдоль берегов которой распространялась культура, а торговый путь вел на Восток, связывалась великим русским поэтом с Нилом. История этого сравнения — предмет отдельного исследования, учитывая существование книги путевых размышлений, посетивших Василия Васильевича Розанова во время его плавания по Волге, озаглавленных «Русский Нил».
Моряною в Астраханской губернии зовется ветер с моря, что нагоняет волны со взморья в плавни, затопляет замешкавшегося врага и делает проходимыми банки, россыпи, косы. Существует моряна и в дельте Нила. Именно ею некоторые ученые объясняют чудо рассечения вод при Исходе.
Хлебников, чья первая научная работа была посвящена фонетическому транскрибированию голосов птиц, населяющих Астраханский заповедник, который был создан его отцом, считал, что дельта Волги, речная страна со всем ее кормовым изобилием — рыб, птиц, дичи, — неотличима от дельты Нила, и это позволяет сделать серьезные выводы. Поэт искал различные подступы к этой метафоре в течение всей жизни. Его перу принадлежит рассказ «Ка», где развивается тема божественного двойничества на фоне пребывания в дельтах двух великих рек. Поэт считал, что где-то в дельте Нила находится двойник его души. (Андрей Платонов был убежден, что стал писателем только после того, как ночью за письменным столом увидел своего двойника; тогда он работал над «Епифанскими шлюзами»).
Таинственная точка на Каталонском атласе наводит на мысль о картографическом преобразовании, при котором дельта Нила переходит в дельту Волги. Для этого следует вычислить координаты пересечения медиан двух треугольников, обозначающих дельты великих рек. Это преобразование состоит из двух отражений — от меридиана и параллели, которые пересекаются в центре симметрии, каковой приходится на горную местность в Восточной Анатолии, поразительно близко к истоку Евфрата.
Нетрудно убедиться, что это картографическое преобразование переводит Москву в окрестности Мекки (и наоборот), Рим — в окрестности Кабула, а остров Ашур-Аде в Каспийском море, на котором Хлебников планировал устроить резиденцию Председателей Земного Шара, — к берегам Пелопоннеса. В целом происходит отчетливая замена центров Запада на центры Востока, вырисовывается объединение веток различных цивилизаций. Это преобразование четко атрибутируется Хлебниковым, ибо он мечтал именно о таком экуменическом единении. В частности, будучи русским поэтом, искал осуществления своей пророческой миссии внутри исламской традиции во время своего анабазиса в составе агитотдела Персармии, выполнявшей установку Троцкого о розжиге искры мировой революции на территории Гиляна, северной иранской провинции.
При таком «хлебниковском» картографическом преобразовании Иерусалим переходит как раз в тот узел пучка локсодром на Каталонском атласе, который нам никак не удавалось идентифицировать. Координаты отраженного Иерусалима приходятся примерно на середину Маныча — цепи соленых озер, геологического наследия пролива, который в доисторические времена соединял Каспийское море с Черным. Вновь подчеркну, что разгадка этого узла на Каталонском атласе так не отыскивается, но размышления над ней приводят к интересному картографическому преобразованию, которое находит свое развитие в следующем.
Хлебников всю жизнь работал над «Досками судьбы» — книгой, чья идея наследует старинному калмыцкому гаданию по бараньей лопатке, которое уходит корнями в буддийские традиции. Особенно интенсивно поэт работал над ней во время своего пребывания в Персии, которая интересовала его с юных лет как некий исход из реальности в райские наделы свободы и живого религиозного чувства, где возможно полное осуществление футуристического предназначения поэта. В «Досках судьбы» Хлебников с помощью степеней 2 и 3 пытался вывести Формулу Времени и связать ею значимые исторические события. В этой связи его интересовала исламская традиция, согласно которой исламский мессия — мехди — явится в мир Повелителем времени.
Оперирование степенями 2 и 3 и попытки с их помощью провести калибровку новейшей хронологии соответствуют описанному выше картографическому преобразованию не времени событий, а мест событий, согласно которому все числовые калибровки (градусы, минуты, секунды) координат происходят в системе кратности 6 = 2 х 3,36 (0) = 22 х 32 (0).
16 января 1922 года в Москве, за полгода до смерти, Хлебников записал в «Досках судьбы»:
- Чистые законы времени
- мною найдены 20 года,
- когда я жил в Баку, в стране огня,
- в высоком здании морского общежития,
- вместе с [художником] Доброковским.
- <…>
- Художник, начавший лепить Колумба,
- неожиданно вылепил меня
- из зеленого куска
- воска. Это было хорошей приметой,
- доброй надеждой
- для плывшего к материку времени,
- в неведомую
- страну. Я хотел найти ключ
- к часам человечества…
Там же мы находим:
- Азбука, гласный мир, перволюди
- рождения, равноденствие,
- жизнь, небо, земная кора
- Рубль, струны шара, шаг, 317.
«Струны шара» — как раз и есть наши локсодромы, меридианы и параллели. Вышеизложенное предположение провоцирует проанализировать материал «Досок судьбы» с точки зрения картографических преобразований, попробовать найти в их материале пространственные соответствия. Но и без того уже сейчас можно предложить ключ к структуре мышления Велимира Хлебникова, основанный на описанном картографическом преобразовании относительно центра симметрии дельт двух великих рек. Этот русский поэт, как никто другой из современников, находился на острие луча времени, проникавшего в XX век, высвечивая его апокалипсические битвы, а с ними и великие научные открытия, революционное развитие научной мысли.
Объединение пространства и времени должно было неизбежно повлиять на мировидение Хлебникова, учившегося математике в Казанском университете, ректором которого некогда был Николай Иванович Лобачевский, автор «Пангеометрии», предвестницы математического аппарата общей теории относительности. К тому же Хлебников — Председатель Земного Шара. И вправе поступать с земным шаром (по крайней мере с его поверхностью) как угодно. Таким образом, нам представляется закономерным в изучении структур мышления Хлебникова наконец породнить время с пространством, так как XX век, мышление новой эпохи находились на кончике пера Велимира Хлебникова, этого великого объединителя, примирителя религий и цивилизаций, сторон света и времен.
Разведывая структуру исторического времени, он прощупывал структуру пространства.
Кадры
(про главное)
Есть моменты в жизни, кадры которых навсегда втравливаются в сетчатку. Два из них у меня связаны с поездами-вокзалами. Первый — опаздываем на поезд в Феодосии, но забежали в рыбные ряды купить тюльки, есть у меня такой ритуал — без тюльки из Феодосии не возвращаться. И вот мечусь от продавца к продавцу, пробую помалосольней чтоб, как вдруг из толпы мне под ноги падает навзничь мужик и заходится пеной припадка. Тут же к нему кто-то из спутников припадает, держит голову, — и вот эти горы рыбьего серебра вокруг, садящееся солнце и тишина — вдруг тишина настала, только человек хрипит и мелко трясет головой, бедолага: раненый боец, а над ним — санитар.
Второй — мчимся в Крым, в Курске выхожу за пирожками, поезд трогается, бегу через взбаламученную толпу влететь на подножку, как вдруг толпа расступается, будто на бульон дунули, и вижу, как лежит человек в белой рубахе с залитой кровью грудью. Я прыгаю, и поезд ускоряется под тоненький заливистый вопль: «За-ре-за-ли!»
Бронзовый вексель
(про главное)
Глядя на тюркские толпы дворников и строителей, стекающихся в новогоднюю ночь на Красную площадь, подумал: не пора ли в полный голос призвать Бронзовую Орду на место варягов? Пусть уж Душанбе, Бухара, Бишкек, Джалал-Абад, Алматы, Фергана отныне не церемонятся. Пусть придут целиком и растворят Москву, как вода сахар. Пусть у каждого жителя столицы в руках окажется метла или лопата — лучшее орудие перестройки. Пусть уже сроют и выметут. А уцелевшие станут тогда чувствовать себя, как эвакуированные в Ташкенте.
Заминка
(про литературу)
Юдифь, помолившись, чтобы Всевышний укрепил ее в этот день, — сняла меч и дважды ударила им, чтобы снять с плеч голову Олоферна. Вся суть, вся трагедия и торжество — в этом «дважды». Всё остальное кажется пренебрежимо малым перед этим запинающимся движением. Вся трудность и величие победы израильтян над сокрушенными ассирийцами, которым городские старейшины продемонстрировали со стен Иерусалима добычу Юдифи, — поместились в этот период долей секунды, необходимых девичьим рукам, чтобы снова занести двуручный меч и опустить его.
Пророк как поэт
(про литературу)
Есть в культуре довольно устоявшаяся связь: поэт => пророк.
Но мне кажется, что очень и очень полезно было бы рассмотреть обратное: пророк => поэт. Пророки пользуются переносными значениями, метафорами, различными фигурами речи и т. д., и порой необходимо подспорье в виде квалифицированного анализа классических библейских текстов как текстов прежде всего поэтических, особенно когда читаешь такое у Иезекиля:
(4) И (вот) рождение твое: в день рождения твоего не отрезали пуповины у тебя, и водою не омыта ты для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита. (5) (Ничей) глаз не сжалился над тобой, чтобы сделать для тебя из сострадания к тебе (хоть что-то) одно из этого. И выброшена была ты в поле в мерзости твоей в день рождения твоего. (6) А Я проходил мимо тебя, и Я увидел тебя, попранную, в крови твоей, и Я сказал тебе: «В крови твоей живи!». И Я сказал тебе: «В крови твоей живи!».
Так почему здесь именно так: «В крови твоей живи!»? Ведь всё, что следует дальше, — это такой краткий счастливый роман воспитания и укрепляющихся родственных чувств. Текст — принципиально открыт для истолкования, и поиск точного знания в нем — это труд именно поэтического, вооруженного многими смыслами, чтения.
Мир крыш
(про героев)
В Москве можно жить только очень высоко, этаже на дцатом — когда кругом тишина и чистый мир крыш. Редакция журнала «Афиша» не так уж давно обитала в Гнездниковском, в том самом доме, откуда из кв. 7 в 1937-м увели на расстрел троцкиста Рудольфа Абиха, одного из героев моего «Перса». Понятно, что там всё расстроили и переломали и внутри всё выглядело пространным и интересным разломом, как в музее Маяковского — почти татлинская лестница туда, где на площадке перед дверью сидел Юрий Олеша и слышал жуткие удары по долоту, или чем там вынимали мозг Маяковского, а потом выносили в тазу, накрытом полотенцем, как пирог, везли в Институт мозга; где этот мозг сейчас? Так вот в том доме, где жила «Афиша», можно было легко выйти на антресоли — почти на крышу, и стоять курить и с наслаждением видеть отстраненный и почти бесшумный мир московских крыш, совершенно стерильное пространство, упоительно очищенное от людей, мусора, автомобилей, — мне приятно было там представлять велосипедные воздушные линии; ведь, правда, хорошо было бы над Москвой далеко вверху перекатываться с крыши на крышу по натянутым крепко тросам, придумать что-то такое, как-то отделиться от всего приземленного. Мозг Маяковского, где ты? Что за сны футуристические ты видишь, захлебнувшись в спирте забвения? Что снится тебе на пыльной полке архива? Неужели только парная дымка над лесистыми горами близ Риони.
Муравьи и дельфины
(про главное)
Когда-то поразил рассказ о воинственном виде муравьев из Южной Америки, которые проникают в чужой муравейник, убивают матку и вместо нее подсаживают свою. Окончательный захват происходит естественным путем. За чужой маткой порабощенные муравьи продолжают ухаживать как за своей, а новые муравьи родятся уже не захватчиками, а хозяевами. Впоследствии, когда наступает пора захватывать следующий город-государство, оккупанты берут с собой в поход оставшихся в живых из порабощенного племени.
Еще чудеса гуманизма насекомый мир демонстрирует во время убийства двумя-тремя десятками шершней нескольких десятков тысяч пчел: шершни откусывают головы пчелам, пробираясь к меду. Насколько я понимаю, подобным образом эти существа ведут себя многие миллионы лет.
Примеры альтруистического поведения в насекомом и животном мире — вопрос доброй фантазии. Тем более меж видов. Однажды я видел, как ворона крутит сальто на воздушной линии на уровне седьмого этажа. И видел, как ворона играет с собакой, клюя ее в кончик хвоста и отбегая раз за разом. Но это городские животные, это совсем другое дело — они, в общем-то, разумны. А в диком царстве есть игра? добро? поэзия? Я вот думаю, что дельфины — это цивилизация поэтов. Раз у них такой мощный алфавит, что никто пока не способен декодировать их песни.
Молния
(про главное)
Когда Петр Леонидович Капица попал в опалу, он удалился на дачу и оборудовал в сарае лабораторию. Среди прочего он занялся в ней плазмой и попытками получить искусственную шаровую молнию. У него это не слишком получилось, зато он составил каталог шаровых молний. Прочитав его, я понял, что именно я видел в детстве, когда после дождя наблюдал большой, метр-полтора в диаметре оранжевый шар с недлинным хвостом, плывший над электрическими проводами. Длилось это минуты две, пока шар не исчез из виду, преодолев около километра над железнодорожной насыпью. Всё это время я бежал за ним. Бегу отчасти и теперь.
Академия
(про город)
Здание Президиума над Андреевским монастырем, над рекой и Нескучным садом, над Воробьевыми горами, усыпанными искрящимся снежным светом, — стоит того, чтобы там побывать. Виды из окон — с разной, порой головокружительной высоты, в зависимости от посещаемого кабинета, да и само здание — по вычурности и топологической замысловатости — примечательно: сплошь мрамор и золоченый дюралий, исход советских времен, апофеоз имперской и позитивистской выспренности. Стуктура здания переогромленна, но в то же время продумана с тщательностью, находящейся на грани безумия и бессмысленности. Бесконечные, взаимно переплетающиеся лестницы, отсутствие сквозных сообщений, множество вновь и вновь, с каждым проходом мимо, открываемых элементов архитектуры: например, прогулочный дворик на приставной крыше, лучи дорожек ведут к постаментам, на них статуи великих ученых: Ковалевская, Вейерштрасс, Остроградский, Ньютон в полный рост, как Грации вдоль дорожек и скамеек пустующего висячего сквера, над которым носится бес метели, вьюжит, крутит, поливая, уматывая всё снежным шлейфом. Летний сад при Большом концертном зале, где обычно выпивают академики, — это аквариум высотой метров тридцать, плюс заросли магнолий, олеандра, папоротника и т. д. Стеклянная Ротонда на втором этаже, с хрустальными люстрами и кадками с тропическими деревьями, — некий колумбарий с бюстами мертвых академиков по кругу, в натуральную величину, с изобразительной точностью — как Иван Грозный, воскрешенный антропологом Герасимовым, — жуткое зрелище; сразу понятно, что скульптура по сравнению с подражательной копией — это рай по сравнению с адом. Ходят слухи, что здание построено на монастырском погосте, а подвалы там неисчерпаемые, уходящие под реку, и повсюду невероятные вентиляционные и силовые системы, автоматические станции пожаротушения, лифтовые шахты на каждом углу, в которых среди ночной тиши воет и рыдает, беснуется, толкает створки дверей запертый дух-Сквозняк, плюс мощнейший центр Трансатлантической интернет-связи, стояки, уходящие в двадцатиметровую ребристую высоту трансформаторов, питающих гиперболоиды космических локаторов-антенн, которыми уставлен периметр крыши и прочее, — в общем, станция Солярис есть жалкая декорация в сравнении. И по всем этим потокам кабелей и проводов, уложенных в алюминиевые лотки под потолком, по всему этому лабиринту, когда открывают вентиляционные заслонки, ночью мчатся крысы. Они пищат — и взрываются веером искр на оголенных, прогрызенных местах силовой изоляции, которые привлекают их поживой — обугленными тушками собратьев. Половина площадей роздана фирмачам, внизу прорва вышколенной охраны. Очевидно двадцатилетнее запустение Новой вещи, позднесоветский шик интерьеров, сами академики большей частью превратились в циников.
Да, в целом эта мраморная башня с невероятными золочеными мозговитыми построениями на крыше произвела на меня большое впечатление. Вокруг нее наслоен удивительный атмосферный пирог, всегда неспокойный воздух — могучие вихри в колодезных закоулках, а на выходе иногда такой прозрачный бес подхватит тебя — и катит, волочит по гололедице, только держись. Рядом Воробьевы горы и булгаковская мгла…
Вот так еще раз поразила меня Москва.
Поправка
(про литературу)
Давайте представим себе рождение сверхновой. Или хотя бы вспышку на солнце. Вспышка на солнце способна в секунду переместить — отправить в странствие в вакуум парсеков — массу солнечного газа, сравнимую с весом планеты. Количественно процессы в звезде проще описывать миллионами мегатонн. Помните взрыв на атолле Бикини? Помните взрывы под Семипалатинском? Помните Новую Землю, ставшую Марсом, — настолько она теперь недоступна для человека?.. Помните рычание смерча ударной волны? Помните эти странные фильмы, похожие на последние кадры «Забриски-пойнт», где манекены, макеты домов, водонапорная башня, ангары, весь выстроенный на полигоне город сносится ураганом, затмившим ослепительную вспышку, после которой пустыня превращается в кремниевое зеркало спекшегося песка…
Мне кажется важным, что в космосе всё происходит беззвучно, как в этих фильмах. Миллиарды мегатонн ежемгновенно взрываются в абсолютной тишине, наполняя Вселенную звездным мерцанием, клубами термоядерной плазмы, чьи языки способны слизнуть Солнечную систему. Такой многомерный, полный тайн времени и пространства скринсейвер разворачивается в совершенном молчании перед Всевышним.
Рука тянется к клавиатуре, чтобы вернуться к исправлениям в тексте Вселенной. Ничего не стоит в законе гравитации поставить знак «минус» и превратить притяжение в отталкивание.
Сначала предметы станут невесомыми.
Затем устремятся в небо вслед за Луной и отдаляющимся Солнцем.
Но прежде разомкнутся объятия.
Юрий Егоров
(про героев)
В Одессе жил один из самых любимых моих художников — Юрий Егоров. Не знаю, насколько широко он известен, но работы его стоят недешево. У его картин удивительное свойство выворачивать восприятие за горизонт, раскатывать сферу зрения на всю катушку, занимать светом всю, абсолютно всю, без остатка, сетчатку. Я догадываюсь, что делает он это за счет обратной перспективы, когда окоем целиком, вместе со всей стратосферой, проецируется в самую сердцевину зрителя. Впрочем, это не так уж важно, «рыбий глаз» существует давно, но с его помощью этот «эффект Егорова» недостижим. Егоров рисовал не только море, Ланжерон[2] и паруса. И не только Егоров рисовал всё это. Но он единственный, кто способен был предъявить суть морского желания — бесконечность.
На счастье
(про главное)
[Илине Григорьевой]
Давно не держал в руках коробок спичек; зажег одну, медленно ведя по взлетной полоске, и вспомнил: лет пятнадцать назад в Крыму в августе, когда сыпались Персеиды, лежал ночью, смотрел, как ползут в бездне созвездия, и тут метеорит — словно спичка, с тем же звуком не мгновенно сгорающего от трения заряда, зеленой черточкой скворчащей чиркнул в глубоком синем бархате и канул. Море тогда еще светилось в камнях кружевом шелестящих волн.
Луна
(про время)
Задним числом много чего пророческого вспоминается. И азербайджанец, тоскующий по СССР, поднимающий руки со словами: «Если Россия на Баку войной пойдет, никто воевать не будет, все сдаваться побегут, я первый».
И вот это, зловещее. В Одессу я приехал впервые в 2004 году с представлениями об этом городе, созданными Олешей, Бабелем, Жаботинским, — но ничего почти из своего воображения в реальности не обнаружил. А обнаружил дачный кооператив на 16-й станции Большого Фонтана и в начале аллейки с мальвами табличку: «В конце этого проулка стоял дом, где родилась Анна Ахматова». На дачах этих переночевать не удалось, и мы рванули на Затоку, где поселились в симпатичном частном пансионе. Через пару дней в полнолуние мы вытащили из багажника привезенный телескоп, наладили треногу и стали рассматривать небо. Скоро к нам подошла женщина, которая была тут и сестрой-хозяйкой, и горничной, и портье. Лет пятидесяти, приятная; очевидно было, что ее основная профессия — совсем не из сферы обслуживания, а вероятно, что и учительница. Она попросила разрешения взглянуть на луну — и ахнула, нагнувшись к видоискателю и увидав яркую, в оспинах кратеров поверхность, по которой ступала нога Армстронга. Наконец она выпрямилась и вздохнула: «А ведь правда брат брата на вилах держит». Я не понял, переспросил. «Мне так бабушка в детстве говорила: расти, дочка, пока мирно живем. А то завсегда, чуть что, брат брата на вилы подымет». «При чем здесь луна?» — спрашиваю. «А бабушка мне при этом на луну показывала: смотри, мол, луна всегда грозит, на ней видать, как брат брата на вилах держит». И тут я догадался именно так посмотреть на луну, и увидел. Я похолодел и выпрямился. Она что-то такое заметила в моем лице и, уже уходя, произнесла со слезами в голосе: «Зависть растопчет любовь всегда, это я сызмала поняла».
На Никитском
(про литературу)
Когда думаешь сейчас об отчизне, взгляд внутренний — тяжелый, неподъемный, будто что-то удерживает голову в тисках, не дает подняться и увидеть, что, кроме барельефа на пьедестале памятника Гоголю во дворе на Никитском, есть еще и писатель, пусть невеселый, пусть удрученный, но царящий над тем, что сейчас предстает перед глазами; ты всё силишься, но что-то пыткой не дает глянуть вверх, убедиться, что у этого морока есть создатель, и взгляд скользит круг за кругом по пьедесталу, и всё рожи и рожи, и пресмыкающиеся мешковатые фигуры и рыла ползут в неизбывной адской карусели, мучительно медленной и бесконечной.
Гоголь, бедный, где твой нос?
Метафизика против физики
(про главное)
Притягательность пейзажа, в отличие от, скажем, человеческого тела, иррациональна. И разгадка состоит в том, что ландшафт, возможно, потому притягивает взгляд, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, его, ландшафт, сотворившего; а Творцу и творцу свойственно иногда любоваться своим произведением.
Ландшафт может быть столь же уникален, как отпечатки пальцев. В великом гимне планете Земля — фильме «Койяанискаци» — камера движется на самолетной высоте над гористой пустыней в Чили. Причудливые слоистые скалы, напоминающие одновременно и вертикальную мрачную готику, и органического Гауди, казалось бы, неотличимы от каньонов Юты. Но в Юте известняк из-за избытка окислов железа красноватый — рыжий, рудой, даже персиковый; такого больше нигде не сыскать. А, например, только в низовьях Волги были открыты особые эрозивно-наносные образования, напоминающие с высоты волнистое, как стиральная доска, дно мелководья. Бугры Бэра получили свое название в честь впервые описавшего их Карла Бэра, пионера-эмбриолога, вдруг занявшегося в конце жизни и на исходе XIX века изучением геологических сдвигов Прикаспийской низменности и открывшего попутно «Всеобщий закон образования речных русел». (Я ничего не знаю о старости Бэра. Старость — значительная часть судьбы. И о такой, как у Бэра, можно только мечтать. Хотя героические биографии часто на поверку оказываются не такими уж счастливыми. Любознательность как форма отчаяния много важного свершила на благо цивилизации.)
С целью разобраться в причудливом узоре ландшафта геологи иногда прибегают к помощи археологов, и наоборот: случается, археология просит консультации у геологии. Так, общими усилиями, была открыта Хазария, примечательная тем, что часть ее жителей в VIII–IX веках исповедовала иудаизм. Археологи долго искали хазарскую столицу Итиль и в самой дельте, и у современной Енотаевки — на правом берегу Волго-Ахтубинской поймы, и столь же упорно на левом берегу — у села Селитренное. Но за все годы — ни следа: ни захоронения, ни черепка. Не мог же выдумать Хазарию Иехуда Галеви, написавший важнейший для средневековой еврейской мысли труд «Кузари». Тогда пришли на помощь геологи, указавшие, что полно-водность Волги и, следовательно, уровень Каспия значительно менялись во времени. И археологи вспомнили, как исследовали в Дербенте крепостную стену, выстроенную в VI веке, чтобы защищать иранских Сасанидов от набегов с севера. На западе она упиралась в неприступный Кавказ, а на востоке подходила к самому морю. При этом крайняя башня находилась под водой на глубине шести метров. Отсюда следовало, что уровень Каспия в IX веке был на двенадцать метров ниже современного. Северная часть Каспия мелкая, суда из Волги движутся по специально прорытому каналу. Понижение уровня моря на метр осушает более десяти километров, и значит, в IX веке дельта Волги располагалась значительно южнее. А там, где в нынешнее время разливается бескрайнее половодье, где стоят камышовые заросли, проходимые только кабанами, где дебри тальника скрывают сомовьи ильмени, щучьи ерики и протоки, — там простирались луга и пашни тучной Хазарии, жителей которой половодья постепенно вытеснили на высокие степные берега, где они и растворились в населении Золотой Орды.
Хазария потонула в речных отложениях, была погребена на дне Каспия, от нее не осталось и следа, не считая редких осколков керамики в отвалах, сгруженных с землечерпалок. Но в книге главного еврейского поэта Иехуды Галеви «Кузари» эта страна стоит нерушимо, и царь ее придирчиво расспрашивает еврея о его вере, постепенно убеждаясь, что принятие иудаизма только умножит благоденствие управляемой им страны. Ничего удивительного, ибо, как сказано в Талмуде: мир — это всего лишь кем-то рассказанная история. Воображение, вероятно, вообще единственная твердая валюта в областях, торгующих смыслами. Остальные валюты слишком быстро превращаются в «бронзовые векселя». И «Хазарский словарь» Милорада Павича, в котором главный герой носит имя как раз Иехуды Галеви, рассказывает о не более баснословных историях, чем та, что лежит в основе романа «Кузари».
Да, ландшафт порой столь же уникален, как узор на радужке глаза. Но иногда наблюдается неожиданное сходство. В «Открытии Хазарии» Гумилев пишет, как однажды в экспедиции, находясь в километре от моря перед густой стеной камыша, зарисовывал в отчет разрез выкопанного шурфа и увлекся. Как вдруг заметил, что дно палатки промокло. Он вышел наружу и увидел, что камыш шелестит, приглаживаясь южным ветром, а всюду из земли выступает вода: впадины на глазах превратились в лужи, через камыши побежали струи. И тут ему стало страшно: он знал, что ветровой нагон достигает глубины двух метров и часто губит зазевавшихся охотников или пастухов. Вместе со своими помощниками он едва успел свернуть лагерь, когда луговина вокруг залилась зеркалом воды, и им пришлось мчаться наперегонки с наступающим стремительно морем.
Странно, что Гумилев, спасаясь от моряны (так называется в тех краях южный ветер), не вспомнил колесницы фараона, которые, в отличие от их автомобиля, все-таки были застигнуты морем. Но это событие навело потом создателя пассионарной теории этногенеза на мысль, что хазарам тоже приходилось оберегаться от моряны — и следовательно, следы их не стоит искать на плоских, заливных берегах. Благодаря этому археологи переформулировали свою задачу.
Еще один пример уникального ландшафта: Мертвое море. Когда Всевышний давал евреям Святую Землю, не существовало приборов для измерения высоты над уровнем мирового океана и никто, кроме, очевидно, Бога, не знал, что район Мертвого моря, напитанного Иорданом и вулканическими источниками из афро-азиатского разлома, — самая низкая точка на земле. Дно его, помимо выкристаллизовавшейся соли, выстилает асфальт: черные, обкатанные волнами кусочки битума, подобранные на его берегу, египтяне использовали для бальзамирования. Ландшафт самой особенной на планете страны обязан обладать уникальным свойством.
Ландшафт отчизны важен не меньше, чем телесность человека. Он — плоть обитания. Трудно жить в слишком большой стране, потому что нервные импульсы, осуществляемые перемещением ее обитателей, иногда неспособны обеспечить координацию бытования страны как целого. Весть о смерти Екатерины Великой достигла Тихоокеанского побережья российской империи лишь год спустя после кончины императрицы. Гончаров после лучшего в мировой литературе морского путешествия на фрегате «Паллада» вынужден был несколько месяцев возвращаться в Петербург (существенная часть его пути прошла на санях по единственной дороге в тех краях — реке Лене, где ямщик рисковал завезти его в «черный снег»: под тяжестью навалившего за зиму снега лед на широкой реке прогибается и вода просачивается под сугробы). Сейчас есть сотовая связь, автомобили, самолеты, интернет — всё это усиливает нервную деятельность стран. В древности передвижения были ограничены пешим, верблюжьим и конным ходом. Расстояние измерялось в днях перехода. Удобней жить в стране, пределы которой подвластны человеческому телу, где можно лечь Гулливером навзничь и затылком чувствовать Север, а пятками Юг, где левая рука дотягивается до Солнца на Востоке, а правая принимает на закате светило на Западе.
Однажды я видел, как противолодочный самолет с удлиненной кормой, скрывающей магнитную антенну обнаружения подлодок, пролетел на бреющем над Мертвым морем и ушел по Иордану патрулировать Кинерет. Что тут скажешь? Я всегда завидовал летчикам и ангелам, способным скользить по коже карты.
Хорошо, допустим, мы знаем, как расступилось море. Допустим также, мы знаем, что манна небесная — капельки застывшего сока растений, надкусанных саранчой и после сорванные ветром. Но как был уничтожен Содом? Как рухнули стены Иерихона? Как было остановлено Солнце? Почему Мертвое море соленое, а озеро Кинерет пресное? Рациональные ответы на эти вопросы, вероятно, существуют. Но их правомерность не выше правомерности ответов иррациональных.
Иногда научные достижения неотличимы от магии и превознесение чудесного отдает невежеством, особенно если достижения науки при этом принимаются как должное. Есть области математики, в которых уверенно себя чувствуют от силы десяток-другой специалистов на планете, и обществу, случается, проще признать их достижения мыльными пузырями, чем важными успехами цивилизации, отражающими красоту мироздания и разума. Но есть и области чудесного, на долю которого незаслуженно выпадает масса пренебрежения со стороны позитивизма, склонного считать, что ненаблюдаемое или непонятное попросту не существует, а не подлежит открытию и объяснению. Скажем, если вы придете к психиатру и заикнетесь об инопланетянах, суровый диагноз вам обеспечен. Шизотипическими расстройствами страдает целая сотая доля человечества. А сколько еще тех, кто никогда не приходит к врачу. В момент, названный Карлом Ясперсом «осевым временем» и явившийся, как он считал, моментом рождения философии, дар пророчества был передан детям и сумасшедшим. Насчет детей не знаю, но к людям, делящимся с врачами своими переживаниями необычных явлений, я бы всерьез прислушался. Тем более что в истории человечества практически все деятели, совершившие серьезные прорывы в развитии цивилизации, находились по ту сторону психиатрической нормы. И вместе с тем я присмотрелся бы ко многим давно уже отданным на откуп массам разновидностям научной фантастики и попробовал бы отыскать новую точку зрения на них. Иногда норма затыкает рот истине, а массовый жанр клеймом обезображивает прозорливые наблюдения.
Например, однажды мне довелось говорить с человеком, который был убежден, что одно из имен Всевышнего говорит нам о серьезнейших вещах. Это имя — Саваоф: греческая калька с «Цеваот» — «Владыка воинств». Оказывается, под «воинствами» имеются в виду «силы небесные», то есть звезды. Отсюда мой собеседник делал вывод, что ангелы обитают на других планетах, звездах, в межзвездном пространстве. «Взгляни, — говорил он, — на вспышки на солнце: они гигантские, едва ли не превышают размеры Юпитера, с поверхности звезды отрываются мегатонны плазмы и уносятся в космос. Разве не так, как сказано, рождаются мириады ангелов, чтобы пропеть осанну Всевышнему и исчезнуть?»
Что ж? Это сравнение может показаться только поэтическим, если не подумать, что со временем наши представления о живом понемногу пересматриваются. Вероятно, скоро мы придем к выводу, что существуют неорганические формы жизни. Например, великий физик-теоретик Стивен Хокинг всерьез рассматривает компьютерный вирус как одну из форм жизни. И, вероятно, когда-нибудь, особенно с учетом того, что не за горами эпоха, когда мозг человека напрямую будет подключен к глобальной сети, какой-нибудь самозародившийся вирус разовьется в достаточно мощный интеллект, не облеченный плотью, но с которым нам волей-неволей придется иметь дело.
Так почему же нельзя представить, что звездные процессы, точнее, связанные с ними потоки вещества и энергии, суть последствия коммуникативных связей неких сложных пространственно-временных образований? Почему в космосе с его чрезвычайной протяженностью и сложностью невозможно формирование неких пока еще не постижимых интеллектуальных образований? В человеческом мозге переносятся электрические и химические импульсы, связываются и разрываются синапсы. Так почему не допустить, что и в космосе, и на нашей планете обитание «потусторонних» сил есть не материя, а результат пока не осознанных коммуникативных процессов (возможно, очень медленных, или, напротив, мгновенных), происходящих в звездах, в растительном мире, в геологическом… Что мы внутри некой глобальной вычислительной системы, внутри вселенского мозга, что мы и мироздание — мысли этого мозга. Например, реки, морские течения, облака могут быть рассмотрены, как каналы передачи, по которым в качестве потока информации движутся значения плотности, солености, карта водных вихрей, всего, что составляет физическую суть реки. А где есть потоки данных, там можно подозревать интеллектуальные кластеры, ответственные за выработку смысла вместе с метаболизмом информации (в языческой интерпретации: так возникают «природные духи»).
Иногда познание позволяет не только нащупать смысл утонувшего в забвении обряда, но даже его изобрести. Что из этого следует? Не много, но и не мало. Эта проблематика подводит нас к главному противостоянию в XXI веке — физики и метафизики, религии и науки, к необходимости того, что оно, противостояние, должно разрешаться с помощью модернизма: развитием того и другого навстречу друг другу. В конце концов, мироздание было сотворено не только с помощью букв и чисел, но и с помощью речений. Вот почему Хазария стоит нерушимо на страницах, написанных Иехудой Галеви. Вот почему мир есть рассказываемая огромная, сложная, самая интересная на свете история.
Кусочек мела
(про литературу)
Иногда вспоминаю такую картину Август 1933 года. Отправили писателей воспеть Беломорско-Балтийский канал. Плывут на пароходе через новенькие шлюзы, увенчанные богинями советского пантеона — с веслами, мячами, снопами и т. д. На палубу выходит страдающий тяжелейшей меланхолией великий и элегантный Зощенко. Он ставит ногу в парусиновой туфле на леер и начищает ее кусочком школьного мела. Потом другую. В это время зэки, строители канала, узнают его, вдоль берега проносится ропот восхищения, все поднимают кирки, лопаты, бросают носилки, и раздается громовое «Ура!».
Звездный вальс
(про главное)
Треть звезд во Вселенной — двойные. Представьте себе такую пару: звезда, возможно, в тысячу масс нашего Солнца или более, кружится в звездном ветре вокруг другой огромной, способной увлечь вокруг себя множество таких же планетных систем, как наша, звезды… Хотелось бы, чтобы каждая из этих звездных пар свидетельствовала о земных небесных чувствах. Страстных или нежных, каких угодно, но столь же истинных и великих, как тысячи звездно-солнечных масс, обращающихся в уединенных недрах Вселенной вокруг друг друга.
В окуляре
(про время)
С возрастом резкость наводится. Силуэт угрозы становится четче. Лицо ее — физиономия большинства. С возрастом всё меньше ценишь реальность. Ибо нет ничего зловещей ширпортреба. В юности эта эмоция казалась заурядной. С возрастом начинаешь ценить собственную ненависть. Зрачки юности расширены слепящей белладонной: всё кружится в вальсе познания, даже зло выглядит частью замысла. Взрослость — это, как минимум, молчание, обращенное к большинству.
«Дядя Годо»
(про литературу)
В самй идее сценической постановки заложено зерно абсурдизма, выпадения из логики реальности. Ибо любое представленное на сцене слово или предмет — уже выдернуты из действительности. Вот почему мне кажется, что только Беккет и Ионеско занимались естественным делом в театре. «Дядя Ваня» же и другой сценический Чехов — это очень беккетовские вещи, поскольку Астров, дядя Ваня, сёстры — абсолютно не укорененные в почве реальности маленькие люди, на них, как и на беккетовских героев, без тоски не глянешь. Они на привязи, но неприкаянны и всё чего-то ждут — отдыха, лучшей доли, Москвы, — но на самом деле они ждут Годо. А что до абсурда — то что такое абсурд, как не слегка лишь приукрашенная реальность?
Вселенная, сознание, знание
(про главное)
Философ Мераб Мамардашвили в одной из своих лекций о феномене сознания приводит историю, произошедшую в Дании с двумя создателями квантовой механики, Нильсом Бором и Вернером Гейзенбергом.
Гейзенберг гостил в институте Бора. На закате одного из весенних дней они вышли к берегу моря. Свежий ветер расчистил горизонт, на севере показался мыс шведского полуострова Кюллен Бор говорил о том, что для датчан море формирует важную черту национального сознания: когда они смотрят в морскую даль, то думают, что доля бесконечности дана им в обладание.
Прогуливаясь вдоль берега, они подошли к Кронборгскому замку, некогда воздвигнутому Фредериком II. Вместе восхищались архитектурой бастиона, его башнями, мостом надо рвом, заполненным водой, деревянной резьбой в часовне, медной кровлей, покрытой зеленой патиной; тем единством, которое замок образовывал с морским ландшафтом.
— Помните легенду о Гамлете, принце датском? — вдруг спросил Бор. — Никаких исторических свидетельств, кроме упоминания о нем в хронике, не осталось. А теперь внимание. Смотрите, что сейчас произойдет. Следите за собственным сознанием. Я сообщаю вам, что предание отождествляет Кронборгский замок с шекспировским Эльсинором.
Гейзенберг вспоминает о своем потрясении. Вроде бы ничто не должно было измениться вокруг после слов Бора, ибо даже неизвестно доподлинно, существовал ли Гамлет и в самом ли деле жил здесь, но тем не менее всё вокруг преобразилось. Стены и башни засветились смыслом, по ним поползла тень отца Гамлета. Двор замка вдруг вместил мир трагедии Шекспира, в нем появились подмостки, и актеры на них стали разыгрывать рамочную пьесу «Мышеловка». В комнатах замка зазвучал тревожный монолог Гамлета, и тринадцатое столетие приблизилось вплотную.
Гейзенберг впоследствии часто ссылался на этот проведенный тогда Бором эксперимент с сознанием. В 1920-х годах остро стояла проблема смены научной парадигмы. Новое вдение физического мира не укладывалось в сознании ученых. Новое мировоззрение, связанное с открытием микромира, требовало пересмотра основных положений в философии науки. Когда Гейзенберг и Бор вышли к Кронборгу, преобразившемуся в Эльсинорский замок, они обсуждали то, как знание, извлеченное из мира, способно этот мир изменить. Суть обсуждаемой проблемы можно сформулировать так: насколько непредсказуемо содержание мира. Оно выше логики, и от ученого требуется постоянная готовность к открытию в мире связей, несовместимых с привычным мышлением.
Теперь перенесемся в Москву и попробуем провести эксперимент, похожий на тот, что провел Бор над Гейзенбергом. А именно: окажемся в легендарном районе Пресне, особенно памятном по уличным боям революции 1905 года и по тому, что именно здесь Маяковский написал «Облако в штанах».
Для эксперимента нам потребуется описать ландшафт выбранного нами района, прилегающего к Белорусскому вокзалу, в начале Пресненского вала, точней, в том месте, где он смыкается с валом Грузинским. Необходимо заметить, что обе эти улицы — часть Камер-Коллежского вала, кольца улиц длиной тридцать семь километров, охватывающих Садовое кольцо. Камер-Коллежский вал и заставы на нем были учреждены налоговым органом — Камер-Коллегией — в 1742 году как таможенная граница Москвы.
Так что же окружает этот перекресток, из которого с Камер-Коллежского вала выходит Малая Грузинская улица?
Самое большее, что можно сказать об этой местности, — то, что она типично московская, трудно поддающаяся определению. Устройство ее принципиально нелинейное. Город никогда не строился по плану, охватывающему большие пространства. Вот отчего он похож более всего на улей. Он не проектировался, но лепился, как соты в диком дупле, — по окружности и радиусу. В Москве нет точек выверенной перспективы, вся историческая столица закруглена, срезана, нашпигована, даже в самом центре, промышленными, учрежденческими, недоступными пешеходу участками, складами, зонами…
Топология Москвы бессвязная, с провалами, проходами, оградами, и особенно в том месте, которое интересует нас сейчас. Окрестности Белорусского вокзала загромождены товарной станцией и множеством запасных путей, на которых формируются составы, краснокирпичными цехами Завода электромеханических изделий памяти 1905 года, великолепным памятником конструктивизма — хлебозаводом имени В. П. Зотова и забранным за высокий забор со спиралью колючей проволоки заводом «Фазотрон». Этот таинственный завод находится на углу Камер-Коллежского вала и Малой Грузинской улицы, южной границы исторического района Грузины.
По моим наблюдениям, район образует своего рода московские Бермуды, которые не столь страшны, сколь таинственны. Неспроста именно здесь в позапрошлом веке стояли таборы цыган. Близость летних рестораций и цыганских балаганов с пляшущими медведями к зоопарку и речке Пресне была уместна. Теперь здесь находится самый дорогой и злачный ресторан Москвы; из-за его забора летом можно услышать Земфиру, и редкая машина останавливается у него без сопровождения джипа охраны, из которого выпрыгивают с автоматами омоновцы и оцепляют участок переулка, поджидая, пока телохранители в штатском вынут из машины и проведут хозяина этой кавалькады к метрдотелю. Зоопарк придает местности дополнительную экзотичность: здесь, как в калейдоскопе, собраны осколки обитателей всего земного шара.
Гам, стенание павианов, всхлипы выпи и вопли павлина, уханье шимпанзе, мускусный звериный запах и аромат ячьего помета, иканье лам и чей-то рык много лет сопровождали меня во время прогулок, пока обезьян не поместили в новые закрытые вольеры, и наступила тревожная тишина, которая, впрочем, недавно стала нарушаться волчьим воем.
Я проходил мимо «Фазотрона» двенадцать лет, совершенно не обращая на него внимания, но вот однажды поинтересовался его историей — и был потрясен не меньше Гейзенберга, узнавшего о предании Кронборга.
С архитектурной точки зрения завод этот не представляет никакого интереса. Он состоит из нескольких зданий, большая часть которых скрывается за трехметровой оградой. Создан был в 1917 году для производства альтиметров, измерителей скорости и другой авионики, необходимой для управления самолетом. Изначально назывался «Авиаприбор» и был одним из флагманов отечественного авиаприборостроения, шесть десятилетий выпускал радиолокационное оборудование для военной авиации.
Теперь внимание!.. Вся суть в том, кто этот завод создавал. В революционные годы первым директором его стал выпускник Петербургского университета, математик, физик и метеоролог, летчик-наблюдатель Первой мировой войны, кавалер двух Георгиевских крестов, воздухоплаватель-рекордсмен, создатель динамической метеорологии.
Директор «Авиаприбора» был незаурядным и достаточно известным человеком. Однако нас будет интересовать другая сторона его личности, малоизвестная, но уникальная настолько, что позволяет нам повторить эксперимент Бора.
Что знала о директоре «Авиаприбора» общественность? Он был петербуржцем, профессором университета, летчиком-асом, во время боевого вылета которого немецкая фронтовая радиостанция оповещала о приближении его самолета к Северо-Западному фронту. Родился в 1888 году в Петербурге, окончил физико-математический факультет, где стал читать лекции по высшей математике и работать в аэрологической обсерватории. С началом Первой мировой войны наш герой ведет занятия в авиационной школе и возглавляет аэронавигационную и аэрологическую службу фронта.
Представьте себе, что мы стоим неподалеку от Белорусского вокзала и видим обыкновенный, довольно унылый столичный пейзаж, криволинейный, загроможденный кирпичными приземистыми зданиями завода авиаприборов, и вдруг узнаём, что директором и создателем завода, заложившего фундамент в отечественное самолетостроение, был не только летчик-наблюдатель и метеоролог, а автор статьи «О кривизне пространства мира», адресованной самому Альберту Эйнштейну.
Способность владеть научным мировоззрением в масштабах Вселенной давно уже оставила науку. Современная наука страдает узостью. Чрезмерная сложность текущих научных моделей принуждает к строгой специализации. Но это не относилось к нашему герою, увы, рано скончавшемуся — 16 сентября 1925 года, тридцати семи лет от роду, от брюшного тифа.
Его звали Александр Фридман. Он был основоположником современной космологии, автором библейского масштаба модели расширяющейся Вселенной, которая легла в основу теории Большого взрыва. Благодаря Фридману мы впервые получили достоверное представление о развитии и происхождении Вселенной.В 1920-х годах еще было совершенно немыслимо представить себе динамическое устройство пространства-времени. Воображение не могло вместить догадку Фридмана о том, что мы живем на поверхности трехмерной сферы, которая раздувается в четырехмерном пространстве. Только полученные впоследствии Эдвином Хабблом данные при наблюдении галактик стали доказательством идеи Фридмана.
На примере Фридмана остается лишь поразиться силе воображения и ума, позволяющих в сотрудничестве достичь такой вдохновляющей мировоззренческой широты — от воздухоплавания до творения Вселенной.
Прощальный взмах
(про время)
В детстве я только и делал, что вместе с друзьями дивился НЛО. В самом непосредственном смысле этой аббревиатуры: слишком уж многие объекты, пролетавшие над нашими головами, в то время пока мы стремились на лыжах через заснеженную, потрескивающую от мороза лесную глухомань к Коломне, или летом — на опушке и в оврагах, собирая грибы-ягоды, — оказывались не поддающимися определению. Сначала дивились, а потом почти привыкли, иногда взахлеб рассказывая о настоящих полярных сияниях над нашими почти уже Мещерскими лесами (интенсивная работа ракетных двигателей хорошенько ионизирует атмосферу, что расцвечивает привычный спектр в основном зеленоватыми разводами вроде тюля). Частично, как я сейчас понимаю, эти летающие штуковины объяснялись непосредственной близостью 3-го округа ПВО Москвы, или разнообразием типов шаровых молний, но по преимуществу UFO относились к летно-испытательному комплексу в Жуковском, где была построена самая большая в Европе взлетно-посадочная полоса — больше пяти километров, как раз для приема из космоса летящих с огромной посадочной скоростью объектов. Кроме шуток, году так в 1983-м над моей головой бесшумно промчался знаменитый челнок «Буран» — совершенно невиданный дельтообразный летающий объект, прямехонько сошедший со страниц романов фантастов. Только спустя несколько лет после официального испытания, закончившегося первой в мире успешной посадкой в автоматическом режиме, я понял, что за кашалот прошелестел тогда над головой, которой невдомек было, что это чудо и есть прощальный взмах эпохи.
Простые профессии
(про героев)
Оказывается, Сергей Курехин в 1970-х работал концертмейстером художественной гимнастики.
Так вот откуда «Поп-механика»! Вот откуда шагающие бодро на сцене музыканты.
Это дает ключ к упражнению: берем простые профессии и представляем себе их применение в авангарде.
Есть такие, где воображение почти не справляется: например, сталевар.
Колокол
(про город)
Подумал, что Церетели очень идет Москве. Словно он и его монстры — ее, столицы, мысли. Ее мысли и наши видения. Всё жду, когда они все оживут. Петр I заскрежещет и шагнет с Сумасшедшего корабля. Огромный Туркманчайский железный хрен на Тишинке взовьется юлой и полетит булавой. Из двора на Грузинской площади выкатят на колесах его клоуны-гиганты, носороги, слоны, зашагает бронзовый Высоцкий и поскачет конный царь Александр, и огромное металлическое воинство двинется к Кремлю. Дальше Петр поднимает Царь-колокол и бьет по нему кулаком. Колокол воздушной волны накрывает город, и стекла дрожат. И становится, наконец, хорошо на душе — от близости момента устанавливаемой могучими чучелами справедливости.
Место встречи
(про главное)
Звезда VY созвездия Большого Пса светит с расстояния пяти световых тысячелетий.
Тот свет, что мы видим, принадлежал еще фараонам.
Два миллиарда километров разделяет ее полюса, что в четыре раза превосходит расстояние от Юпитера до Египта.
Наше Солнце — жук-скарабей в сравнении с VY.
Но скарабей силен, и сильно наше Солнце.
Кусочек термоядерного вещества его ядра, размером с человеческую голову, способен тысячелетия питать энергией все устройства, созданные человеческой цивилизацией, включая ракеты, авианосцы и подводные лодки.
Если бы у фараонов была эта голова, им бы не понадобились ни Манхэттен, ни пирамиды, чтобы до нас добраться.
К тому же расстояние до некоторых звезд ужасает более бесконечности, ибо бесконечность абстрактна.
И тем страшней думать о нейтронной звезде, плотной как атом, думать о черных дырах.
Но всё равно, как бы ни были ошеломительны чудеса Вселенной — все они ничтожны по сравнению с человеком.
Понимаете?
Сириус — алмаз фараонов, огненная гора, чей огонь способен испепелить сонмы ангелов, — абсолютное ничто, горстка теплого праха по сравнению со смертным, самым слабым простым человеком.
Анима
(про литературу)
Все-таки лошадь — хтоническое животное, и кошмар — nightmare — недаром словно бы «ночная кобыла»: всадник без головы и всадники апокалипсиса скачут где-то в тех юнговских полях. С тех пор, как в детстве ночью меня перепугала лошадь, ударившая мордой в распахнувшееся затем окно, и показала зубы, и хрустнула удилами, дыша клубами пара (дело было поздней осенью), — с тех пор только силуэт лошадки в яблоках, стоящей в предрассветном саду по колено в тумане и хрупающей паданками, может внушить мне мирное отношение к этому анималистическому образу.
Цветной воздух
(про героев)
Двенадцать лет назад моим соседом в Тарусе оказался примечательный старик — Александр Иванович Косарь, профессиональный военный, служивший после войны во внутренних войсках — его батальон участвовал в разгоне волнений в Новочеркасске. Старик был огромного роста, мосластый; даже не очень понятно, как такие люди могут состариться. Очень был хозяйственный, выращивал в парнике дыни-колхозницы и учил меня правильно подрезать яблони. Делал настойку на черноплодной рябине, от которой отнимались ноги и развязывался язык. Но говорил, конечно, больше он, я слушал. В рассказах старика ум и воля к жизни сочетались с сознанием обреченности служить государству. Вероятно, именно такой выпестованной войной самостийности среднего офицерского состава и испугался Сталин в 1945 году, когда обнаружил, что народ не желает уступать ему Победу.
Кое-что из историй А. И. Косаря я записал, но больше запомнил. Вот три из них.
«Уже неделю мы штурмовали деревню Маклаково, Калужская область, зима 1942 года. Наконец приехал Жуков, построил батальон. Маршал подобрал палку и принялся избивать нашего командира. Тот старался стоять ровно, от боли лицо его искажалось, удары по спине и груди звучали громко, по рукам и ногам были почти беззвучны.
Избив прилюдно командира, как собаку, Жуков избил нас всех.
Деревня Маклаково стояла на вершине оврага, единственный подступ к этой высоте следовал по его дну. Огневые точки немцы установили в окнах четырех изб, их полуметровые бревенчатые стены изнутри еще были завалены мешками с песком. Немцы стреляли не сразу. Они ждали, когда нас побольше навалит по склонам оврага в горловину, подпускали поближе и только тогда открывали огонь — из пулеметов и минометов.
В атаку я никогда не ходил пьяным. Я берег свои сто граммов, потому что опьянение ослабляет инстинкт самосохранения. Зато потом я выпивал и свою порцию, и долю погибших товарищей. Очень важное это было дело — напиться после атаки; трезвым после боя оставаться нельзя — смертельно опасно.
В ту атаку мне повезло — меня контузило, я свалился в воронку. Очнулся ночью, хорошо — обмундирование было приличное, не замерз. Первое, что увидел, — звезды стынут над головой, а от моего дыханья дрожат, шепчутся. Меня разбудили выстрелы: немцы поглядывали на дно оврага и, если кто-нибудь в груде тел шевелился, — досылали пару коротких очередей. Тогда я сообразил: чуть выглянул, присмотрелся, чтобы понять, откуда немец стреляет. Затем труп, который со мной был в воронке, уже замерзший, сколь было сил — поднял повыше, вытолкнул на край. И только окошечко приоткрылось — я туда и жахнул. Немец в ответ так залился, что труп на меня обратно пополз. Слышу — притих фриц; ну, думаю, в этом секторе он уже отстрелялся, ствол теперь полагается остудить. Тогда я и пополз.
Когда вышел утром к своим, они мне удивились: „А мы тебя уже списали“. Своему второму рождению я обрадовался не сразу. Выпил кружку спирта и сел писать письмо матери, чтобы не верила похоронке.
Я писал и вспоминал: у немцев в лентах пули размечены, через промежутки поставлены трассирующие цветные — зеленые, синие, красные, чтобы знать, когда лента кончится. И вот когда нас стали поливать из пулеметов, мы залегли — и вдруг я вижу вверху воздух — зеленый, синий, красный. Зеленый, синий, красный…»
«Блокаду я провел на одном из участков Ленинградского фронта, в непролазной болотистой местности. Убитых хоронили в трясине, могилу не выкопать: яма на два штыка тут же наполнялась водой. Немцы здесь не могли прорваться: ландшафт был непроходим, переправу не наведешь, потому после нескольких попыток прорыва — просто обстреливали. В блиндажах вода по щиколотку, вся жизнь на нарах, если нет настила, кругом торчат облезлые горелые елки, осинник непролазный. Всё время обновляли гати, вешки расставлены от кочки к кочке. В темное время лучше не выходить — сгинешь. Обстрел немцы вели редко и не метко, но и после такого неприцельного огня гати срывало в нескольких местах, снова шли восстановительные работы. После обстрела там и тут из трясины всплывали трупы наших товарищей, захороненные в прошлом году, во время активных боев на передовой; почти невредимые.
Гати нужны были для поддержки коммуникаций между частями. В сторону Ленинграда никто ничего не строил — и было понятно, что в случае чего в этих болотах все мы и сгинем. Но я считал, что всё равно гать надо строить, чтобы горожане могли выйти и сдаться.
Ближе к концу осады на болотах появились стаи крыс — жирных, рослых. Они сидели на кочках и не желали никуда уходить, не боялись. Ходить по гатям стало опасно. Я передвигался теперь всегда с трофейным парабеллумом наготове, отстреливал тварей. Говорили тогда, что в городе теперь все вымерли, что там теперь пусто, и потому крысы вышли оттуда спасаться».
«А еще не забуду вот что. В 1944-м под Могилевом после выхода из окружения меня взял в оборот особист. Чуть моложе меня; мы еще не отоспались — он меня будит и в штабную землянку приглашает. Чайку налил, допрашивает: что да как, да почему живы остались. Я сначала отвечал честь по чести, а потом смотрю: куда это он клонит? Смекнул я, что дело он мне сошьет будьте-нате, вот и взяла меня злоба. Потащил я особиста за грудки и давай его охаживать. Кулачищи у меня будь здоров, никогда не жаловался. Хорошо, бойцы подоспели, оттащили. А командир тогда выгнал всех из землянки, сел напротив особиста и тихо так сказал: „У меня список боевых потерей за последние десять дней еще не подписан. Выбирай: или я сейчас тебя туда впишу, или ты оставишь этого парня в покое“. А тот сидит, вся морда в юшке, и молчит. Потом головой кивнул, умный оказался. Скоро он по-тихому перевелся в другую часть».
Из теории систем
(про главное)
Ведь правда странно, что род человеческий (и не только) двуполый? Почему бы не однополый, или трехполый и больше? В теории систем двуполость объясняется так: женщина сидит у очага, никуда от него далеко не отходит, чтобы не рисковать, и сохранить геном для поколений потомков. В то время как мужчина вступает в конкурс естественного отбора: кто сильнее и ловчей, умней и состоятельней, у кого вообще есть задатки к выживанию, тот и возвращается из полей риска и битв, — со своими генами, чтобы сделать вклад в поколения, которые спокойная женщина уже приготовилась произвести и сохранить для следующей ступеньки отбора. Мол, говорит теория систем, трудно придумать схему более эффективную для повышения выживания обществ.
Кстати, религии, похоже, как и многое на свете, действительно, служат стойкости социума в жерновах естественного отбора. Да и вообще, в иудео-христианстве антропология всюду — с трудностями — но отыщет материалистическое — если не объяснение, то разъяснение — за исключением одного момента: преобладания этики. Великая Мэри Дуглас, сокрушившая Фрэзера и написавшая одну из важнейших монографий XX века, растолковывает нам, что ситуация Содома нечто большее, чем законодательный символ, служащий целесообразности альтруизма. Откуда — впрочем, и не только отсюда — следует, что Кант не шутил, поражаясь лишь Вселенной и Закону.
Точка росы
(про город)
Самые странные облака из тех, что я видел, образовывались в Сан-Франциско. Из-за разницы температур холодного течения, льнущего к Тихоокеанскому побережью, и теплых воздушных масс над континентом и прогретым мелким заливом, густые молочные реки устремляются по утрам и вечерам к береговой кромке. В самом городе, стоящем на множестве высоченных холмов, низины, ложбины, улицы и тупики заполняются непроходимой густой пеленой. Где-то вверху глохнут фонари и зажженные окна. Туман тучнеет и, постепенно нагреваясь, превращается в облако: великий слепец поднимается, всматривается незрячими бельмами в верхние этажи, оставляя проходимыми переулки. Машины опускаются по авеню Калифорния в озеро тумана и на склоне другого холма выныривают, чтобы снова рубиново зарыться у светофора задними стоп-огнями.
Когда облако уходит в полет — с вершины холма это выглядит ни с чем не сравнимым зрелищем. Гигантский, размером с сотню парфенонов дряблый дирижабль с подсвеченным жемчужным подбрюшьем понемногу оставляет внизу центр города. Темный пирамидальный силуэт небоскреба Трансамериканской Корпорации чудится швартовой мачтой. Происходит это уже в полной тишине — в поздний час, когда светофоры отключены и мигают, и лишь желтые такси с рекламными гребнями, как у игуан, шаря фарами по обочине, ныряют и выныривают по холмам.
Есть какая-то тайна у этого города. Какая-то древняя заклятость, сохранившаяся еще со времен, когда здесь обитали индейские племена. Наверняка на вершинах лесистых тогда холмов, с которых открывалась долина океанского размашистого прибоя, они содержали при сторожевых сигнальных кострах тотемные алтари, к которым привязывали иногда прекрасных пленниц. И верили, что душа кровавой жертвы уносится вместе с туманом к божеству облаков, представляя, как где-то далеко вверху среди звезд обитают все хранящиеся в нем, облаке, образы и обличья.
Никогда не знаешь, что могут выдумать варвары.
Различие
(про главное)
«Всё осмысленное — дискретно», — эта профетическая фраза Андрея Николаевича Колмогорова настолько глубока, что иногда захватывает дух, когда в нее вдумываешься. Она не исчерпывается только тем, что различие лежит в корне познания. Эту фразу можно было бы поставить эпиграфом к одной из главных научных монографий XX века — книге антрополога Мэри Дуглас «Чистота и опасность». В ней впервые сформулирована идея о том, что разделение на чистое и грязное, само возникновение понятие нечистоты, возникновение различения между будничным и святым — свидетельствует о мощнейшем импульсе развития религиозного и культурного сознания.
Так откуда берется вот эта корневая способность к различению? Откуда происходит этот сдвиг, смещение сознания над самим собой, позволяющий переводить реальность в область, доступную мышлению? Как зарождается способность к расчленению тела хаоса и извлечению из него смысла?
Для подступа к ответу на этот вопрос было бы полезно обратиться к фигуре библейского Еноха, — к едва ли не единственной фигуре библейского корпуса текстов, пригодной служить символом познания — пытливости по отношению к устройству мироздания. Енох — один из главных персонажей иудаизма периода Второго Храма. Некоторые ученые (например, Michael Tuval) полагают, что, вероятно, некогда существовало противопоставление иудаизма, основанного на фигуре Моисея, и иудаизма, опиравшегося на откровения Еноха.
Енох был удостоен попасть на небо и в окружении верховных ангелов лицезреть глубинные тайны мироздания и даже лик Всевышнего. Происходит Енох от гигантов — или духов — рефаим, рожденных от ангелов, возжелавших дочерей человеческих, для совокупления с которыми они спустились на вершину горы Хермон. Гиганты научили людей магии и принесли много тлетворного знания, за что были сокрушены Богом с помощью потопа. Не исключено, что выживший Ной — как раз из племени гигантов. Вода сошла и из трупов великанов вылетели бесы, с тех пор мучающие человечество. Это те самые бесы из Нового Завета, изгнанием которых прославился Иисус. Более того, изгнание бесов, по сути, было основным социальным занятием основателя христианства.
Представления древних евреев о бесах — как о главных виновниках человеческих бед и болезней — не только вариант психотерапии. Шизофрения, происхождение которой есть одна из важнейших загадок науки о человеке, вероятно, может быть представлена как взбунтовавшаяся архаическая функция сознания, когда-то отвечавшая за мифологизацию магических представлений о действительности.
Нильс Бор первый обратил внимание человечества на то, что наука более не способна продвинуться дальше в рамках классической логики, что мышление обязано модернизироваться и научиться работать во взаимоисключающих парадигмах одновременно. Эта новая «расщепленность» легла в основу мощнейшего научного прорыва со времени возникновения человеческой цивилизации.
Все продукты развития цивилизации были созданы с помощью знаков и способов их передачи. Знак не мотивирован, и это чуть не главная загадка мышления и мироздания. И было бы не бессмысленно предположить, что способность сознания к «сдвигу», возможность взглянуть на себя, как на «иное», — лежит в корне познания.
Таким образом, представление об одержимости «бесами» — оказывается глубоко нетривиальным и находится вплотную с могуществом сознания созидать свою цельность, — причем результатом этой работы является производство смысла.
Неизвестно, как возникли знаковые системы. Знак потусторонен смыслу и, вероятно, — говоря и символически, и буквально, — принадлежит к той области, где некогда обитало ангельское существо, которое зачало от земной женщины Еноха, одарившего человечество, подобно Прометею, научным познанием.
В котлы
(про героев)
Судьба художника Верещагина баснословна. Знакомый Рузвельта, живший в злачных Нижних Котлах, куда ездил на пролетке, держась за рукоятку пистолета, спрятанного за пазуху; лишившийся своих картин в Америке (где они сейчас?), выдвинутый в 1901 году на Нобелевку, изобразивший в серии «Варвары» афганца, в точности схожего с талибом, только меч и щит заменить на АКМ, — художник погиб в преддверии Цусимской катастрофы вместе с адмиралом Макаровым на броненосце «Петропавловск». Картины его еще долго потом плавали на поверхности моря. Вот судьба.
Ключи
(про главное)
Без исторического воплощения тело смысла подобно разлагающемуся трупу Метафора сама по себе таинственная штука. С одной стороны, это простейший инструмент познания — расширения смысла мира, когда описание неизведанного происходит путем сравнения с уже известным. С другой, в этой процедуре рождается новый смысл — где-то между изведанным и новым. Как это происходит и что происходит при этом, — коренится, скорее всего, в истоке искусства. В том моменте, когда человек-творец становится владельцем мира. В этой точке ему, словно бы, вручаются ключи от мироздания. Другое дело, поймет ли он это и что он с ними, этими ключами, будет делать. Некоторые принимают их за съедобное и проглатывают.
Теплушка
(про главное)
Часто в последние месяцы вспоминаю вот что. А. Д. Сахаров, отправившись студентом в эвакуацию, ехал на восток в теплушке месяц, и в темное время суток придвигался к буржуйке, чтобы в отблеске пламени видеть страницы новейшей монографии по квантовой механике. Состав плетется, то сонно постукивая через мокрые залитые дождями поля, то пропуская военные эшелоны навстречу; или бесконечно стоит на узловых: паровоз у водоразбора стравливает в осень облако пара, тучи галок ссорятся на облетевших березах, шпалы воняют креозотом, народ суетится с чайниками за кипятком, седое звездное небо висит низко над черной еще бесснежной землей… как вдруг кричат от вагона к вагону «Поехали!» — и дорожный позвоночник вытягивается издалека — вдаль, грохоча сцепными замками, чтобы снова стронуть в безвестность скопище судеб. Вот такое видение. Мне кажется, очень многие сейчас находятся в сходном дорожно-тоскливом положении перемен. Главное — не забывать, как стемнеет, придвигаться к печурке и продолжать делать свое дело.
«Пегий пес, плененный краем моря»[3]
(про главное)
Собачий пляж у Яффо. Раннее утро, почти полный штиль, солнечные блики чуть ослепляют море, и сидит у самой кромки берега старый-старый лабрадор. Большой, сутулый, склоненная голова строго обращена к горизонту. Он сидит неподвижно десять минут, двадцать… Вы когда-нибудь видели сидящую абсолютно неподвижно дольше тридцати секунд собаку?