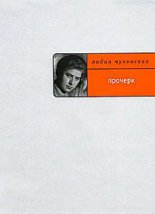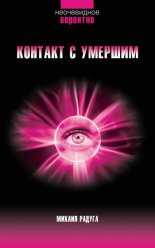Справа налево Иличевский Александр
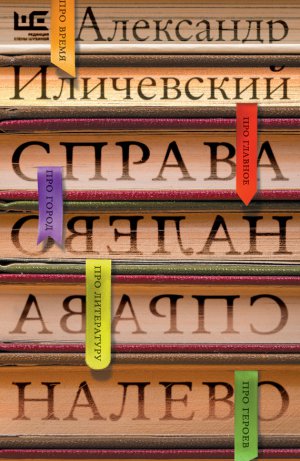
Выразительность, которой обучил русский язык Бунин, сверхъестественна — один только язык любви, любовных отношений немыслим без бунинских произведений. Мощное, полифоническое звучание его прозы — для меня начинаемое с рассказа «Господин из Сан-Франциско» — уникально, удивительная полновесная изобразительность и поэтическая интонация вместе дают ощущение музыкального произведения, а не рассказа, который на самом деле стоит многих романов.
Я довольно долго жил в Сан-Франциско, и самым моим любимым местом для прогулок был пляж China Beach. Это историческое место города, там установлена памятная гранитная доска, сообщающая, что здесь в начале XX века происходила нелегальная выгрузка китайских иммигрантов, которых с корабля привозили на шлюпках под покровом ночи, минуя таможенные службы. Отсюда их переправляли в город дельцы, которые потом наживались на дешевой рабочей силе нелегалов. Одним из них был тот самый богач, чей гроб в конце великого русского рассказа качался в мрачной океанской пучине, находясь в трюме ниже ватерлинии корабля, полного на верхних палубах света и жизни.
Я скучал по России и приезжал на Китайский пляж вечером, в полной темноте спускался по бетонным ступеням на берег. Океан, омывающий берега и Владивостока, чернел передо мной, как космос, и я бормотал наизусть: «Был он и на другую, и на третью ночь — опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Бесчисленные огненные глаза корабля были за снегом едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь и вьюгу кораблем».
Иной страх
(про главное)
Многие собаки боятся грозы.
Наверное, они принимают гром за рычание вожака.
Как хорошо, что пророк Илья — хороший хозяин.
Власть языка
(про главное)
Вчитался случайно в записи Распутина. В двух словах, из них следует, что старец имел все объяснимые шансы быть фигурой очарования для очень многих, включая царскую семью.
И это сверхъестественно страшно: главная семья огромной великой страны, обладавшая безграничной властью и влиянием, находилась не столько в зависимости от чаяний и страданий собственного народа, сколько под влиянием даже не мракобесия, а чего-то еще более чудовищного: пустоты.
Великая Империя тогда сокрушительно подпала под битву двух важнейших воинств: мрака и мистики насилия и света и просвещения свободы.
Первое воинство, языческое и суеверное, очень быстро отыгралось в реванше и осталось властвовать. Властвует и по сию пору над огромным пустынным пространством отчизны.
Петр I, великие масоны, декабристы — кто только из титанов не боролся с этой обреченностью особому пути во мраке. Но и до нынешних дней вот этот действительно неслучайный корень русского языка царствует над Россией, смешивая путь и распутицу с путами, делая будущее непроходимо неотличимым от прошлого.
Работа
(про литературу)
«Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Россию — так, как писатель только может любить ее язык. Всё должно творить в этой России и в этом русском языке». Эти слова принадлежат человеку, сформировавшему язык, благодаря которому мы существуем. Слова эти, написанные в 1822 году, глубоки и таинственны. Из них следует, в частности, огромное творческое будущее, еще предстоящее отчизне, которая и есть ее язык. Следует из них также понимание, что еще ничего не сделано: расстояние между 1905 годом и 1837-м мало, а XX век с нами разговаривал по большей части на мертвом языке бесов. В этом и предположение жить, и прибежище труда и мечты.
Стать математиком
(про героев)
Никогда не встречал ни одного одновременно богатого и расточительного человека, ибо последнее никак не коррелирует с идеей накопления. Умные потому небогатые, что за богатство принимают смысл. Это он, смысл, вызывает у них эндорфины, не цифирки на банковском счету. Его они и накапливают, в то время как на цифирки у них рефлекс ослаблен. Что есть расточительность в случае умного? Лень больше всего подходит на это звание. Вероятно, потому я и не видал еще пока ленивого умного, что если долго лениться — ум пропадет, как у Незнайки на Острове Дураков, где все от лени превращались в баранов. Лучшая иллюстрация к этому — сентенция академика Павла Сергеевича Александрова, которой он поделился в конце 1950-х годов со школьниками, принявшими участие во Всесоюзной математической олимпиаде: «Дорогие дети! Сегодня вам будут предложены сложные задачи. Почти каждая из них не по зубам любому из профессоров механико-математического факультета МГУ. А многие из вас с этими задачами успешно справятся. Но помните: это не означает, что когда-нибудь кто-нибудь из вас станет математиком».
На волю. Памяти Германа
(про главное)
В «Лапшине»[6], когда впервые появляется в кадре Русланова с зажженной берестой на полене, раздается удар колокола и над мизансценой проносятся вспугнутые звоном голуби. У Германа персонажи говорят почти одновременно, как у Муратовой, и это не диалоги, а тасуемые обрывки монологов, отчего кино Германа, благодаря еще предельной детализации и вызванной ею достоверности, роднится с литературой, с литературой хорошей, где постоянно что-то происходит: в словесности обязано преобладать действие, драма или происхождение мысли. В отличие от кино, где изображение может быть автономно с большей правомерностью: кадр можно выстроить так, что разглядывание его статики уже увлечет; абзац же или период не всякого способен заинтересовать рассматриванием. У Германа персонажи находятся в постоянной круговерти действия, как у Феллини, в круговерти перемещения, говорения — и та вспорхнувшая стайка голубей есть часть его искусной карусели, необходимое звено, обеспечивающее непрерывность ритмического действия. Стало быть, нет более нужного для литературы, изобразительности вообще, режиссера.
Совершенно непонятно, как достигается эффект неслучайности всего, что у Германа происходит в кадре. Ну, голубей, заполнивших цезуру в трескучем диалоге персонажей, я как-то могу объяснить; могу объяснить движение камеры и отчетливую произвольность слогов кадра: взгляд в «Лапшине» и в половине «Хрусталева»[7] — это взгляд мальчонки, подглядывающего за взрослыми. Случайность и откровенность — верные спутники такого взгляда, происходящего словно бы из-под стола: в «Лапшине» особенно заметна такая низкорослость объектива, стелющегося по полу слежения. Можно объяснить и истолковать то или это, можно представить, насколько титаническим был труд, положенный на то, чтобы улицы Москвы снять обледенелыми, не разъеденными до асфальта антиобледенителем, а карамельно-глянцевыми от утоптанного и укатанного снега, с сугробами по взрослое плечо, мимо которых проносятся с заносом правительственные «ЗИМы». Но вряд ли можно представить, что съемочная группа неделями ждала появления зимнего тумана на задернутом настом болотце, чтобы снять сцену, где генерал вываливается из «воронка» и пробивает кулаком снег, чтобы сунуть изнасилованную голову в студеную водицу.
Плохой звук в «Хрусталеве» Герман считал браком, я же принял его за чистую монету, потому что показалось: более выразительного приема трудно было придумать. Я провел юность в пролетарском городке на 101-м километре, где молодежь, развлекаясь, сходилась стенка на стенку, а погибших товарищей укладывала на рельсы Казанской железной дороги — и по железнодорожной насыпи бродили группы родственников, собиравших останки, ориентируясь на круживших ворон. После рабочей смены кусты и подъезды нашего поселка наполнялись в стельку упившимися у «керосинки» гегемонами, чьи жены смертельно враждовали друг с дружкой и вопили: «Я тя, лярва, посажу!» Так вот — самое главное в той массе было то, что она была немая. Ничего членораздельного, одно бормотание, бубнение, жесты, мат. И то, что у Германа приходится напрягать без толку слух, — это мне казалось точным штрихом, это вводило в оторопь предельной достоверностью.
Герман говорит нам о том, чего никто толком не понимал в начале новых времен: проблема России — уже не историческая, проблема России — антропологическая. Униженная, опущенная, уничтоженная человеческая плоть и душа, неразрешенные чеховские «Мужики», продолжающиеся «Окаянные дни», вырванное народное сердце — крестьянство, выхолощенная земля, переломанный человек с раздавленной мошонкой: вот наш материал, материал Германа, чье творчество — благодаря парадоксальному величию творца — питалось любовью: к людям его детства, к короткому увеличительному фокусу, с которым он сгущает время, насыщая его деталями, какой-нибудь отвинченной с железной кровати шишечкой.
Всегда вспоминаю Германа вот в каком контексте. Мной давно замечено, что мошенники и власть предержащие (а мошенники всегда властвуют), когда «обувают» клиента, непременно подслащают пилюлю. Вас остановили за превышение скорости? Ждите, что напоследок или в процессе обирания вам скажут что-то вроде: «Что ты хочешь, машина у тебя вон какая крутая». Или — в результате подставы на дороге: «Машина-то у тебя крепкая такая, а у меня — консерва». В этом — непреложный закон: важно задобрить жертву, чтобы она не слишком трепыхалась, — суеты и крика тогда меньше.
«На-ка, сахарок погрызи. Ничего, ничего: переживешь, переживешь», — так говорит охранник опущенному генералу медслужбы в «Хрусталеве» и кладет ему в рот кусочек рафинада, который генерал сплевывает.
И то правда:
«— Начальник, отпусти на волю.
— А на чё те воля, Сеня?»
А еще Алексей Герман был убежден, что в России пропорция между добрыми-умными и плохи-ми-глупыми всегда была более обнадеживающей, чем где-либо. Что ж? Художник обязан быть отчасти идеалистом, иначе он не сможет любить своих персонажей. А это необходимо, чтобы они вызывали у нас сострадание.
Вечная память. Еще посмотрим.
Борьба
(про литературу)
Сколько ни вчитывался в письма Чехова, никогда не умел понять, как он к кому относится — любит или не любит. Всё у Антона Павловича тонет в иронии, все чувства. Что и есть признак страшной борьбы силы воли с меланхолией. Уж на что смешной писатель Зощенко, а грустней человека не было.
Кроме хоккея
(про главное)
Мои детство и юность в своей демисезонной и зимней ипостаси прошли в подмосковном городке на 101 километре. Я играл упоенно в хоккей и наслаждался тем, что в городе обитало множество красивых и очень красивых женщин: в школе моей не было ни одной дурнушки. Впоследствии — в интернате и институте — мне часто приходилось вздыхать по былым временам и вспоминать своих соседей, супругов Баскаковых, которых я первые десять лет ни разу не видел трезвыми. В городке вообще пьянство было именно что повальным: после второй смены половина бойцов трудового фронта (Машиностроительный завод, Цементный, ЖБКИ) шла в «керосинку» и после залегала вповалку в кустах. Ближе к закату жены гегемонов отправлялись искать кормильцев. Мне было их, жен, жалко.
Супруги Баскаковы жили у нас за стенкой, за той самой, за которой спал я и слушал их битвы и нечленораздельные вопли. (Вот отчего у меня мрачная непереносимость сильно пьяных, прямо-таки звериная.) Самым духовным предметом в квартире Баскаковых был дембельский альбом хозяина, его я просматривал раз в год, на Первомай, когда происходило братание пролетариата с интеллигенцией в моем лице. (Интеллигентами у нас во дворе считались (дразнились) все, кто носил очки, а очки носил один только я. Что думали соседи о моих родителях, неизвестно, но они, родители, очков не носили.)
Итак, обычно всё начиналось после прогноза погоды, после песни «Надежда, мой компас земной», которую пела мне прохладная бетонная стена, обклеенная обоями, рисунок которых я помню много лучше Рембрандта. После «Надежды» вдруг падал и вставал шкаф. Падал и снова вставал. Затем ставилась пластинка и таборная песня «Валенки, да валенки, ой да не подшиты стареньки» раздирала мой мозг своим сталинским воем. Потом начинали летать бутылки, затем распахивалась дверь, и бутылки торпедировали лестницу. И только тогда отец шел закрывать эту лавочку. Напоследок падал пустой шкаф и снова вставал. Становилось тихо, и тогда я засыпал.
Еще Баскаковы любили выйти на лестничную клетку и проорать: «Да мы! Да мы вас, русских, двести лет под игом держали! И еще замучаем!»
А закончилось всё в одночасье. Зинка Баскакова весной, перед Пасхой, на радостях от первого солнышка полезла пьяная мыть окна и подскользнулась с пятого этажа. Летела, цеплялась за веревки бельевые на балконах, и выжила. А как вышла из больницы — завязала. Ходила чудная — трезвая, обзавелась наконец кое-каким хозяйством. Володька, муж ее, рыдал в три ручья, когда родители в Калифорнию уезжали. Так отъезд родителей оказался обильно омыт пьяными татаро-монгольскими слезами. Никто не плакал. Один Володька стоял и ревел белугой, утираясь рукавом брезентухи: «Семеныч! Куда ж ты собрался?!»
День Победы
(про главное)
Перед лицом вечности язык — единственное сокровище нации, которое, в отличие от полезных ископаемых, и возобновимо, и неисчерпаемо. Хотя язык всегда, и в случае языка русского особенно, находится в отношении «сильно на вырост» с реальностью: их, с реальностью, брак всегда на грани развода, даже когда язык создает плоть действительности и зачинает в ней будущее.
Особенно это касается высшей формы существования языка: я говорю о поэзии. В целом поэзия в сравнении с языком естественным может видеться как язык пчел, язык ангелов, растений, инопланетян и проч., но мирозданию приходится с ним считаться в первую очередь, оставляя на потом иные достижения цивилизации. Ибо язык в силу своей магической, мистической, какой угодно властности, покуда жив хотя бы один носитель этого языка, способен подточить колосс империи и отправить его в учебники истории.
Как бы и что бы там ни было, как ни повернись история — Россия, российский народ обладает чрезвычайной метафизической заслугой, Девятым мая: жертвенной победой над антихристом. Увы, антихристом двухголовым. Вторую голову XX века еще осталось добить, но как только это произойдет, расцвет неизбежен, я верю.
Тут я мог бы извиниться за пафос, но не стану.
Да, оставшийся дракон — внутренний, с внешними драконами нам всегда было проще. Но тем не менее победа будет за нами.
Основания? Прежде всего они в языке. Теперь язык как никогда в истории обладает всеми необходимыми для высшего смысла степенями свободы. И что едва ли не важней: сейчас слышно каждого.
Если вглядываться пристальней — то поэзия необъяснимо претерпевает второе десятилетие небывалого расцвета. И это обстоятельство для меня как раз и является материальным залогом медленной и, вероятно, адски трудной Победы.
Я не стану говорить о том, что дно нащупано, что есть ощущение: отныне движение возможно только вверх. Что касается глубины падения — в этом спорте рекорды ставятся без труда.
Я только хочу сказать о вере. Понятно, что все большие повороты история совершала непредсказуемо, оставляя пророчества о них, о поворотах, для заднего числа. И можно уповать на эти непредсказуемые трансформации. Но веры им никакой.
Я говорю о вере в приближение нового 9 мая, главной рифмы 9 мая 1945 года, нового Дня Победы, вонзающего в гнилую пасть XX века луч света и говорящего с миром на языке будущего — на русском языке, сбереженном и выпестованном великим отрядом поэтов, павших и здравствующих, — короткими и длинными строчками свободы и смысла.
Грамотность
(про литературу)
У Бабеля есть рассказ, где парнишка-красноармеец пишет домой письмо, и это читается как чистопробный Платонов. А вот что говорит Ногин в докладе XII съезду: «Транспортный подотдел в прошлом году был пустой комнатой, в которой ходил товарищ, не знавший своего начальства». Вероятно, нарастающая грамотность в народе позволила прорваться в язык особенным почвенным пластам, питавшим и Платонова, и тех, кто первый в своем роду обрел возможность описать в письме свою жизнь.
Про музыку
(про главное)
Моя бабушка проработала всю жизнь врачом. Хорошим врачом.
Училась она в Перми (Молотове, как она называла этот город по старой памяти), и на первом курсе медицинского института ее едва не отчислили вот за что.
Студентов привели в лабораторию, поставили полукругом у застекленной камеры, куда поместили собаку, а потом пустили туда хлор.
Первокурсники должны были стоять и записывать стадии умирания собаки.
Бабушка устроила скандал, истерику, разнесла лабораторию, чуть сама не отравилась хлором, собаку спасла, но ее решили отчислить.
Спас ее отчим — старый большевик Семен Кайдалов, бывший комиссар n-й Красной армии, освободивший Азербайджан от мусаватистского правительства и английских войск под командованием генерала Денстервилля.
Отчим спасет ее еще однажды, но это отдельная история.
Всю жизнь бабушка привечала всех окрестных собак той местности, где жила, — кормила и лечила: зашивала надорванные уши и порванные шкуры. Часто видел ее в кресле в саду, меланхолично штопающую шелковой ниткой очередную здоровенную кавказскую овчарку. Псов она обычно звала одинаково ласково: Барсик. Эти Барсики в нашем дворе не переводились, не говоря о кошках.
Любимый диагноз бабушки был «симулянтикус натураликус». Причем ставила она его безошибочно.
Однажды в Азербайджан с гастролями приехал Арам Хачатурян.
Он дирижировал оркестром на нескольких концертах в Баку и должен был дать концерт в Сумгаите, городе, находящемся в сорока километрах к северу от Баку, у основания Апшеронского полуострова.
Инструменты перевозили на ПАЗике. Музыканты и Хачатурян ехали отдельно на Икарусе.
Перед концертом Хачатурян вышел на сцену — убедиться, что правильно расставили инструменты, — и заметил странное.
Нет литавр!
А как мы помним из «Спартака», где носятся с саблями, литавры — далеко не последний инструмент в творчестве Арама Хачатуряна.
Композитор вкрадчиво спрашивает: «А где литавры?»
Ему администратор местный: «Это большой барабан?»
«Да!»
«В ПАЗик не влез, двери там такие узкие!» — и руками показывает, мол, вот такусенькие.
«!!! !!! !!!»
«Ай, дорогой, зачем так кричишь?! Подумаешь, большой барабан, большой барабан! Ничего, пускай на маленьких барабанах играют! У нас зал маленький, ему как раз маленький барабан нужен».
В общем, Хачатурян при смерти, сердечный приступ.
Привезли к нему лучшего доктора, мою бабушку.
Тут, конечно, «симулянтикус натураликус» констатировать не пришлось.
Сделала она композитору укол камфары, тот чуть оклемался и шепчет, задыхаясь: «Маленькие барабаны! Маленькие барабаны!..»
Большие вопросы
(про литературу)
Защищая «Театральный роман» от превосходства «Белой гвардии» (в самом деле полагаю «ТР» лучшим у Булгакова), подумал, что самое смешное в классической литературе обнаруживается в другом произведении: в ужасающем романе «Бесы» в середине явления Лебядкина, после реплики Варвары Петровны «Господи, что такое?», — дальше я совсем загибаюсь от смеха и не могу читать.
Парадоксальное явление — этот смех, смешное вообще у Достоевского. Смешное у него очень странное — не освобождение, не острота, а что-то, связанное с мировой глупостью. То есть и здесь масштаб его «вопросов» влияет даже на смешное. Вероятно, это ключ к тому, чтобы понять, что Достоевский — не самое истинное в экзистенциальном плане.
Что всё это в конце концов из Лебядкина, даже самое важное и страшное.
Фрегат «Иной»
(про пространство)
У меня есть приятель — физик, проживший в Японии семь лет с феноменальным успехом — получив профессорскую должность и выучив японский. Как вдруг он разрывает контракт с университетом и внезапно возвращается в Москву. Вскоре сидим мы с ним у костра на рыбалке, он грустный, но после ухи разговорился, и я спрашиваю:
— Серега, а что ты так спикировал из Японии? Приключилось что?
— Ничего вообще, — отвечает. — Не поверишь. Всё было хорошо. Просто я понял внезапно, что еще неделя — и я повешусь.
— Отчего?
— Ты пробовал жить на Марсе?
Больше я вопросов не задавал и вместе со случаем Сергея всегда вспоминал путешествие Гончарова в Японию на фрегате «Паллада», как раз в те времена, когда еще хранилась под страхом смерти японская герметичность, японский особый путь. А еще я вспоминаю Нанкин, и что встреченные мною в жизни китайцы при упоминании японцев в любом контексте становились нелюдимы и молчаливы.
Потом Сергей подался в Массачусетс и пока не возвращался.
Между тем некоторым Япония представляется единственным на планете разумно устроенным государством. При том что глубинные знания о ней всегда поражают воображение.
Есть разная чувствительность к Иному. В Чили мне было уютно только у океана, а в Аргентине то хорошо и непонятно, то понятно и мерзко. Ни там, ни там я бы не стал жить дольше месяца ни за какие коврижки. А вот на юге Франции и в Париже, пожалуй, осень бы я провел. О чем это говорит? Только о том, что у каждого свой травелог.
Однако в случае Японии мы имеем культурный миф о ней, колеблющийся от обожествления и слез восторга до суицидальных припадков из отчаяния, вызванного чужеродностью и отверженностью.
Вывод в том, что с этим нужно быть начеку и, возможно, при случае разбираться.
Ибо взять Акутагаву. Взять Куросаву. Абсолютно европейские художники. Они стремились передать и внять европейской цивилизации. Они не показатель, увы, они на нашей ясной стороне.
Равновесие
(про главное)
«Если вы обеспокоены смыслом жизни, вы больны»: Фрейд здесь и прав, и не прав, но главное — глубок. Прав, потому что так он нащупывает границы клинической нормы. Глубок, потому что цивилизация, по сути, как раз и основывается на этой неравновесной ситуации, а не на одном только стремлении к выживанию. Практически всё искусство, вся продуктивность сознания происходит из поиска экзистенциального равновесия. Об этом важно (и нужно) думать.
Вот — молитва Франца Кафки: «Прими меня в свои объятья, в них — глубина, прими меня в глубину, не хочешь сейчас — пусть позже. Возьми меня, возьми меня — сплетение глупости и боли».
Брак ночи и солнца
(про литературу)
Однажды в детстве я ослеп. Пошел в поликлинику подбирать очки, и мне капнули в глаза белладонны. На балах в XIX веке полезно было сиять расширенными зрачками — для привлекательности и высокомерия, не замечая ничего вблизи. Но тогда меня никто не предупредил, что расслабленная глазная мышца отпустит на волю хрусталик. Муть подобралась ко мне на полдороге. Всё вокруг стало терять очертания, расплываться, и вместе с сумерками наступил конец света. А началось с того, что я подошел к торговым рядам, где продавали первые нарциссы, и решил купить цветы маме. Как вдруг не смог разглядеть в ладони — не то двадцать копеек, не то пятнадцать. Я попросил старушку помочь, и она сочувственно заключила: «Ты, что ль, слепенький, малец?»
Домой я вернулся, шаря руками по фасадам, и с тех пор всё, что для меня связано со слепотой, окутано бедным акварельным запахом нарциссов — свежим ароматом вешних вод, открывших солнечным лучам сырую землю.
Пророческая слепота есть брак ночи и солнца. Тиресий, ослепнув, получил от Афины в утешение пророческий дар. Слепой пророк воспринимает действительность подобно тому, как лунатик одновременно видит и не видит пространство ночи. Ожерелье мертвых пчел соединяет прозрачную глубину ночи с солнцем, незримо наполняющим ночь отраженным от луны светом.
Ночь вообще — темное дело. Ночи помнятся лучше, чем дни. Да и тех не много. Помню несколько. Одной я шел по камням вдоль кромки крымского берега, залитого штормом. Грохотали волны в рифах, и сверкающие молнии выхватывали белоснежные рвы бурунов. Труп дельфина — выбеленный морем — попался тогда под ноги…
Лирика — всегда ночь. Ночь — всегда отпущенная телесностью душа. Ночью не говорят в полный голос. Ибо слышней всего шёпот, негромкий голос… Другой раз мне пришлось ночевать неделю на берегу Черного моря в укромной лагуне диаметром в полкилометра, в обе стороны от которой амфитеатром располагался заповедник с реликтовым можжевельником. Горный массив здесь почти отвесно срывался в море, образуя бухточки-кельи, доступ в которые осуществлялся только с воды, через скальные нагромождения, или сверху, при наличии верхолазного снаряжения. В те времена егеря пускали в эти бухточки пожить за небольшую плату. Так что многие ниши у самого моря были заселены невидимками, в шторм находиться в них было бессонно, и страшно, и мокро, а в штиль — вы имели дело с лунным светом и шелестом волны, мерцающей по коже морскими светляками. И тогда важно было перебраться в саму лагуну. Дышала долгая волна, лился конус лунной дорожки, и все голоса, любой шепот и вздох доносились из бухточек со всего многокилометрового периметра заповедника в акустический фокус, располагавшийся под невысокой скалой, под которой я и усаживался.
Незримые, неопознанные, навсегда безымянные голоса шептали, спорили, признавались, рассказывали. Бесплотность этих голосов сжимала сердце. В этом эффект лирической поэзии: степень сокровенности сообщения прямо пропорциональна дистанции, на которую оно рассчитано. Отосланные на бесконечность без потери звука стихи — это голоса над водой, шепчущие в ухо Бога, молящие об искуплении.
Задача поэта, если таковая вообще имеется, состоит именно в искуплении: вывести если не мир, то возлюбленную из ада, память — из небытия, сознание — из животного, рассвет — из тьмы. Без ночи дня не бывает. Без смерти — жизни.
Ночь — воистину темное дело. Ночью живые сущности теряют свою плотность и приближаются к призракам. В полнолуние ландшафт залит отраженным светом. Обесцвеченные предметы похожи на знаки самих себя: точно так же обескровленные призраки суть лишь тающие следы некогда живых существ. Когда-то, на заре мифологического человечества, ангелы собрались у престола Всевышнего, чтобы просить Его разрешить их затруднение. До сих пор величие человека, созданного по образу и подобию Бога, распространялось так широко, что ангелы не были способны отличить его от Господа. И они просили Его каким-то образом вмешаться. И тогда Всевышний наделил человека сном.
Во сне человек жив лишь на одну десятую. Вот почему, проснувшись, полагается омыть руки — ритуал снимает с нас нечистоту, полученную во время пребывания части нашего существа в небытии.
В то же время сон — точнее, пограничная область яви и сна — есть самая творческая часть нашего сознания. В состоянии первосонья мозг способен создавать миры и заглядывать в будущее…
Что же мы знаем о лунатизме? Как лунатик видит мир, каково его зрение? Ясно, что сон — это мир в той же степени буквальный, сколь и условный. Не потому ли ангелы предпочитают являться именно во сне — чтобы их не смогли переспросить, чтобы понимали их твердо, без околичностей, которые недопустимы по самой природе сна. У лунатика глаза открыты — и сон его совпадает с реальностью. Сон лунатика, совпадая с миром, вытесняет его, становится прозрачным — так как неотличим от своей идеи — реальности. Да, если вещь своим попаданьем взрывает собственную идею — она становится прозрачной. Вот почему так желанны незримые сущности. Вот почему фантастично само стекло, а также — ветер-бес, прозрачные пчёлы и девы с лунным лоном.
Хор
(про героев)
Коллективные фотографии — головы и плечи веером в несколько рядов — напоминают строй хора, поставленного так, чтобы звук шел поверх каждого следующего ряда в фокус параболы, по которой их выстроил дирижер. Коллективные фотографии — амфитеатр тел, гибнущих в пучине времени, всё верно: так и полагается в подлинной трагедии, пожирающей хор.
Хвала почте
(про главное)
Всё детство в семье слушали трансатлантические «голоса» по переделанному отцом для приема совсем коротких волн приемнику ВЭФ. Меня больше интересовал джаз, чем правда о режиме, ибо и так было ясно, что кругом ложь, хоть и святая и праведная; в детали ее мне было недосуг вдаваться, почему-то я думал, что если настанет война, любая, любой мощности и ужаса, — это будет война с самими собой, и страх и ужас перед ней, которые, конечно, посещали иногда по ночам, относились больше не к завязшему в зубах политинформации врагу, а к карающей неизбежности. Ибо никак пропаганде не удавалось представить США кошмаром, и атомная война просто представлялась самоподрывом. Вот почему возраст особенно легко брал свое, и я бороздил неустанно диапазоны волн в поисках «49 минут джаза».
Мне нравилось вслушиваться в эфирные завывания, в метельную череду «свистящих атмосфериков», вызванных трудностями прохождения радиоволн через многокилометровую толщу воздуха над просторами океана, — мне казалось, я вслушиваюсь в ту же самую стихию, которую пересекал на лодке под звездами, рассыпанными над тысячами километров водной пустоши, великий сумасшедший Аллен Бомбар, в полдень сквозь солнечный бред выжимавший себе в рот макрель, чтобы несколькими каплями рыбьего сока отдалить смерть от жажды.
Среди этого атмосферного сумбура и почти археологической чуткости пальцев, погруженных в тонкость настройки, мне попадались таинственные периоды тишины, в которые вслушивался, — и наконец, женский голос, особенной радийной безличности — не казенности, но именно объективирующей отстраненности от произносимого, — начинал диктовать кому-то числа. Почему-то ясно было, что тут я попадал в приключенческий мир шпионов и разведчиков, что этот зашифрованный узенький канал широковещательной связи обращен в какой-то иной подводный мир с непонятной принадлежностью. Позже, когда изобрели схему кодирования с открытым ключом и начался шум вокруг создателя PGP, я вспомнил эту отвлеченную диктовку. Вспоминаю ее и сейчас, вместе с ФИДО и другими частными допотопными вещаниями, — когда понимаю, насколько меня утомили легковоспламеняющиеся фекалии широких каналов вещания. Еще пока нет желания вновь прибегнуть к бумажной почте, но есть понимание, что она вновь становится актуальна, и не только потому, что надежней PGP, а потому, что дисциплина и, следовательно, есть одна из вечных вех искусства.
Рокот странствий
(про пространство)
Сижу под вентилятором с таким плывущим самолетным жужжанием, что заслушаешься — и вдруг вздрогнешь, очнувшись от чтения или письма: то «наши» летят, то «мессеры», то «рама» на высоченном эшелоне проплывает; то кажется — сам летишь на Ил-18 в далеком детстве — но не в Баку, а куда-то так далеко, что еле способен сообразить: полярная авиация, все собаки съедены, на бурой стене дворца…
Леонард Коэн — футурист
(про героев)
Вероятно, самая приемлемая палитра, с помощью которой можно описать эпоху, — это голоса. С «трагическим тенором» (А. Блоком, по версии Ахматовой) мы знакомы. Скажем, барочные времена — это бельканто Карло Броски, это голоса (гипотетические) персонажей Доницетти, Перселла и т. д. Барочная эпоха вообще, благодаря футуризму, — всегда под рукой: барокко, мне кажется, и есть первая, но совсем не робкая попытка футуризма, то есть совершенно авангардное явление, предлагавшее иметь дело не с уже ставшим человеком в его собственном, уже свершившемся времени, а с некой воображаемой человеко-формой, еще только должной быть обретенной; кажется, метафора была решительно разработана именно барокко; а куда еще ведет скачком по барочным тропическим дебрям метафора, как не в будущее?
Так вот, каждой эпохе — голос.
Голос и время удивительным образом насыщают друг друга. Их взаимодействие совсем иное, чем метаболизм времени и других искусств. И особенность эта должна многое сообщать нам о человеке.
Сколько ни называй имен художников, писателей и т. д. — время появится неохотно и размыто.
А стоит сказать — Утесов, Вертинский, — как тут же время обрушится на вас, неся, как половодье, всё, что кануло.
Стоит сказать: Джордж Майкл; Фредди Меркьюри; Ленной; Маккартни; Пресли…
А что за эпоха встает перед нами, когда мы слышим суровый и отстраненный, грустный и мужественный голос Коэна? Неясно. С этим нужно разбираться. Но то, что этот голос — плоть некой эпохи — не календарных дат, в которые он, этот голос, звучал, а голос некоего не наставшего еще пока, огромного своим смыслом времени, — совершенно точно. Настолько голос этот значителен и настолько не привязан к той эпохе, в которой он формально слышен.
Мне кажется, голос Коэна — голос эпохи, с одной стороны, нам еще предстоящей. И в этом смысле Коэн — плоть от плоти, и авангардист, и футурист, и барочная жемчужина, выпадающая из ряда ему предложенных в соседство. Но такой эпохи, что всегда до нее рукой подать, как до собственной кожи. Именно поэтому кажется, что Коэн звучит не в пространстве, а в сознании.
Я имею в виду эпоху Экклезиаста, обретшего так счастливо и неизбежно голос Леонарда Коэна. Только Экклезиаст мог бы звучать в такой отрешенной глубине, где в кромешных потемках все-таки обретается свет.
Психология
(про литературу)
«Диалогизм», или «софистика веры» у Достоевского — тупик, энергия которого обесточивает жизнь Закона, как опухоль, оттягивает все жизненные соки организма в злокачественность роста. В свете Закона Ставрогина следовало бы предать суду, но старец Тихон, скованный зиянием исповедальности, напротив, «психологией» своей попустил — умножил зло.
Экзистенциальный вес встречи Ставрогина и Тихона отрицательный. (Тут интереснее обратить внимание, отчего язык дозволяет произрастать столь чудовищным тупикам.) Еще потому всё это (Достоевский, Ставрогин, Тихон) чушь собачья, что никакого смысла этой сценой не было произведено, что этот «колодец» в преисподнюю не был вывернут наизнанку в небо «минаретом» (это делает, например, Бабель в «Конармии»).
Нет, ну как же вся эта сцена лихо мерзка — и этот служка, и толстый, тупой, кланяющийся монах, перехвативший Ставрогина, который отчего-то еще был узнан в этом монастыре, где бывал только в детстве… «Психология» Ставрогина — сценарные мотивы закоренелого убийцы, и она, эта «психология», пуста, как выеденное яйцо. И пустоте этой старец Тихон только потакает: создается вообще впечатление, что основное население монастырей — личности, пересекающие туда и обратно границу между поступком и небытием, — а Тихон не что иное, как отражение Ставрогина.
Что же следовало бы сделать, чтобы смысл был обретен? Проще не бывает: Тихон должен был броситься на Ставрогина и связать его, чтобы передать околоточному.
Бродский верно говорил, что при всей зацикленности Достоевского на добре, не было и у зла более сильного адвоката.
Единая теория поля
(про главное)
Почему геном — не речь? В начале было слово, и слово это было — «геном». Слово постепенно становится сверхъобъектом современной науки. Не исключено, что лингвистика и философия языка в будущем станут началом новой великой теории языка, которая воспримет в себя и объединит все фундаментальные взаимодействия. Эта гипотеза только с виду выглядит фантастической. Мысль о теории языка как о долгожданной единой теории поля — то есть о теории, объединяющей все фундаментальные взаимодействия, — достаточно трезвая. Она, эта теория языка, должна наконец объединить живую и неживую материи, поместить их в структуру взаимного дополнения. Цепочка может замыкаться так, например. Законы природы — это грамматика, согласно которой происходят события физического мира. Сейчас (не только благодаря возникновению квантовых вычислений и работам Пенроуза) постепенно становится ясно, что законы Вселенной сильно зависят от законов разума. Кроме того, возможность разума предъявлять теории, описывающие и предсказывающие события реального мира, и есть доказательство существования Всевышнего, который сотворил наш разум по образу и подобию своему. Таким образом, происходит состыковка штудий и Витгенштейна, и Геделя с законами физического мира. И вот если сюда добавить наш новый объект-слово — «геном-речь», то цепочка замыкается, потому что «законы речи», «грамматика генома» определяются физико-химическими процессами. Грамматика генома определяется на уровне фундаментальных взаимодействий, на основе которых идут внутриклеточные процессы. И в то же время геном устроен согласно законам речи. Вот она, смычка. Я давно думал, что Витгенштейн с его гипотетическими элементами — атомарными фактами относительно объектов мира, вроде бы совершенно не относящимися к действительности, — пытается сформулировать что-то справедливое. И теперь, кажется, становится ясно, что он оперирует внутри генома-речи. Хотя бы условно. Вот там, среди аминокислот, где-то и находятся элементарные объекты мира-речи. В общем, нам надо еще крепко подумать и получше всё это сформулировать. Ибо это не слишком бессмысленно. Тщетные попытки достичь полного описания законов природы обязаны были подключить наконец законы живого, которое красиво исчерпывается своей квинтэссенцией — геномом-речью.
ПОЯСНЕНИЕ к вышеизложенному.
0. Смысл написанного в заглавии.
1. Когда-то давно, на одном из семинаров в Институте теоретической физики им. Ландау в Черноголовке, нам объяснили, что поиски единой теории поля можно переформулировать как поиск единой грамматики, согласно которой выстраиваются вдоль оси мирового времени события физического мира.
2. Году в 2008-м я разговаривал с Татьяной Бонч-Осмоловской и Сергеем Бирюковым о комбинаторной поэзии и заметил, что ее, этой поэзии, методы можно применить к осознанию того, что происходит в геноме. В ответ они мне радостно заявили, что такие исследования уже происходят.
3. Дальше остается вспомнить усилия по поиску единой грамматики всех языков, усилия Витгенштейна, Геделя, а также Пенроуза, считающего, что наши знания о Вселенной вплотную придвинулись к области, где устройство разума начинает соприкасаться с устройством Вселенной.
4. Иосифу Бродскому принадлежит загадочная, но профетическая, на мой взгляд, сентенция: «Язык — это растворенное неживое». Алексей Цвелик в своей книге «Жизнь в невозможном мире» показывает, что устройство живой клетки впрямую и уникальным образом зависит от параметров квантовой физики. Всё это более или менее общие места современного знания.
Отсюда совсем немного до объединения живого и неживого в одну исследовательскую проблему. И Язык — главный претендент на роль этого объединителя.
Обо всех
(про литературу)
Формулу Буденного о Бабеле можно приложить к любой истине в русской культуре: «Фабула его [Бабеля] очерков, уснащенных обильно впечатлениями эротоманствующего автора, — это бред сумасшедшего еврея». Роскошно, да? «Бред сумасшедшего еврея» — это вообще чуть ли не обо всех.
Певец
(про героев)
В детстве у меня была знакомая собака — доберман, который жил в семье друга моего отца. Псина была агрессивна и любила петь. Она цапала мою сестру за подол и приводила к древнему фортепиано, на крышке и на боках которого были нацарапаны свастики. Инструмент не подлежал настройке, но его не выбрасывали, ибо был вывезен из Таганрога, где во время оккупации на нем играли немецкие солдаты.
Доберман требовал аккомпанемента. Сестра играла — что угодно, хоть из «Школы беглости», а псина выла.
Мне приходилось на острове в дельте Волги слышать близкий волчий вой. На него позвоночник отзывался так, будто по кости проводили ножом. Вой добермана был вполне сравним с волчьим. Но был отвратительней. В нем чувствовалась искусность.
Однажды моя сестра осталась наедине с доберманом. Часа два, пока не было хозяев, ей пришлось непрерывно играть. Стоило только прерваться, как доберман набрасывался на свою музыкальную жертву. Хозяева псины застали ее всю в слезах. Она рыдала и играла. А доберман пел.
Теперь осталось сказать, почему я это вспомнил. Всё дело в том, как звали этого пса. Звали его — Иран. «Иран, тубо!», «Иран, фу!» — вот что я слышал, когда мы все вместе ходили в парк на прогулку.
Диктат архаики
(про время)
Если вдуматься, то придется признать, что почти все цивилизационные конфликты и напряженности, битвы и препирательства, и прочее, — это всё абсолютно архаическое действо. Когда-то евреи доказывали египтянам, что их Бог сильней египетских богов, а потом бились с ханаанцами, объясняя им, что боги Ханаана слабей их еврейского Бога, который, как сообщают ученые, Сам был не чужд ханаанейского пантеона и даже когда-то имел жену из него — Ашеру. В целом история — и новейшая в том числе — большей частью состоит из таких едва ли не первобытных (ну, в лучшем случае — достойных бронзового века) борений одних воителей с другими под эгидой тех или других божественных сущностей. Крестоносцы рубились с Саладдином под тем же соусом. Гитлер со своим божеством нацизма первым проваливается в абсолютную первобытность. Сталин — за ним.
Понимание этого обстоятельства ведет прямой дорогой к атеизму или к признанию отчаянного варварства, с которым народы и этносы меряются друг с другом богами, доказывая остальным, что их, остальных, боги слабы или вовсе не существуют. На этом фоне разговор об экуменистической направленности развития цивилизации выглядит смешным. Особенно бесполезны утверждения типа: та или иная конфессия есть одна из тропинок на склоне горы, чья вершина едина для всех поднявшихся. Это мудрая ложь во спасение. Ничего подобного сознание верующих не содержит.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь в ужасающей архаичности человеческого существа. На протяжении двадцати тысяч лет человек мало изменился не только телесно, но и ментально. Наследие бронзового века — с адреналиновой интоксикацией и языческой прикрепленностью к бытию — всё так же пронизывает плоть и дух человечества. Всё это было бы менее досадно, если бы вооружение по-прежнему оставалось на уровне копий и булыжников для пращи, и в клубах взрывов самолетов или водородных бомб не восставал бы случайный безобразный лик — мнимого или реального бога, всё равно. Нынешние боги по-прежнему, как и в бронзовом веке, обитают на абсолютно не достижимых друг для друга вершинах, но хуже всего — не достижимых и для человека.
Бронзовый век мучает и обворовывает человечество много тысячелетий. И единственная допустимая война в моем представлении есть война с бронзовым веком в себе.
Булгаков во Владикавказе
(про литературу)
Моя бабушка в 1921 году жила во Владикавказе.
В 1980 году она мне рассказала, что по Владикавказу тогда ходил всех поразивший слух о жуткой истории, приключившейся в Москве. Что будто бы «солидному мужчине предсказали, что ему отрежет голову девушка, и он попал под трамвай с вагоновожатой». Я вообразил себе тогда Олоферна и Юдифь-комсомолку.
Тогда же во Владикавказе жил и Булгаков.
Семья моей бабушки с ним знакома не была, это точно. Возможно, просто посещали театр, где ставилась его пьеса, и только.
Вопрос в том, как строятся сюжетные ходы.
Что появилось раньше: слух об этой истории или выдумка Булгакова, пустившая по Владикавказу мифическое эхо?
2017
(про главное)
По работе прочитал недавно много В. И. Ленина. Что сказать? Надругательство над душой и мозгом, высшей степени тухлятина, адский ад и огненные фекалии, которые семьдесят лет впаривали в качестве священных письмен. Сталина вообще невозможно читать из-за его тавтологичной косности, которой он, уверен я, прямо-таки насиловал слушателей и читателей, нарочито впаривая всякую ахинею побессмысленней, включая языкознание. Но в сравнении с Лениным он ангел почти, ибо Ленин прямо-таки черт какой-то — и жирный тролль, и помесь агитатора-сказочника с Джеком Потрошителем, и диктатор самого гадкого демагогического пошиба. Луначарский вспоминал, что первое впечатление от Ленина — сухой сморчок, а когда заговорил, стал расхаживать и «нагнетать мысль в звенья мировой политической цепи» — так сразу преобразился; и тогда Горький зарыдал от умиления, и косолапый мужик очаровался. Как-то так выразился Луначарский.
Вероятно, выражение народное «пи*дит, как Троцкий» возникло недаром: такая риторика непрерывного ада-говорения впечатляла рабоче-крестьянскую неграмотную массу. Приближенная к народному слабоумию демагогия, уверен, сногсшибательно убеждала не только потому, что царь перед народом не распинался. Что нужно невежде, чтобы ощутить себя ступенькой выше? Ничего, кроме симуляции интеллектуальной деятельности. Заставьте его поверить в то, что он «подумал мысль» о жизни, здоровье, будущем (о хлебе, свободе), и он ваш навеки. Вот, по сути, смысл «ленинской харизмы».
При этом очевидно, что вот эта «ленинская риторика» лжи оборотничества и насилия бессмысленности настолько въелась в язык, что уже второй век не вытравить ее, а напротив — временами, как сейчас, она укрепляется в теле языка, подобно раздувшемуся с кулак клещу.
Новые языки
(про литературу)
Все привыкли посмеиваться над Фрейдом. Почти всё, что он преподносил как открытие, оказалось на поверку сомнительным или неверным. Мне кажется, что ухмыляться на его счет, конечно, можно, но в то же время не стоит забывать, что заслуга Фрейда — не в новых истинах, а в обретении и даровании человечеству языка, с помощью которого можно было попытаться наконец-то выразить ранее недоступное членораздельному мышлению. Ошибочно думать, что главная задача цивилизации — возобладать над истиной. Это слишком мелко. Настоящая проблема состоит в обретении нового языка, способного выпростать из ничто и представить во всей противоречивой полноте ранее недоступные смыслы и поставить их на службу человеческой свободе.
Метафора имперскости
(про пространство)
Недавно, в гостях просматривая в полстены The Song Remains the Same, снова потрясенный спустя лет двадцать этим делом, в шутку сказал-поду-мал, что в 1960-х необъяснимый, фантастический, массированный, неистовый исход в мир рока из Британии ознаменовал лавинообразное замещение имперского синдрома. Мир был снова завоеван. И очень счастливо на этот раз. Начать с того хотя бы, что музыка, а не сталь и не трубопрокатные станы, не тяжелая промышленность и не оружие, стояла на первой строке национального экспорта в течение десятилетия. Есть ли еще примеры в истории? При том что исторический арсенал рок-н-ролла был позаимствован из чужих земель.
О выразительности
(про литературу)
Почти любой хороший роман обладает своей мифологией выразительности, призванной воплотить личный опыт. В случае опыта метафизического без мифологии вообще не обойтись. Гностики самый простой пример: они на каждом шагу только этим и занимались — сочинительством, зачастую аляповатым. Искусство — это следующий шаг в этом направлении, уровнем или несколькими выше. Кафка, например. Очень яркий представитель такого типа писателей. Кафка мне видится писателем абсолютно библейского склада: если воображать себе некую личность, способную написать (записать) Апокалипсис или главу о строительстве Храма (Замка), — мне всегда приходит в голову Кафка. Еще Хармс — из этой когорты. И Беккет. И Камю (без «Чумы»). Джойс? Ну, наверное, да. Только его часть потом пришлось бы сильно редактировать путем вычеркивания. А вот Музиль остался бы без особых вмешательств. И, конечно, Бабель: без него новейший корпус предназначенных высшему уровню канонизации текстов — просто немыслим. И Каннети. И Платонов.
Закваска