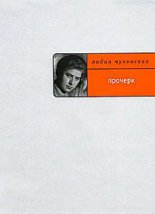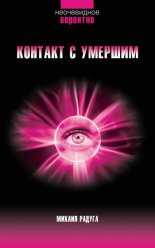Справа налево Иличевский Александр
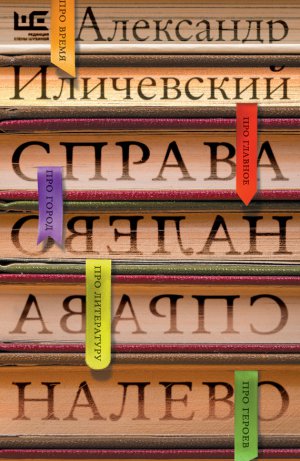
(про главное)
Самое страшное изобретение XX века — не водородная бомба, а молох идеологий, пожирающий своих прихожан. Если вдуматься, это удивительное явление, подлежащее современному анализу с привлечением не только мышления, но и теории информации. Кажется, только зелоты, крестоносцы и ассасины — и то не вполне — способны хоть как-то сравниться с этой кровожадной беспредметностью XX века. Несущественность каким-то не вполне постижимым образом в нашу эпоху овладела миром. «Бесы» ФМД, в общем-то, как раз об этом — о том, как идеологический вирус способен пожрать интеллект и душу — и вместе с ними человеческие тела. Это явление сродни действию именно что вселения беса — безумия, в том его представлении, когда выход разума из строя описывается поражением именно зароненным информационным вирусоподобным диктатом. Ложь — как при шизофрении — берет под уздцы сознание. Разумеется, всё это могло происходить и раньше, но в меньших масштабах: когда информация передается с трудом (типа режим ФИДО) — тогда вероятность заражения мала. Сейчас же информация разогнана до широкой полосы, и не у каждого встроен надежный антивирус. Всё это кое-что объясняет, точнее, объясняет повальность, но не повышенную уязвимость. XX век создал демографией не только народные массы, каким-то образом ложь забродила кроваво через край на странной, трудно выявляемой закваске. Что она есть?
Мост
(про время)
Летом 1993 года мне пришлось сопровождать одну милую особу в ее родной городок на берегу Днестра. Приехали мы в Бельцы, где на вокзальной площади я впервые в жизни увидел, как продают вино на разлив из бочки. Винцо оказалось кислятиной, но забористым, и с некоторым воодушевлением мы прошлись по этому городку, в котором было полно цыган; таких цветастых и огнеопасных толп я нигде ни до, ни после не видал.
Дальше мы отправились на «дизеле» — четыре вагона с выбитыми окнами и шумной ватагой торговок — в Рыбницу. Время было военное, но веселое, шальное такое время. В полночь мы оказались на берегу Днестра перед преградой. Нам нужно было перебраться на другой берег, но вышла заминка. Мост, по которому мы должны были идти, оказался заминированным. На блокпосту я объяснил проблему, и за мзду бойцы нас пропустили. Объяснили, что идти нужно по краешку, налегая на перила, потому что посередине за спиралями колючей проволоки стоят мины. Мы пошли. Не успели мы сделать десяти шагов, как с другого конца вспыхнул прожектор и раздалась автоматная очередь. Если честно, мне никогда не нравился звук выстрелов из АКМ. Он похож на треск переломленной в нескольких местах сухой палки. Ничего общего с тем, что можно услышать в кино. Менее звучно, но тем более страшно.
Приднестровские бойцы стали орать: «Не стреляй нах*й! Пацан с девкой домой идут!» Прожектор зашевелился и нащупал нас. Мы ослепли и взялись за руки. К нам навстречу вышли два солдата и повели нас под конвоем. По пути они вдруг что-то заметили в черной речной пропасти — лодку или плот — и стали стрелять. Белые фонтанчики вспыхнули на поверхности воды и погасли.
На другом блокпосту тоже пришлось заплатить мзду. Наконец, мы поднялись по высоченному склону в симпатичный городок, утонувший в садах и светившийся в лунном свете стенами мазанок.
Через пару дней мы отправились в обратный путь, но уже через Кишинев. На городской площади встретили толпу, скандировавший: «Чемодан! Вокзал! Россия!».
На перроне, поджидая подачу поезда, мы обнимались и обнимали теплые голые стволы платанов — и впервые тогда услышали из вокзальных репродукторов один из хитов той эпохи: All That She Wants.
Это я всё к тому, что где-то по ту сторону моста в Приднестровье в эти дни пили водку с привкусом ацетона Гиркин с Бородаем, — герои нынешнего безвременья, остановившегося еще тогда — двадцать один год тому назад.
Такие шальные юбилеи.
Хвост
(про время)
Церковь Иоанна Предтечи на Пресне была заложена в XVII веке. Я часто бывал с ней рядом, но впервые оказался внутри, когда отпевали Хвостенко. Было промозгло на улице и холодно в церкви. Хвостенко лежал в небольшом гробу с лентой на лбу, истощенный и одинокий.
Я проходил мимо этой церкви, направляясь на Рочдельскую или Трехгорку. На пороге ее часто видел среди нищих одного слепого, пронзительно напоминавшего Иосифа Бродского. Иногда я останавливался неподалеку, чтобы посмотреть, как он кивает в благодарность за опущенную в шапку монетку. Перед тем как уйти, я тоже давал слепому денежку, он вежливо благодарил. Это был своеобразный ритуал. Я был заворожен этими действиями: подойти к бледному, в черных круглых очках Поэту, побыть с ним несколько секунд рядом… Однажды я положил ему в шапку монету и понял, почему так на меня действует вот эта слепота, схожесть, но главное — глухое звяканье мелочи в шапке: «Я был в Риме. Был залит светом / так, как только может мечтать обломок. / На сетчатке моей золотой пятак. / Хватит на всю длину потемок».
Шибболет
(про главное)
Есть такое библейское выражение: шибболет. Это сегрегационный термин, относящийся к древним временам, когда в ситуации смешанной жизни и противостояния требовалось определить пароль «свой-чужой». Ненависть к чужаку — едва ли не самое архаичное человеческое чувство, доставшееся нам непосредственно из зоологии. Патриархальные законы гостеприимства словно бы распространяются на пришельцев с дальних рубежей. Но чем ближе чужой, тем страшней противостояние. «Сосед хорош, когда забор хорош», — писал Роберт Фрост. До новейших времен оставалось только горевать по этому поводу. Новое время вроде бы создает все возможности, чтобы границы стали прозрачными. Но вот с доброй волей всё та же мрачная нехватка.
«…И перехватили Галаадитяне переправу чрез Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: „позвольте мне переправиться“, то жители Галаадские говорили ему: не Ефремлянин ли ты? Он говорил: нет. Они говорили ему „скажи: шибболет“, а он говорил: „сибболет“, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две тысячи…»
(Суд. 12:5–6).
Во время армянских погромов в Сумгаите в феврале 1989 года погромщики останавливали автобусы, выводили оттуда людей и так определяли — кто из них армянин, а кто нет: они требовали, чтобы каждый произнес слово «фундук». В армянской фонетике якобы нет чистого звука «ф», а «фундук» армянин произнесет как «пундук».
С тех пор я не ем ни лещины, ни нацистского фундука.
ОСЯЗАНИЕ
Поверхность
(про главное)
У детей шаг меньше, и потому их мир огромен. Что в малом возрасте казалось непреодолимым пешком за руку с отцом, теперь поражает краткостью в три шага. Дети только начинают изучать мир, и поверхности, текстуры им интереснее того, что находится вдали. Пейзаж не интересней забора, стены, кубиков, мячей, травы, цветов, с которых так увлекательно обрывать лепестки. Я помню, как меня поражал каменный забор, обмазанный цементным раствором, в который были замешаны ракушки — небольшие острые ракушки каспийского берега, по ним на пляже было трудно ходить. В песке отыскивались костяные пластинки белуг, когда-то выброшенных штормом. Но самой интересной поверхностью была стена дома культуры, к ней я подходил вплотную, касался подбородком и смотрел вверх — в небо, и плотность вертикали вызывала сладкое головокружение: казалось, можно медленно, понемногу проползти вверх, в самое небо.
Печка Голикова
(про героев)
В походе в качестве печки эффективно ведро с вырезанным дном, вырезанным же проемом для закладки щепок, а ручку распрямляем, режем пополам и крестом ставим, чтобы чайник держался и не гасил пламя. Необычайно удобное изобретение, ставшее мне известным благодаря Александру Павловичу Голикову, человеку, памяти которого посвящен роман «Ай-Петри». Будучи физтехом 1967 года выпуска, дружившим по науке с нобелиатом Клаусом фон Клитцингом (квантовый эффект Холла), АП преподнес мне Восточный Крым на блюдечке: он знал о ВК всё — каждое растение, каждый камень, каждую тропку Это он показал мне, как искать после дождя обломки амфор и пифосов на дороге еще хазарских времен (IX века точно) из Отуз в Козы, которой ездил и Грибоедов, это он направил меня в замок Ди Гуаско; как распознавать дорогу в темноте, как ориентироваться по лисьему помету на местности, — все основные принципы походной жизни были отточены им до предела. На его стоянке висел гамак, смастеренный из рыбацкой сети, был вырыт погребок, а чайник на том самом ведре вскипал минуты за четыре, при помощи только нескольких веточек, с которыми он управлялся, орудуя длинными хирургическими щипцами. Любознательность и кругозор его не имели равных. АП научил меня после шторма бежать на берег и собирать сердолики. АП лечил меня раствором толченого угля, добытого из вынутой из костра головешки. «Печка Голикова» — так мы с товарищами называем ведро с выбитым дном и подобные ему конструкции, сделанные, например, из сушилок для ножей и вилок (купить в Ikea). Вечная память.
В море и на суше
(про литературу)
Ученые-дельфинологи рассказывают, что очень немногие дельфины из стаи идут на контакт с человеком, буквально единицы, а то и вовсе таких не сыскать. А те, что склоняются к общению, оказываются изгоями; их и так недолюбливали, а тут совсем начинают гнать и преследовать. Не по той же ли причине отвержены поэты и пророки?
Трудные слова
(про главное)
Году в 1989-м вьетнамские студенты повадились кучками фарцевать в Шереметьево-2. Менты с них ничего взять не умели, поскольку все разговоры с ними заканчивались бессмысленным стайным щебетанием, после чего вьетнамцы рассыпались, как воробьи от кошки.
Тогда менты решили их просто не пускать в зал вылета.
Поставили постовых на входе.
Но вьетнамца пуля не остановит. Они, все одинаково маленькие и щуплые, собирались по кучкам и раз за разом принимались осаждать то один вход, то другой.
Оружием у них выступала справедливость: ведь в аэропорт может войти любой гражданин, правда? Ведь они могут провожать, встречать, улетать сами.
Менты пытались истребовать у них билеты как пропуск, но вьетнамцы уходили в несознанку и снова начинали щебетать и разбегаться, один, другой, глядишь, и прорвался.
Тогда менты выработали особый метод.
Надо сказать, когда вьетнамцы подходили ко входу, они делегировали впереди себя смельчака, который знал по-русски важные слова: «право», «можно», «летать», «самолет», «пройти». Смельчак произносил эти слова в произвольной последовательности и в ответ на недоумение мента снова начинал щебетать, а хор подхватывал.
Но тут мент больше не произносил ни слова, а молча давал вьетнамцу пощечину.
И всё.
Достаточно было сделать это только один раз, как вся группка вьетнамцев отшвыривалась на эстакаду, где они снова принимались совещаться и выдвигать в смельчаки более, на их свежий взгляд, достойного кандидата.
Вот эта сценка, повторявшаяся раз за разом, — вьетнамцы щебечут, мент бьет, вьетнамцы отлетают — время от времени всплывает в памяти, особенно когда я пытаюсь понять, на каком языке российская власть общается с теми, кто с ней не согласен. И обратно, когда думаю, на каком языке те, кто не согласен с властью, пытается ей оппонировать.
Левант
(про время)
В субботу пляжи Тель-Авива представляют собой парад семейных и дружеских отношений. Сонмы разбегающихся детей, отцы, навьюченные младенцами и толкающие близнецовые коляски; на песке, на газонах и беговой дорожке — лица и тела, сочетающие страстность и целомудренность, привольные компании на шезлонгах и за столиками ресторанов, обезумевшие от счастья собаки, рассекающие бирюзовую муть прибоя, и стаи серферов, упивающихся сегодняшней метровой волной; олимпийского сложения татуированные десантники и летчики со своими грудастыми и рослыми подругами, достающими из походных холодильников пиво; и снова страстность и левантийская нега, облизанная еще не раскаленным майским бризом. Витальность во взглядах, жестах, интонациях. Пространный веер женских типажей: от припухлости тонкокожих белобрысых до бронзы узкоскулых — но непременно широкобедрых: широкие бедра точеных силуэтов царят на береговой линии от устья Аяркона до маяка в Яффо — ив этом главная нота способности к жизни, творимой желанием и плодоношеньем.
Климат и смысл
(про главное)
Холод, мороз чаще становится причиной смерти, чем жара. Хотя бы поэтому он ближе ко злу, к адскому Коциту. Проницательный Данте, тогдашняя мировая культура вообще еще пребывала в неведении о возможности жизни в областях, где борьба с морозом отнимает большую часть суток. Смысл рождается только за счет избытка свободного времени. В холодных же областях, порабощенных борьбой за выживание, рождается не смысл, а власть — насилие, благодаря которому можно переложить заботу о тепле для себя на других. Смысл, цивилизация вообще — продукт милостивого климата и тепла. И, кажется, ад для Данте имел все-таки отчетливую географическую привязку — к области неведения, к неизвестному благодаря своей бессмысленности Северу.
Столбы
(про литературу)
Мой отец много что может рассказать о жизни в России. Например, он как-то обмолвился мне — ребенку: «Запомни: советская армия — это тюрьма». Сам он служил в войсках связи три года, застал охоту ПВО на Пауэрса в Красноводске (говорит, шухер был адский), сорвал себе на всю жизнь спину неподъемными работами и чуть не помер от перитонита в Каракумах.
Однажды я его спросил:
— А что тебе особенно запомнилось? Что ты прежде всего вспоминаешь при слове «Россия»?
И услышал такое:
— Однажды в Ставрополье ледяная буря налепила столько снега и льда на линии электропередачи, что столбы повалились один за другим, как домино. И вот представь: степь, буран, мгла, ничего не видать, ветер валит с ног, а я тяну изо всех сил кабель и машу, машу рукой, показываю незрячему трактористу, куда дальше продвигаться — поднимать следующий столб. И так шесть километров.
— «Капитанская дочка», — сказал я. — Ты побывал вожатым Гринева.
Папа горько улыбнулся.
Москва изнутри
(про город)
В конце девяностых я бывал в этих местах каждый день, так как работал в конце Большого Трехсвятительского переулка, и каждый день мы с моим другом-коллегой много времени проводили на улице и шатались туда-сюда по Трехсвятительским и Хохлову переулку; мы были молоды, а молодость — это всегда избыток любопытства, и так мы потихоньку местностью этой и увлеклись. А потом друг добыл программу, с помощью которой можно было склеивать панорамы. Так мы стали лазить по местным крышам и делать фотосъемки, которые потом выкладывали на корпоративный форум. Там, на форуме, началось серьезное изучение истории района, с подключением библиотек и т. д.
Нет более возвышенной точки в центре Москвы, и, наверное, от этого здесь так хорошо. Ночью идешь в тишине и застываешь от того, насколько хорошо просто смотреть, как светит фонарь и блестят капельки на краю карниза.
Вся эта местность связана с восстанием левых эсеров, так называемых поповцев, в 1918 году — и свой рассказ я попробую приложить именно к этим событиям.
Казармы построены в конце XVIII века на пожертвования, сильно пострадали в пожаре 1812 года. В июле 1918 года левые эсеры восстали, и это совпало с убийством немецкого посла, графа Мирбаха, которого взорвал удивительный человек Яков Блюмкин: эсер и чекист, профессиональная деятельность которого заключалась в том, чтобы постоянно получать адреналин (Блюмкин — авантюрная фигура, и она просится в любой роман, посвященный тем временам). Убив посла, раненый Блюмкин прятался именно в Покровских казармах, у левых эсеров, которые заседали там под руководством Попова. После этого Попов сообщил, что «мы продажное правительство Ленина хотим сбросить», и заявил, что всё пространство от Чистых прудов до Старой площади станет левоэсерской республикой. На них стали наступать большевики, но эсеры захватили почтамт и типографию и заняли артиллерийскую оборону в замечательном месте, о котором я расскажу чуть позже.
Судя по старым фотографиям, когда-то на этом месте бульвара не было — ни деревьев, ничего. Вместо бульвара на фотографии можно увидеть булыжники и охранные посты. То есть на месте большей части Покровского бульвара был плац, что логично.
В XIX веке в этих местах была невероятно дорогая земля. Видимо, она здесь в то время считалась престижной; рядом — центр города и Курский вокзал, с которого можно ездить на дачи. Этот симпатичный домик, в котором сейчас находится какая-то муниципальная организация, принадлежал сестре Морозова, и, перед тем как здесь отстроиться, она купила эту землю за 300 тысяч рублей золотом — сумасшедшие, дикие по тем временам деньги.
Есть такая замечательная картина художника Маковского, которая называется «Ночлежный дом», и на ней изображено именно это здание — здесь была одна из ляпинских трущоб. На картине видно, как на тротуаре Большого Трехсвятительского сидит огромное количество бомжей, ждущих еды или ночлега. А на переднем плане картины предположительно изображен художник Саврасов, который, как известно, был горьким пьяницей. Его «Грачи прилетели» существуют в количестве семи или восьми штук — Саврасову, когда он выходил из запоя, нужны были деньги, и он рисовал свои известные работы на продажу. В целом этот дом похож на тот, что нарисован на картине, — естественно, что-то надстроили, но всё же похож.
Всё в этих местах удивительно рифмуется. Если мы возьмем вышеупомянутую картину Маковского, то увидим на ней Саврасова. Саврасов, как известно, был учителем Левитана. А Левитан прожил в ста метрах от ночлежки Маковского, во флигеле морозовских владений, одиннадцать лет. Когда Левитан поссорился с Чеховым, сюда приехала Щепкина-Куперник и попросила Левитана поехать к писателю в Мелихово мириться; отсюда они сели в пролетку и поехали на Курский вокзал. Тогда же не было метро, и мириться ездили на извозчиках и поездах. Здесь Левитан и умер, и отсюда траурная процессия несла его тело на Новодевичье. Модерновый флигель этот когда-то был очень симпатичным; жаль, что сейчас эта мемориальная жемчужина Москвы находится в таком печальном виде.
Когда с Покровских казарм началось восстание, поповцы заявили: «Если правительство не выполнит все наши требования, мы с помощью артиллерии сравняем Кремль с землей». И большевики всерьез испугались — Дзержинский приехал на переговоры. Куда приехал — неизвестно, возможно, в Покровские казармы, а возможно, и в морозов-ский особняк, куда переместился эсеровский штаб. Когда Дзержинский к ним прибыл, они, не будь дураками, арестовали его, взяли в заложники. А содержали его как раз в подвале морозовского дома.
После того как восстание было жестоко подавлено латышскими стрелками, дом стал жилым — я когда-то разговаривал с людьми, жившими в одной из коммунальных полуподвальных квартир, здесь размещавшихся в советское время. Потом в доме был детский садик, и знаменитый фильм «Усатый нянь» снимался именно здесь. Тогда вокруг не было никакого можжевельника, мрамора, пластика и всего, что мы видим сейчас, — всё было очень скромно и естественно.
Потом на моих глазах произошел захват особняка неизвестными людьми. Что там сейчас — непонятно, но я, честно говоря, склонен все московские особняки, превращенные в офисы без опознавательных знаков, соотносить с какими-то неясными провластными делами.
Здесь поповцы поставили пушку и принялись из нее обстреливать Кремль. Замечательная высота — с точки зрения и военного, и туриста: на фотографиях XIX века, снятых с этого места, хорошо видно, что из сада открывался просторный вид на Москву, на Кремль.
Вместе с захватом особняка произошел и захват прекрасного садика. Просто в какой-то момент взяли и неожиданно закрыли доступ в одну из самых красивых точек Москвы, не менее сакральную, чем Воробьевы горы. Это топографический бриллиант Москвы, под которым, уничтожив огромное количество культурного строя, построили подземную стоянку. Сад был закрыт для посещения, и только недавно его вновь частично открыли. В сравнении со старым садиком здесь всё кардинально изменилось, хорошо хоть деревья не спилили. А раньше было прекрасно — вечерком садишься в верхней части сада и любуешься мягким закатным светом над Москвой. Лучший способ медитации.
Институт этот — «ящик», расположенный на большой территории, — законсервировал под собой большое количество старых построек. Если эту территорию отдать на откуп археологам, тут обнаружится огромное количество древностей.
В одной из построек института находился офис, в котором я работал. Там были замечательные полуподвалы с мощнейшими сводчатыми стенами — выглядело всё это, с одной стороны, загадочно, а с другой — выкрашено белым, и особой мрачности там не было. Но тем не менее чувствовалось: что-то здесь не то. И однажды я вышел из офиса покурить и познакомился с рабочим, делавшим ремонт в соседнем помещении. Мы с ним разговорились об этих стенах, о том, что здесь было раньше… И в какой-то момент он мне говорит: «Я тебе сейчас покажу, что здесь было раньше». Принес в курилку ведро со штукатуркой, зачерпнул ее рукой, растер. «Видишь, — говорит, — пули расплющенные. Вот что здесь было». В этих подвалах расстреливали людей.
На углу Большого Трехсвятительского находилось здание[14] «Русского вестника», в котором были опубликованы многие произведения русской классической литературы. И когда сюда за гонораром или гранками заходил Лев Николаевич Толстой (а платили ему больше, чем Достоевскому), он, случалось, после отправлялся посидеть в Морозовском садике. В его дневнике есть наблюдения за бездомными из Ляпинской ночлежки.
На заре перестройки в подвале этой церкви располагалось некое издательство, которое стало едва ли не центром всей новой литературы, появлявшейся в то время. И в это место наряду со знаменитым магазином «19 октября» на Большой Полянке многие приходили обзавестись Бердяевым, Бахтиным и другой прогрессивной литературой.
Слева от церкви по Старосадскому переулку — старейшая постройка Исторической библиотеки[16], которая стоит на этом месте столько лет, что в ней когда-то в течение нескольких месяцев сидел Пушкин, писавший «Историю Пугачева». Документы ему выдавали по чрезвычайному повелению царя, потому что всё, что касалось пугачевского восстания, было строжайше засекречено.
Был заложен Еленой Глинской в честь рождения своего сына Ивана Грозного. Это первая московская женская тюрьма, в которой сидела княжна Тараканова, знакомая нам всем по картине Флавицкого из школьной литературной хрестоматии: мыши бегут, камеру заливает водой, — у юношей моего года рождения эта картина навсегда осталась в памяти, ибо грудь страдающей княжны была основательно приоткрыта. Кроме Таракановой, в монастыре содержалась Салтычиха, а при советской власти находилась часть «Союзмультфильма», спортзалы, что не так уж и важно. Важно то, что Ивановский монастырь в те времена грозно нависал над местностью, и вообще горка, на которой он стоит, — это культовая точка. В самых первых кадрах «Покровских ворот» именно мимо этого монастыря проезжает мотоциклист. Эту сцену потом процитировал Балабанов в фильме «Брат-2» — в этих же окрестностях проезжает джип с пулеметом, который, въехав в один из дворов с Солянки, начинает там палить.
Здесь был открытый вход в знаменитые соляные подвалы, ни одного замка, и мы, здесь, естественно, всё тогда облазили. Подходишь — и таинственно мрачный запах подземелья сразу бьет в нос. В катакомбах можно было провести несколько часов, ты туда с фонариком спускаешься — ив какой-то момент у тебя создается полное ощущение, что пространство, в котором ты находишься, по размерам превосходит футбольное поле, — с этого и начинаются подземные московские путешествия героя в романе «Матисс».[18]
Жара и холод
(про главное)
Покупая собачий корм, люблю постоять у клеток с попугаями-неразлучниками и разными хомяка-ми-кроликами; и недавно узнал, что шиншилла очень плохо переносит жару, и для нее следует покупать две специальные мраморные плитки, которые летом хранятся в холодильнике и попеременно подкладываются зверю, чтобы он, белка, сидел на них и остужался.
И вспомнил я, как однажды, путешествуя по Памиру, попал в холодную ночевку без палатки. Вообще, если нечем согреться в походе, нужно разжечь хороший костер, а когда прогорит, разгрести золу и лечь на прогретую землю. Ни о каком большом костре на высоте три с половиной километра не могло быть и речи, и я заночевал на огромном плоском валуне, согретом за день солнцем, — и не продрог.
Хвала Свифту
(про литературу)
Тридцать лет назад я никак не мог понять, почему мне интересней читать о приключениях Гулливера среди великанов, чем о его страданиях среди лилипутов. И отчего приключения Карика и Вали[19], уменьшившихся ростом и оседлавших стрекозу, для меня увлекательней ремесла Левши. Тогда я свалил всё на свою близорукость, решил, что подзорная труба интересней лупы, и точка. Дальше я стал заниматься наукой, которая научила меня оперировать качественными методами, понимать, что сложность Большого соотносима только со сложностью Малого; научила кое-что разуметь про масштабы и перемещаться по их линейке — от планковской длины до размеров Вселенной, от гравитационного эффекта, вызванного массой электрона, до числа всех частиц в мироздании. Но мне всё равно оставалось интересней в стране великанов. При прочих равных я выбирал для себя вглядывание в трудно представимое Большее — а не в трудно осязаемое Меньшее. Иными словами, кружева и завитушки мне никогда не были близки, в отличие от силуэта. С одной стороны, можно списать это на bias — склонность. С другой, когда я оказался на Манхэттене впервые, меня захлестнул такой властный, иррациональный восторг, не остывающий, что у меня снова нет понимания, почему восприятие искусства масштаба так жестко увязано с мировоззрением.
Равновесие
(про главное)
Самое страшное колючее растение в Иудейской пустыне — каперс: сцапает — не отпустит. На крутом склоне это потеря равновесия от боли и внезапного перераспределения нагрузки, особенно с серьезным рюкзаком.
Каперс — совершенно библейское растение, как и другой завсегдатай пустынного прибрежья Мертвого моря — купина неопалимая, странный аляповатый кустарник: его листья насыщены эфирными маслами и в тихую погоду, если поднести спичку, во весь рост вспыхивают факелом, но купина остается стоять невредимой.
Каперс — символ прекрасной тленности: он расцветает после заката и цветет ровно одну ночь. Долгий белый цветок бледнеет под луной, и звук крылышек вонзившего в него хоботок бражника напоминает звук перелистываемой на сгибе книги.
«Устрашишься высот, а на дороге — ужасы; зацветет миндаль, отяжелеет кузнечик, осыплется каперс. Человек уходит в свой вечный дом, и плакальщики по улице кружатся. Пока еще не порвался серебряный шнур, и не раскололась золотая чаша, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем, а тогда то, что от пыли земной, вернется в землю, дух же вернется к Богу, который его дал».
(Эккл. 12:5–7)[20]
«Страна глухих»
(про город)
Однажды меня обворовали. Теплой ночью лета 1993 года мы вышли из какого-то шалмана на набережную Москвы-реки и стали ловить такси. Такси не очень-то ловилось, и ко мне подошли двое, которые стали мычать и что-то показывать руками. Через две секунды я сообразил, что передо мной глухонемые, и несколько опешил: мне стало их жаль, это раз, и я еще расстроился из-за того, что не мог понять, что им нужно, какая от меня требуется помощь. В эти две секунды один из них — лысый и крепкий и, как мне показалось, в настоящем котелке и с тростью, несколько раз ударил меня легонько пальцами по груди. Тогда я сказал им, что очень рад был бы помочь, но ничего не понимаю, что им нужно. Этот с тростью замотал головой, мол, всё в порядке; сию секунду подкатила машина, но я не успел подойти — в нее сели глухонемые, которых тут же и след простыл.
Машину свою мы наконец поймали, приехали куда надо, и тут выяснилось, что у меня нет бумажника, лежавшего во внутреннем кармане пиджака, по которому стучал пальцами тот дядя с тростью. Так что за такси пришлось расплачиваться моей спутнице.
Каково же было мое удивление и чуть ли не радость, когда в отличном, моем любимом фильме «Страна глухих», с потрясающей Диной Корзун и прекрасной Чулпан Хаматовой, я увидел то самое плавучее казино у набережной, из которого вышли обобравшие меня глухонемые, и мне сразу стало не жалко тех денег. Я в самом деле считаю, что «Страна глухих» наилучшим образом воссоздает канувшую Москву тех времен, и довольно здорово, что то самое казино из фильма, где заправлял клан глухонемых, пусть и кражей, нашло отражение в реальной жизни. Сейчас вообще девяностые годы кажутся каким-то не очень настоящим временем из-за своей баснословности. Впрочем, времена перемен никогда не отражались в зеркале.
Фукусима
(про героев)
Старик-рыбак рассказывает: «Как только пришло предупреждение о цунами, все жители нашего городка побросали лодки у причалов, схватили детей и помчались на вершины холмов. А я завел дизель и на полном ходу пошел в открытое море. Скоро я увидел, как горизонт застилает гора воды, и она продолжает расти. Лодка стала карабкаться вверх, и не было конца и краю этой волне. Я увидел, как ее гребень начинает рушиться, всё кругом стало белым. Я закрыл глаза и сказал своей лодке: „Мы вместе с тобой работали сорок два года. Вместе и погибнем“. Но скоро я снова увидел небо, а внизу пропасть, и я летел в эту пропасть. Впервые в жизни в море у меня закружилась голова. Но моя лодка осталась на плаву, а все другие волны были менее страшными».
Потом старик вернулся к своему причалу, от которого остались одни сваи, и стал помогать перевозить людей.
О невозможности Толстого
(про литературу)
Я давно задумывался о «невозможности Толстого». Не только трудно поверить, что род людской оказался способен породить такого писателя. Здесь всё серьезней.
Ибо литература есть вера слова. В литературе содержится зерно феномена веры. Логос возник не из веры. А для веры.
Сущность, порожденная словами, порой достоверней близлежащей реальности. Толстой это понимал лучше, чем кто-либо. Вот почему он стремился переписать Евангелие. Я думаю, оно не устраивало его как литературный механизм: он подспудно считал, что степень порождаемого Евангелием доверия могла быть и выше.
Но очевидно существование верхней границы веры. Есть такая вера, которая хуже безверия. В качестве верхнего ограничителя, запускающего парадоксальную реакцию сознания, Василий Гроссман устами своего героя приводит мнение Толстого о его собственном творчестве. Точно приводит или нет — я не знаю, такой фразы я у автора «Холстомера» не встречал, но она обязана ему принадлежать, и, думаю, Гроссман передает смысл без искажений. Штрум, главный герой «Жизни и судьбы», говорит: «Толстой считал свои гениальные творения пустой игрой».
Это тоже относится к категории невозможности Толстого, ибо глубоким истинам могут противостоять только другие глубокие истины. Порождаемый этим противостоянием смысл Нильс Бор назвал «отношением дополнительности».
У меня есть знакомая — школьный учитель русской литературы, совершенный подвижник русского языка. Навсегда запомнил ее рассказ о том, как она впервые приехала в Ясную Поляну. Она рассказывала: когда экскурсия закончилась, она, погуляв вместе со всеми по усадьбе, шла к воротам по аллее — и вдруг увидела вверху над деревьями огромную, до облаков, фигуру Толстого. И очень испугалась. Великим страхом испугалась.
Когда я оказался в комнате, где была написана «Анна Каренина», я поразился именно ее размеру. Поразился не простоте и обыкновенности — я вполне мог представить себе Толстого похожим на смертных, — однако я не мог представить себе, что «Анна Каренина» могла бы поместиться в этой комнате с невысокими потолками. Это, на первый взгляд, забавное ощущение заставляет задуматься глубже.
Ибо литература есть производство свободы смысла. Точка выбора должна порождаться внутри романа, как точка росы. Литература утоляет человека подлинностью его существования. Литература не обязана учить, она обязана обучать свободе. Экзистенциальный опыт осуществления выбора — награда за чтение.
Вот откуда мощное ощущение свободы в «Анне Карениной». Роман, питаемый верой читателя, подобно океанским волнам, широко и высоко дышит пространством человеческого существования. Роман подобен искусственным легким мира. Роман в конце концов говорит о мире больше, чем мир способен сам рассказать — кому бы то ни было.
Хорошо, когда роман больше, чем способ познания. Когда романный мир, порожденный словом и верой, оказывается истиной, то это говорит о том, что разум, созданный по образу и подобию Творца, естественным способом воспроизводит и заменяет мироздание, согласно обратной функции подобия; то, что разум способен создать роман, и есть доказательство существования Всевышнего.
Следующим шагом остается только рассудить, что искусство должно заниматься повышением ранга существенности реальности — при взаимодействии с реальностью слова; однако длина этого шага может оказаться больше жизни.
Главный урок Толстого для человеческого сознания состоит в том, что этот писатель мало того что стал плотью русского языка — он еще и обучил его той выразительности, с помощью которой можно выразить невозможное. Возможность невозможного — свободы, понимания, любви, возможность самого человека как такового, сути сердца — дорогого стоит.
Я бы сравнил отношения Толстого и читателя с отношениями хозяина и работника в одноименном рассказе. Трудно поверить в то, что выражает этот рассказ: хозяин, замерзая вместе с работником во время метели, спасает работника ценой своей жизни. Трудно настолько, насколько вообще трудно читать. И в этом как раз и суть работы Толстого как писателя: он накрывает собой читателя посреди снежной бури и позволяет небытию добраться до себя раньше. Он сберегает читателя. И это лучшее, что может произойти. С работником. И с хозяином.
Слева направо
(про главное)
Как-то зашел разговор о том, что словарь левых богаче словаря правых, что левые обычно интеллигентней и просвещенней, что левые готовы бесконечно объяснять свою позицию, а вот правые рубят с плеча. Неизбежно в принципе задуматься, как происходит такое деление по складу, что формирует реакции человека, преобразующиеся с помощью смыслов в убеждения. Левые, которых я знаю, — они обычно пацифисты, закосившие от армии, или не закосившие, но еле перетерпевшие; я не виню их ни в чем, ибо каждому свое, к тому же есть левые и среди боевых генералов. Я просто задумался, как лично я сам стал скорее правым, чем левым, точнее, тем, кто внимательно слушает и тех, и этих, но правым, что ли, ухом по большей части; что в моей жизни привело меня к такому ракурсу?
Некогда мне было двенадцать лет и в подмосковном Воскресенске я всерьез занимался хоккеем: команда «Химик» готовила себе кадры в ДЮСШ. И был в нашей секции некто Гусев, такой крупный второгодник, привыкший всех шпынять, прижимать, прессинговать, распускать руки и вообще доставать. Никто ему особо не перечил: рука у парня была тяжелая, костяшки на кулаках сбиты. Меня он выбрал в качестве мишени и давил регулярно года два, дразня при этом «очкариком» и «интеллигентом». И чем лучше у меня получался хоккей, тем сильней он меня мучил. Пока всё не закончилось в одночасье. Тренер свалил в курилку, и Гусев в очередной раз сбил меня подножкой, я растянулся на льду — и тут что-то со мной произошло. Я поднялся с головой, наполненной звенящей тишиной и спокойствием. Я поправил краги и развернулся накатом к стоявшему у борта моему притеснителю. Не буду описывать подробности, скажу только, что я сломал об Гусева клюшку. Ему было не очень больно — щитки, шлем, — но, наверное, в выражении моего лица было нечто такое, что его заставило остаток школы вести себя со мной тише воды, ниже травы. Никогда больше он меня не задевал. Вот и всё. Так я стал скорее правым. С тех пор меня никто не убедит в том, что с варварами (скотоводами, люмпенами) возможен разговор с помощью потакания и толстовства.
Устойчивость
(про главное)
Ложь и сила — мера настоящего.
Надежней всего работают те системы, что включают в себя вероятность функционального сбоя. Если конструкция не способна качнуться, прогнуться, отклониться — она ломается. Если человек не умеет проигрывать, единственный проигрыш станет для него окончательным. Мир, построенный на лжи и силе, не допускает сбоев. Стоит в нем один раз сказать правду или дать слабину, как мир этот тут же окажется раздавлен своими обломками. Все утопии — в каком-то смысле Содом, и наоборот. Ибо и те, и другие построены на неприятии погрешности, на идеализме. Что может быть идеалистичней города, в котором запрещено давать милостыню?
Иногда это называется судьбой
(про пространство)
Случается, сон оканчивается событием, происшедшим в реальности, в точке пробуждения, и его ретроспектива оборачивается чистой мнимостью: все события сна выстраиваются в последовательность только для того, чтобы обусловить будущее. Топологически эту раздвоенность точки пробуждения (и ее причинно-следственную обособленность) можно проиллюстрировать листом Мебиуса, односторонней поверхностью, перетекающей в самое себя.
Граница яви и сна, отражающая эту парадоксальную расслоенность, как раз и есть лист Мебиуса. И вообще: время книги (жизни) понимается превратно. В рассказе всё строится как во сне — с той самой обратной ретроспекцией, всё нацелено на то, чтобы обусловить точку пробуждения, аномальную точку рождения смысла. Причем точка эта вовсе не обязана принадлежать множеству повествования.
В самой жизни достаточно элементов нелинейности. Есть в ней события, получающие осмысление, ergo существенность, лишь время спустя. Иногда это называется судьбой, и это тоже принцип ретроспективного сна. Но самое интересное — нетривиальное, замаскированное ложной уместностью западание событий из будущего в прошлое. Необычайно увлекательно их расследовать. Например, способна присниться далекая, позабытая прошлая жизнь, которая во сне оказывается не только реальней настоящего, но и способной, даже призывающей заменить будущее собой. В этом и состоит суть трагедии.
Слова теории
(про литературу)
В 1995 году я удивлялся: зачем это в MIT создали лабораторию, изучающую вязко-упругие свойства кончиков человеческих пальцев. Когда спустя десятилетие появились touch-screens, я, наконец, понял, зачем. Двадцать два года назад академик Лев Петрович Горьков, ученик Ландау, наставлял нас, студентов: «Дети! Учите физику твердого тела. Вам нужно будет зарабатывать на хлеб». А мы пожимали плечами — мол, полупроводник изобретен, микросхемы работают, квантовый эффект Холла, вроде, тоже, вот и вся физика твердого тела, куда дальше? Займемся-ка мы лучше поэтикой — теорией поля.
Но насколько же был прав академик. Вся проблематика физики твердого тела, все те красивые и, казалось бы, неприкладные задачи, что разбирались на семинарах и т. д., — всё это вошло в фундамент современной цивилизации, в ее технологическое ядро, квинтэссенцию ее технического воплощения, и конца и краю пока не видно этой библейского масштаба конструкции.
Ибо почти весь современный мир создан с помощью букв, чисел и речений (коммуникаций). С помощью слова — в широком смысле. И «слов» физики твердого тела в том числе, ибо теория, модель мало чем отличается от хорошего текста, изменяющего мир, изменяющего человека. Числа — это тоже слова (но особенные). И мы видим, как материальный мир является продуктом неких «речений», донесенных до человека, и понятых им текстов. Это вполне теологическая ситуация. Уподобляясь Творцу, человек с помощью текста и коммуникаций создает материальный мир. И наука, обеспечивающая создание средств производства, необходимых для развития цивилизации, есть прекрасный пример этого словесного со-творчества. «Бог видит нашими глазами» — совсем не метафора.
Чистый лист
(про главное)
Однажды я пришел в один из ныне уже почивших магазинов «Буква», что на Никитском. Нашел нужную книгу, подхожу к кассе, и, пока длится очередь, я рассматриваю книжки. Среди прочего замечаю обстоятельно сверстанную обложку: «Секс после сорока». А мне тогда было лет тридцать пять, и я уже начал замечать, что мироощущение мое становится всё меньше похоже на то, что было в мои двадцать девять. И я, с некоторой украдкой, открываю этот «Секс после сорока». И вижу… Пустую страницу. С определенным испугом и разочарованием перелистываю — снова пустая страница, и еще, и еще. Вся книжка — пустая! Я замер, пораженный предчувствием.
Подходит моя очередь. Взываю к юности в лице кассирши: «Скажите, это брак?» — и перелистываю табулу расу секса после сорока. А юность отвечает: «Это для дневника. Записывать мысли и ощущения».
«Если только они возникнут», — добавляю я и откладываю табулу обратно.
Оба два
(про литературу)
Зощенко — единственный писатель, фразы которого хранятся памятью с той бережностью, с которой хранят хрустящие купюры или новенькие монеты. Ну, может, и не единственный, есть еще Платонов и Бабель, и последнему это «хрустящее» или «чеканное» сравнение подходит даже больше.
Фразы Зощенко — это, скорее… речевая графика, абсолютно точная, характерная, изящная и дерзкая, — как рисунки Пикассо.
Ну, вот взять хотя бы: «Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков».
Что здесь такого, что заставляет ни за что не забыть и при одном только воспоминании начать улыбаться?
Я-то знаю, я вот про это «некто такой» могу долго объяснять.
Или: «Они оба-два приезжие были». Или: «Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало». (Конечно, чересчур хватало: «Другой раз даже выпить было некогда».)
Та же история: всё это — неразменный запас. И ясность с ним лишь в том, что это уже не литература. Это уже самый что ни на есть Язык.
Климат
(про героев)
Грета Гарбо — любимая актриса моей мамы. Она почему-то любила вспоминать, что у Гарбо нога сорокового размера. А Бродский говорил: «Венеция — это Грета Гарбо в ванной». А еще Гарбо в фильме «Ninotchka», где она играет советского дипломатического работника — строгую Нину Якушеву, которая влюбляется в Париже в графа, — говорит мечтательно, глядя в распахнутое в весну окно: «We have ideal, but they have a climate». Похоже, это парафраз из Чехова: «Нам ваша философия не подходит. У нас климат суровый».
Ялта
(про литературу)
Мне кажется, Степа Лиходеев оказался в Ялте благодаря рассказу Зощенко о ялтинском землетрясении 1927 года. В этом рассказе некий сапожник перед выходными, приняв на грудь литр или полтора и поколбасившись для порядку по улице (вот тогда уже употреблялся этот прекрасный глагол), упал на дорожке в саду, не дойдя до своей мастерской. Пока спал, вокруг всё растряслось и рухнуло — эпицентр был под морским дном напротив ялтинской бухты. Очнулся он утром и видит: вместо его мастерской — груда камней. Выходит на улицу — весь город порушен. А пьяному с похмелья что? Пьяный с похмелья, как Веничка говорил, испытывает вселенскую скорбь: суть «Петушков», да и любой пронзительной лирики, — в осознании героем себя как нерва мироздания. «Всё на свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян»; в общем, покаянное такое с утра время. И вот берет на себя сапожник вину за всё про всё и идет по дороге к Гурзуфу, рвет на себе волосы, бьет себя в грудь: что ж я натворил! какой город разрушил! С тех пор в рот — ни капли. Это так Зощенко социальный заказ по борьбе с пьянством выполнял.
Ну, Степа Лиходеев ничего не рушил, но тоже был чересчур с похмелья и десантировался в Ялту подобно сапожнику: с таким же коротким и феерическим замыканием сознания. По крайней мере, это объясняет, почему Ялта, а не Пицунда или Сухум.
Чужая
(про город)
У некоторых поговорок — при полной ясности смысла — почти полная неясность происхождения. «Устал как собака» — откуда это про собаку? Оказывается, раньше я никогда не видел уставших собак. Напротив, домашние собаки, как правило, страдают недостатком подвижности и на прогулке ведут себя весело. А вот вчера я видел бездомную собаку — вся в колтунах и лишаях, она бежала по тротуару понуро, поджав хвост, не обращая на действительность никакого внимания, как иная женщина за пятьдесят после работы с авоськами. Нетрудно представить, сколько такая одиночка пробегает в день — от помойки к помойке, кусаемая и гонимая другими псами. Стайные — другое дело, стайным проще, ибо у них своя территория, свои сучки, свой вожак, свои кормушки, свой хозяин-голод.
Вхождение в круг
(про главное)
Когда я приехал шестнадцати лет от роду в Долгопрудный поступать в МФТИ, то перво-наперво был отправлен в Административный корпус — сдавать аттестат и писать заявление о приеме. Это сейчас в Долгопрудном асфальт, а раньше, когда Физтех еще только был организован, никакого асфальта не было, и со станции профессора и студенты добирались по колено в грязи. А перед входом в аудиторию стаскивали в рядок калоши. Ландау очень расстраивался, когда у него тибрили калоши, ибо никак не мог после лекции выйти из аудитории первым — его всегда задерживали вопросами, а нелюбознательные студенты тем временем разбирали гору калош — кому что достанется. И вот в конце одной из лекций Ландау за три минуты до звонка скомкал тему и громогласно объявил: «А теперь внимание. Все сидят на месте еще две минуты. И попробуйте только пошевелиться!» После чего вышел, выбрал пару самых лучших калош, и был таков.
А еще раньше, до войны, в угловом доме того же Институтского переулка жили работники и пилоты знаменитого «Дирижаблестроя», начавшего работу в Долгопрудном в 1931 году. Пять лет «Дирижаблестроем» руководил капитан знаменитой «Италии» — Умберто Нобиле, экспедицию которого, потерпевшую крушение, в 1928 году отправился искать Амундсен, его компаньон и соперник, погибший в этой спасательной операции. О работниках «Дирижаблестроя» писал Бабель — в сценарии, по которому так и не был снят фильм (у Бабеля вообще с кино не складывалось, пытался он работать и с Эйзенштейном, но это — как коса об камень). Из сценария Бабеля известно, что готовые дирижабли в Долгопрудном швартовали к ветвям деревьев. Представляете город, усаженный деревьями с дирижаблями, привязанными к верхушкам?
Всего этого я пока не знал, подходя к Административному корпусу, как раз утопавшему в густых кронах высоченных тополей. У крыльца его я впервые в жизни встретил надпись на асфальте. Сейчас модно писать что-нибудь на асфальте, а тогда это было из ряда вон выходящее зрелище. И мне приятно сознавать, что именно на асфальте, именно в Долгопрудном я прочел впервые строчку из Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Надпись эта из года в год потом обновлялась и, кажется, существует и до сих пор. А если нет, то я бы ее восстановил. Ибо более полезного назидания для юности я еще не встречал.
На краю
(про героев)
Из рассказов Алексея Парщикова. Учился он тогда в Академии сельского хозяйства в Киеве. Какая академия, такая и практика. Поля, перелески, шиферные домики трудового лагеря, стадо коров, к которому поэт на закате направляется с двумя ведрами — надоить парного на всю ватагу. Сливовая грязь под ногами, нежные уши коров просвечены низким солнцем. Поэт забирается в середину стада, чтобы выбрать посимпатичней животинку, коварно доит одну, другую и с двумя полными ведрами толкается обратно, косясь в сторону племенного бугая размером с гору, медитирующего неподалеку. Но не тут-то было. Горизонт разрывает истребитель, который проходит сверхзвуковой барьер ровнехонько над стадом. Мгновенно стадо превращается в рогатый восьмибалльный шторм. Ради жизни поэт бросает ведра, хватается за рога ближайшей коровы и вскакивает на нее. Насмерть оглушенный бык вдруг начинает покрывать скачущих как на дискотеке коров. Напрыгнет то на одну, то на другую, подбираясь к нашему седоку. Грязь оглушительно чавкает, по ней течет молоко, ведра сплющены, коровы ревут и пляшут, — и над всем этим мощный закат. Такая пасторальная коррида.
Пари
(про главное)
Однажды мне довелось общаться с человеком, отсидевшим в советское время семнадцать лет в тюрьме, большей частью в одиночке — за строптивое поведение. Сел он за политическую бузу, устроенную им в военном летном училище. Так он рассказывал. Болтун был страшный, но в целом симпатичный, и врать мог напропалую, в том числе и о мотивах посадки, но про то, что он летчик, — точно не врал, судя по тому, как он водил машину. Ибо у летчиков реакция превышает средние параметры, и то, что вам на дороге кажется концом света, для них всё еще нормальная ситуация. Я много с ним ездил в разных местностях Калифорнии и кое-чему научился. Но иногда отнимал руль, особенно когда хотелось вздохнуть.
В общении с ним подкупала его ребячливая жадность к жизни и ощущение, что мы с ним одногодки, ибо мне было тогда двадцать три года; ровно столько было ему, когда он сел. «Время рыбалки в счет времени жизни не засчитывается», — шутил Валерка. Внешне он, кстати, напоминал Веничку Ерофеева: высокий, худощавый, красивый, с такими же густыми прямыми, с челкой волосами — и абсолютно седой. Молодой старик в буквальном смысле.
Мне с ним было интересно, но иногда опасно, потому что Валерка шел вразнос, причем самым авантюристским способом. Умер он едва за пятьдесят — так и не выдержав темпа наверстывания.
В тюрьме Валера бесконечно читал русскую классику и плел рыболовецкие сети и авоськи, в каких советский народ носил кефир, батон, картошку, водку. И заработал этим делом за семнадцать лет двенадцать тысяч рублей, так что откинулся он по-царски, еще до «павловской» реформы.
Вот почему лучше одиночка и книги, чем общая и домино.
Любимый рассказ Валерки у Чехова был, конечно, «Пари». Я всегда, когда смотрел на него, как он закидывается в приступе вкушения воли, вспоминал широко шагающего через рассветную рощу человека и его последние слова: «По чистой совести и перед Богом, который видит меня, заявляю вам, что я презираю и свободу, и жизнь, и здоровье, и всё то, что в ваших книгах называется благами мира».
Стиральная доска
(про литературу)
Долгое время дорога из Серпухова в Тарусу была такой, что добирались в основном по Оке.
Мариэтта Шагинян ехала на похороны Паустовского полдня: шел дождь, и водитель, несколько раз сев по брюхо, проклял и старуху Шагинян, и покойника, и советскую власть.
После спуска в Тарусу у огромной канавы сидели на корточках местные алкаши. Сидели и плакали.
Машина забуксовала снова и, пока мужики ее выталкивали враскачку, Шагинян разговорилась с теми, кто не участвовал в спасательных работах. Оказалось, оплакивают они Паустовского. Среди жителей Тарусы только у него была «Волга». И он был главным благотворителем этой компании, в сырую погоду дежурившей у канавы на этой переправе: чтобы вытолкнуть автомобиль Паустовского на другую сторону.
Шагинян дала им трешку, чтоб помянули.
Есть такое явление: плохо проложенная дорога приходит в негодность после второй-третьей весны.
Вешние воды вскрывают асфальт, и только к майским пройдется бригада дорожников, наложит заплатки.
То, что получится, в народе называют стиральной доской.
Три века назад Петр I еще рубил боярам бороды.
Двадцать три века назад римляне для прокладки дорог выкапывали ров не меньше двух метров, выкладывали его бульниками, засыпали разнокалиберным щебнем и устраивали его сводчатой горкой в распор, чтоб вода стекала; и, конечно, обеспечивали грамотный дренаж. Всё это делалось так, что и поныне римские дороги составляют основу дорожной сети Европы.
В России дороги лучше бы не прокладывали вовсе.
Ибо проложенная дорога в результате заброшенности и редких починок становится непроходимой из-за рытвин, канав и ям.
От Тарусы до Барятино шестнадцать километров.
Но не доехать: даже за рулем укачает или колесо пробьешь.
В Колосово проехать еще можно, но только потому, что там грунтовка: догадались не выкидывать деньги, не уродовать землю асфальтом, а пустить колею саму искать проход в распутице.
Так что в России человеку лучше не навязывать себя природе.
Лучше всё оставить как есть.
«Сударыня! По-моему, Россия есть игра природы, не более!» — так восклицал капитан Лебядкин.
Наверное, это самая точная, хоть и убогая, грустная мудрость.
Ибо как ни крути, а выходит, что настоящая Россия и есть природа.