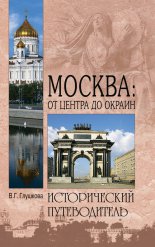Александр Грин Варламова Людмила
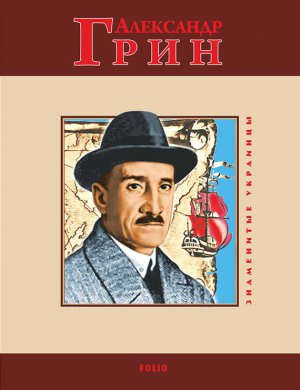
«Когда он „выходит за пределы облюбованного им круга тем и дает типично русские сюжеты“, то перестает быть Грином и теряется в общей массе русских беллетристов», – заключал в «Новой жизни» С. Степанович.[125]
Позднее прозаик Михаил Слонимский, защищая Грина, писал: «Толстые журналы и альманахи редко допускали на свои страницы произведения этого мечтателя. Маститые критики редко утруждали себя писанием статей об этом необычном авторе необычных для русской литературы вещей… Негласно было решено, что серьезных проблем этот автор не ставит».[126]
Был или не был в дореволюционной критике «заговор» против Грина, но за неимением «маститых» и приходится цитировать Калицкую, которая уже после смерти Грина взяла на себя труд написать и воспоминания о нем, и нечто вроде литературно-критического портрета. Вероятно, его научная ценность не слишком велика, но, во-первых, Вера Павловна ни на что и не претендовала (хотя и отправила рукопись Ермилову, а тот передал ее Паустовскому, от которого она и попала в архив), а во-вторых, Калицкая что-то очень важное в Грине угадывала или же, скажем так: именно там, где она Грина намеренно упрощала и вульгаризировала, отчетливее видна его сложность.
«Писать он мог только о том, что ему было интересно и только так, как находил нужным, что бы ему ни говорили, как бы ни ругали. Не выносил никаких редакторских замечаний, никогда ничего не переделывал по чьему-либо указанию. Статьи критиков не имели влияния на А. С., хотя нередко, конечно, огорчали его. В рассказе „Табу“ он говорит о себе (в лице писателя Агриппы), как о писателе, „не умеющем или неспособном угождать людям“. Оно так и было. Возможность писать, о чем и как хочешь, была для А. С. важнее популярности…
Герои Грина часто путешествуют; кроме того, особенным людям должна отвечать и особенная обстановка. Где же им жить? Чтобы описать какой-нибудь город, его надо знать. Изучать описания, снимки, план и историю города. То же относится и к островам, вообще ко всякой стране. На такую кропотливую, черную работу Грин никогда не мог себя принудить и не хотел принуждать. Над „документалистикой“ смеялся, как видно, например, из начала „Крысолова“. Писать так, чтобы его обвинили в „развесистой клюкве“, ему, конечно, тоже не хотелось. Оставалось одно: выдумывать свои города и острова. Никто не сможет уличить Грина в том, что Лисс, Зурбаган, острова Магескон или Рено не таковы, какими он описал их, потому что это – „его города и острова“… Одним из поводов к созданию своих имен является и всегдашнее самоутверждение Грина: „живу с кем и как хочу“».[127]
Осенью 1913 года Александр Степанович разошелся с Верой Павловной. Выносить совместную жизнь с ним она больше не могла и позднее в своих воспоминаниях писала: «Возвращение Грина из ссылки. Теперь Грин – легальный человек и писатель с именем. Я впервые вижу второй, жуткий лик Грина. Мой уход от него после зимы 1912–1913 гг. Его непрерывные кутежи. Грин убеждает меня попробовать еще пожить с ним… Признание А. С., оправдывающее мой разрыв с ним».[128]
Николай Вержбицкий вспоминает, как однажды ночью вместе с Грином они возвращались с дня рождения Куприна из Гатчины и Грин жаловался на то, что ему «трудно устроить личную жизнь, а в особенности – поладить с женщиной, которая не может или не хочет его понять».[129]
«Такого рода излияния стали для меня понятны, – продолжает Вержбицкий, – когда я узнал, что Грин везет меня к своей жене Вере, жившей на Зелениной улице. Впрочем, она нас не приняла, и мы снова очутились на улице».[130]
Выгнанные из дома, писатели направились за город и оказались в Старой деревне, в лечебнице доктора Трошина, где, как выяснилось, должен был все это время проходить лечение Грин. У «Ивана Ивановича» – так называлось заведение Трошина – их пустили переночевать, а наутро директор выставил пациента вон.
«– Я, как-никак, несу за вас ответственность, а вы убежали тайком неизвестно куда и пропадали месяц… Давайте расстанемся по-хорошему… Вот ваши вещи и вот вам рубль на дорогу…»[131]
На лечении «под замком у Ивана Ивановича», скорее всего, настаивала Вера Павловна, и побег Грина из больницы мог стать последней каплей в их отношениях. Впрочем, было еще одно обстоятельство, объясняющее, почему Калицкая не выдержала тягот жизни с Грином, в то время как вторая жена писателя Нина Николаевна, которой пришлось хлебнуть не меньше горечи, оставалась с ним до конца.
Калицкая сама была писательницей, а жена Грина должна была отречься от себя и всецело принадлежать ему. Невозможно представить Маргариту литературной дамой при Мастере. Вера Павловна же сотрудничала с различными журналами, преимущественно детскими – «Всходами», «Детским отдыхом», «Всеобщим журналом», «Читальней народной школы», «Тропинкой», «Проталинкой», о ней именно как о детской писательнице упоминает в своих дневниках Корней Чуковский; в начале двадцатых Грин сватал бывшую жену Горькому для написания биографии Коперника, Гальвани или Вольта в издательстве Гржебина. Она была вхожа в дом к Сологубу, переписывалась с ним и позднее присутствовала при его кончине.[132] Словом, у нее была своя, отдельная от Грина литературная судьба и свои амбиции, и от этого также союз их оказался изначально обреченным.
Нина Николаевна Грин позднее так излагала свое видение причин развода Александра Степановича с первой женой:
«Как я могу судить по рассказам Александра Степановича и Веры Павловны, обе стороны были виноваты. Разница в годах была небольшая – Александр Степанович был на два года старше, но разница в желаниях, привычках, средах, в которых тот и другой воспитывались, была колоссальна. Грин по возвращении сразу же окунулся в литературную атмосферу. Ему, почти до тридцати лет не видевшему нормальной человеческой жизни, все было внове, все хотелось видеть, познать, – от вершины до дна. Сил накопилось много, и он тратил их не жалея. Литературная богема вовлекла его в пьяную распутную жизнь, начал зарабатывать собственные деньги, которые мог тратить бесконтрольно. А Вера Павловна страдала, подруга на нее нажимала, требуя развода; понять чувства и жадность к жизни, владевшие Грином, она никак не могла, часто стыдилась Грина. На пьянство реагировала гордым молчанием. Происходили между ними стычки, ссоры и никогда – товарищеского, искреннего разговора. В результате больше страдавшая Вера Павловна решила разойтись с Грином…
Разойдясь с Верой Павловной, Грин почувствовал себя очень одиноким: разврат не давал утоления душе, и он несколько раз просил ее вернуться к нему. Она категорически отказывалась».
И еще очень важное, хотя и весьма пристрастное свидетельство:
«Вера Павловна не верила в Александра Степановича как писателя. Прожив с ним несколько лет, она осталась чужда его творчеству внутренне и часто, по словам Грина, говорила ему: „Зачем ты, Саша, пишешь о каких-то фантастических пустяках? Начни писать крупный бытовой роман и тогда сразу войдешь в большую литературу“».
Для Александра Степановича эти слова были холодной жестокостью и полным непониманием, он говорил: «Она хотела, чтобы я писал как для недельного приложения к газете „Современное слово“. Мария Владиславовна и другие женщины точно так же смотрели на работу Грина. А его душа искала Ассоль, которой столь же трудно было выйти из сказок своего сердца, как тем войти в них».[133]
Нина Николаевна здесь несколько необъективна и по меньшей мере повторяет пристрастные и необъективные оценки самого Грина. Ставить знак равенства между Верой Павловной Калицкой и другими женщинами, бывшими в жизни Александра Степановича, не вполне справедливо.
Калицкая значила очень много в его судьбе, и, несмотря на разрыв с ней, свою тюремную невесту и жену нелегала и ссыльного Грин очень уважал. По воспоминаниям знакомых, в его просторной комнате на Пушкинской улице висели портрет Эдгара По и большой портрет Веры Павловны – единственное, что взял он в квартире на Зелениной улице при расставании.
В 1915 году он подарил ей книгу своих рассказов с посвящением: «Единственному моему другу – Вере – посвящаю эту книжку и все последующие. А. С. Грин. 11-е апреля 1915 года».[134]
В 1917–1918 годах Калицкая много помогала Грину материально, в 1920-м, когда они уже давно не жили вместе, а Вера Павловна уже три года состояла в гражданском браке с геологом Казимиром Петровичем Калицким, заболевший сыпным тифом Грин написал завещание, в котором все права собственности на его литературные произведения исключительно и безраздельно завещал своей «жене Вере Павловне Гриневской».[135] Даже в третий раз женившись, Грин упрямо, как талисман, возил по многочисленным питерским адресам ее портрет, чем слегка раздражал Нину Николаевну.
А тот самый день рождения Куприна, о котором вспоминает Вержбицкий, описан в повести Леонида Борисова «Волшебник из Гель-Гью», которую не любили ни вдова Грина, ни наши ведущие гриноведы. Между тем повесть получила высокую оценку писателей в лице К. Паустовского, М. Дудина, Б. Соловьева, Л. Рахманова, а также брата Грина Бориса Степановича, который единственный из всей родни сохранил добрые отношения с Александром, часто с ним общался и хорошо его знал. Эта повесть сыграла свою роль в приобщении многих читателей к творчеству и личности Грина, так что неудивительно, что автор получил в свое время немало восторженных откликов.
Приведу небольшой отрывок из этой вещи, чтобы современный читатель мог себе уяснить, из-за чего полвека тому назад разгорелся сыр-бор в отечественном гриноведении.
«Грина посадили между Буниным и женой первой скрипки из оркестра Мариинского театра, которая в течение длительного, обильного ужина безотказно выполняла обязанности первой скрипки в сумбурном, кто в лес, кто по дрова, оркестре. Грин, не обращая внимания на то, что делали все другие гости, немедленно же приступил к насыщению и выпивке. Первая скрипка произносила речи, устанавливала порядок тостов, к ней ежеминутно подбегали, прикладывались к ее ручке, именовали божественной, восхитительной, дивной. Кто-то предложил бить бокалы. Скромный, молчаливый Бунин запротестовал, уверяя компанию, что посуду бьют только на свадьбе. Бунина поддержал Уточкин и после этого с размаху трахнул бокал о спинку стула. Андрусону приготовили американского ерша – дикую смесь из шампанского, пива, лимонада и водки, всыпали в стакан ложку молотого перца, влили рюмку уксусу и полсотни валерьяновых капель. Грин попросил слова. Пирующие смолкли.
– Друзья! – сказал он. – Господа! Писатели земли русской, Петербурга и его окрестностей! Я кое-что смыслю в ершах, принимаемых в мокром виде. Изготовленную для Леонида Ивановича смесь пить нельзя. Леонид Иванович или умрет, или с ним произойдет великий конфуз. Я предупредил вас, господа!
Сел, выпил, закусил, обвел компанию взглядом засыпающей рыбы. Бунин мягко заявил, что Грин сделал доброе дело, пожал ему руку и принялся доедать слоеный пирог с капустой. Андрусон, позабыв о ерше, уничтожал все, что ему подкладывали.
Некий шутник в смокинге поставил стакан смеси перед Грином, и гости ахнуть не успели, как он взял стакан и выпил. Наступила тишина.
Куприн подошел к Грину и обхватил его, ожидая того самого конфуза, о котором только что было сказано. Бунин привстал, не дыша и не шевелясь. Измайлов, совершенно трезвый, панически произнес: „О Господи!“ Андрусон, перегнувшись через стол, освобождал его от посуды и блюд с едой, всерьез полагая, очевидно, что Грин всей своей громоздкой фигурой ляжет поперек стола.
Грин сидел ни жив ни мертв. Куприн шепотом уговаривал его встать и идти баиньки. Но Грин выдержал. Он попросил первую скрипку сделать ему бутерброд, разведенными пальцами обеих рук показал, сколько нужно положить масла. Куприн налил в бокал лимонаду и просил Грина пить глотками медленными и редкими. Бунин пожал Грину руку и сказал:
– Ничего подобного я не видел, великий мой сосед! То есть видел, но с результатом противоположным. Вы не из Сибири ли, между прочим?
Грин дожевал хлеб с маслом и только тогда ответил:
– Из Зурбагана!
Корректный Иван Алексеевич, чуточку подвыпивший, но не утративший способности нормально соображать и управлять всеми своими чувствами, не в состоянии был все же припомнить, когда и при каких обстоятельствах посещал он местность, названную его соседом. Иван Алексеевич объездил весь свет, отлично знал все города и страны; он переспросил Грина:
– Простите, что вы сказали?
Грин уже забыл, что именно сказал он минуту назад, – он усиленно заедал ерша хлебом с маслом и был глух и нем. Бунину ответил Куприн:
– Зурбаган – это, мамочка, город, придуманный Александром Степановичем. Разве не читали?
Бунин сконфуженно произнес:
– Нет, не читал. Но теперь непременно прочту. Даже немедленно, сию минуту. Вы дадите мне книгу, дорогой Александр Иванович, и я сейчас же познакомлюсь. Господа! – обратился он ко всем сидящим за столом. – Прошу простить меня, я должен вас покинуть».
Дальше следует история о том, как Бунин принялся Грина читать и за чтением гриновских рассказов… заснул. Грин ужасно обиделся и стал жаловаться на Бунина Куприну, Куприн его утешал – Толстому-де Шекспир не нравился и клялся-божился, что он-то, Куприн, Грина любит, а потом, когда Грин ушел, выговаривал Бунину:
«– Обиделся вчера Александр Степанович на вас. Чуть не плакал из-за того, что вы над его рассказом уснули.
Бунин оживился. Он уверял, что хотя рассказ Грина ему и не понравился, все же уснул он вовсе не поэтому.
– Человек он безусловно одаренный, но – я его совсем не знаю. Что он еще написал?
– Немного, но это первоклассный талант, батенька мой, – сказал Куприн. – Вот увидите, из него выйдет крупная величина. Волшебный талант! Жалею, что он не понравился вам. Совсем напрасно.
– Где он печатается? – спросил Бунин. – Что-то я его нигде не встречал.
– В разнокалиберных журнальчиках, – ответил Куприн. – На верхах его не понимают. Там все больше ананасы кушают. А у нас и наверху много таких, которым я посоветовал бы вовсе покинуть литературу. На пенсию уйти, что ли. Ну-с, ваше здоровье.
Чокнулись. После обеда расположились на диване в кабинете хозяина. Заговорили о литературе западной, о ее влиянии на русскую литературу. Куприн вслух прочел гостю маленький рассказ, не называя имени автора.
– Ну, как на ваш вкус? – спросил Куприн.
– А хорошо! – сказал Бунин. – Голову пьянит. Кто написал эту превосходную вещицу?
– Грин, – ответил Александр Иванович, и гость рассмеялся».[136]
По этому отрывку видно, как любит автор Бунина, сильно его идеализируя (среди литераторов Бунин был скорее заносчив, небрежен и высокомерен, нежели корректен), и как снисходителен по отношению к Грину. Был ли на самом деле знаком Бунин с творчеством Грина, большой вопрос. Единственное указание на возможность такого знакомства содержится в повести Катаева «Трава забвения», о чем написала Л. Михайлова: «Бунин, по воспоминаниям Катаева, саркастически развенчивал музыку Грига, оловянных солдатиков Андерсена и заодно „какого-нибудь гриновского капитана с трубкой и пинтой персиковой настойки“. Бунин уверял начинающего Катаева: „Эти дамы – поклонницы Грина и Грига – делают писателю славу, создают репутацию романтика, почти классика“».[137]
Но верить Катаеву – дело ненадежное. А вот почему не понравился «Волшебник из Гель-Гью» Нине Грин, которой довелось прочесть эту повесть в лагере, вполне понятно. В 1955 году она приехала в Ленинград и встретилась первый и последний раз в жизни с Борисовым. О том, как эта встреча произошла, написала со слов самой Нины Николаевны ее душеприказчица Ю. А. Первова.
«Я слышал, вы разгневаны на меня за „Волшебника“». – «Разгневана – не то слово, Леонид Ильич, – отвечала Нина Николаевна. – Я оскорблена за Александра Степановича. Вы создали из него в своей повести нечто патологическое. Изображенный Вами Грин – пошляк и позер. Он никогда таким не был». – «Не надо волноваться, Нина Николаевна, дорогая. Наверное, Вы правы, но и я не так уж виноват. О таком Грине мне много раз рассказывала Вера Павловна, с которой я советовался, когда работал над книгой».[138]
Что она могла на это ответить?
Ей оставалось лишь взять с Борисова слово, что больше он переиздавать эту книгу не будет. Однако легче договориться с алкоголиком, что он не подойдет к бутылке, или с игроком, что тот не увидит ломберного стола, чем с писателем, что он никогда не станет больше публиковать свою книгу, имевшую определенный успех. «Волшебник из ГельГью» исправно выходил к очередному юбилею то Грина, то самого Борисова.
«Советую Вам не приобретать Л. Борисова „Волшебник из Гель-Гью“, – писала Нина Николаевна одному из своих корреспондентов. – В этой, с позволения сказать, „романтической“ повести романтично только заглавие ее, так идущее Александру Степановичу. Все остальное – глубокое незнание, искажение и опошление образа Александра Степановича. Живо, фельетонно написано. Грином там и не пахнет, но зато Леонидом Борисовым отменно и дурно…
У меня эта книга Борисова есть. Когда-то, в лагере, я ее прочла, и мне хотелось умереть от невозможности убить Л. Борисова».[139]
Не зря литературовед Евгений Александрович Яблоков высказал предположение, что новую редакцию «Мастера и Маргариты» Булгаков начал писать в 1932 году под влиянием известия о смерти Волошина и Грина.[140] На счет Мастера тут можно поспорить, но на Маргариту этот характер очень похож.
Так, независимо от воли жены, муж превращался в литературный персонаж. Нина Николаевна протестовала против вольного обращения с образом Грина как могла. Ей было легче бороться с наветами и наговорами, относящимися к периоду их совместной жизни, но и о дореволюционной поре она оставила немало интересных свидетельств, записанных ею со слов самого Грина: «Когда А. С. вошел в литературу, то, – он говорил мне, – он, как дикарь, жадно впитывал в себя все, и муть, и радости, и взлеты, и падения литературной жизни того времени. Это пришлось, главным образом, на 1912–1913 годы. В период самого бурного кипения жизни литераторов, а не литературы А. С. вращался в литературном кругу Арцыбашева и главным образом Кузмина, которого он сердечно любил и вспоминал всегда тепло».[141]
Грин хотел написать об этой эпохе роман, и жаль, что он не был написан. Но в любом случае эти свидетельства очень важны, потому что опровергают расхожую легенду об отшельничестве Грина. Отшельником он если и был, то только после революции, а до нее находился в эпицентре литературной жизни. «А. С. видел тут взрыв последнего русского озорства. Для него это было как безудержная, истерическивеселая, нелепая смешливость, овладевающая человеком незадолго перед тем, как с ним должно случиться какое-либо большое несчастье».[142]
Глава VIII
КОСМОПОЛИТ АСПЕР, ИЛИ ТВОРЧЕСТВО СМЕРТИ
В 1914 году Грин стал сотрудником журнала «Новый сатирикон», издаваемого Аверченкой. Писал он в ту пору очень много. Библиография Грина поражает числом опубликованных текстов, но значительная часть из них, особенно сатирические произведения и фельетоны, писалась скорее ради денег, нежели из любви к искусству, и подписывал их Грин псевдонимами. Да и сам Аркадий Аверченко, несмотря на то, что в качестве приложения к «Новому сатирикону» выпустил книгу Грина «Происшествие на лице Пса», воспринимал его не слишком серьезно.
«Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии, – вспоминала сотрудница „Нового сатирикона“ Л. Лесная. – Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин – в темном пальто с поднятым воротником, бледный и хмурый».[143]
Звал Аверченко Грина – «господин заядлый пессимист» и призывал бросать «черную мерехлюндию». Однако та его не покидала. В 1915 году в анкете «Журнала журналов» на вопрос, как он живет, Грин желчно отвечал: «Как я работаю? Только со свежей головой, рано утром, после 3 стаканов крепкого чая, могу я написать что-нибудь более или менее приличное. При первых признаках усталости или бешенства бросаю перо.
Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют… Мне хочется жрать…»[144]
Сохранились также замечательные воспоминания о Грине И. С. Соколова-Микитова, относящиеся к этому времени и рисующие портрет тридцатипятилетнего Грина, выглядевшего, по донесениям следивших за ним негласно агентов охранки, на сорок – сорок пять.
«Сухощавый, некрасивый, довольно мрачный, он мало располагал к себе при первом знакомстве. У него было продолговатое вытянутое лицо, большой неровный, как будто перешибленный, нос, жесткие усы. Сложная сетка морщин наложила на лицо отпечаток усталости, даже изможденности. Морщин было больше продольных. Ходил он уверенно, но слегка вразвалку. Помню, одной из первых была мысль, что человек этот не умеет улыбаться».[145]
Соколов-Микитов вспоминал, что, после того как с началом войны в Петрограде запретили продавать алкогольные напитки, петербургская богема отправлялась в ближайшие пригороды, иногда вместе с Аверченко они ходили в ресторан на Большой Морской, где в чайнике подавали портвейн или английскую горькую. Однако, несмотря на большое количество выпиваемого спиртного, «писал Грин быстро, сосредоточенно и в любое время дня. Я не помню случая, чтобы обещанный журналу рассказ он не сдал в срок».[146]
О том, как жил и трудился Грин в эти годы, можно прочесть и у Ларисы Рейснер, чьи сильно беллетризованные воспоминания обычно выпадают из поля зрения исследователей, так что ссылки на них нет даже в максимально полном Библиографическом указателе творчества Грина, составленном Ю. Киркиным.
В 1915 году Рейснер стала издавать журнал «Рудин» и пригласила участвовать в нем Грина. Он согласился и даже взял по обыкновению аванс, однако о его непосредственном участии в вышедших восьми номерах «Рудина» ничего не известно. Однако несколько лет спустя, в 1919 году, Лариса Рейснер написала «Автобиографический роман», и одним из героев этого романа стал выведенный под своей собственной фамилией Александр Грин.
«Грин, трезвый, в невероятно высоком и чистом воротничке, который, впрочем, скоро снял и спрятал в карман, грел возле печки, полной трескучего пламени, свое веселое и безобразное лицо. Смелый путешественник, описавший жаркое небо и дикие леса юга, из своей комнатки в желтых вонючих ротах и ни разу не видевший в жизни ни одного лица, действительно похожего на то, что ему снилось, – наконец чувствовал великое успокоение. Сумасшедший, он был среди своих. Целая куча, целый сноп безумцев окружал его так, как брызжущие искры окружали черное, покрытое трепещущим синим пламенем, медленно и неудержимо пылающее дерево. Никого не пугала смелая сжатость его слога. Никто не сомневался в роскошных видениях, которые ему доставляли странные музы – голод и алкоголь. Все видели вместе с ним и океан, и далекие острова, и прекрасных голых мужчин и женщин, населявших эти пределы. Он был (большой)[147] поэт. Пламенный культ океана, чистого воздуха и чистой любви, возможной раз в жизни, составлял его веру. „Рудин“ признал идеализм, нищету и громадный талант Грина. Он погибал медленно, спиваясь все больше и больше: но с тех пор, как в его комнату в первый раз вошла Ариадна, он падал не без сопротивления. Наконец его перо понадобилось, и, сползая вниз, он цеплялся за всякий светлый час, за каждую крылатую минуту, дабы написать еще повесть, еще главу, хоть строчку.
Любовь и творчество сделали из агонии Грина дикий и великолепный закат. Косые лучи, падая из-за разорванных обезумевших туч, озаряли трагическим блеском его любимый пейзаж: море, острова и людей лучшей породы[148]».[149]
Трудно сказать, что здесь правда, а что выдумка, и какими были в действительности отношения между Грином и Рейснер, фигурирующей в «Автобиографическом романе» под именем Ариадны, но в 1929 году, когда Ларисы Рейснер уже не будет в живых, практически отлученный от советской литературы и ищущий, где напечататься, Грин обратится в «Новый мир» с вопросом, может ли он прислать в редакцию свою новую вещь, получит очень скорый и доброжелательный ответ Ф. Ф. Раскольникова, мужа Рейснер, с приглашением присылать любые тексты и обещанием моментально их рассмотреть. Едва ли тут есть какая-то связь, да и ничего в «Новом мире» в ту пору у Грина напечатано не было, но, быть может, в душе самого Александра Степановича шевельнулось воспоминание об одной из самых ярких, вакхических женщин русской литературы, любовницы Троцкого и одной из создательниц теории любви как «стакана воды», с которой спорил Ульянов-Ленин.
О кутежах Грина ходили легенды, с их отзвуком помимо «Волшебника из Гель-Гью» можно столкнуться в свидетельствах многих мемуаристов.
«Пили, сознаться, много и шумно. На этих шумных литераторов смотрел я почтительными юношескими глазами, бывал свидетелем подчас не совсем приятных историй и столкновений…» – деликатно рассказывал Соколов-Микитов.[150]
Или вот другое воспоминание, Екатерины Ивановны Студенцовой, повествующее не столько о пьянстве, сколько о неприкаянности и одиночестве Грина: «…я поехала к нему с братом. Это было в 1915 году… Александр Степанович много говорил, много пил мадеры. Мне он почему-то казался одиноким в этой неуютной обстановке. Он много говорил о людях, о жизни.
Потом Александр Степанович рассказывал всевозможные истории и анекдоты – иногда и не совсем приличные. Ему, по-видимому, нужны были слушатели. Я стойко выслушивала все…
Было уже поздно. Мы собрались домой. Александр Степанович захотел поехать к нам. Поехали на извозчике. Дома все захотели спать. Александра Степановича положили в гостиной на диване. Он долго ходил, пил воду. Потом лежал или спал… Утром горничная сказала, что он ушел еще ночью и ничего не сказал…
А. С. никогда не приходил к нам в наш приемный день воскресенье – поэтому никогда нас не заставал дома. Горничная сообщала иногда тихо: „Барышня, опять приходил этот… писатель… пьяный“».[151]
Все это отражалось и в литературе. «Демонизм – принцип упоения жизнью – делается на долгое время главной идеей, проводимой А. С. Грином в жизни и в литературе, – писала Калицкая. – „Синий каскад Теллури“, „Наследство Мак-Пика“, „История Таурена“, „Зурбаганский стрелок“ и ряд эксцентрических рассказов вроде „Нового цирка“ характеризуют „период демонизма“ в творчестве Грина. В них гордое одиночество и холодное презрение к людям, поиски необычайного, чудесного. Наряду с исканиями силы и красоты рассказы на жестокие темы.
В быту демонизм сводился к разгулу.
Об этом времени своей жизни Грин много пишет сам. Он смотрит на себя в этом периоде как на больного».[152]
Несколько иной взгляд на это же время и на самого себя отражен в мемуарах Н. Н. Грин, которые, повторю, во многом создавались как полемика с мемуарами Калицкой, и большую роль в них занимают слова Грина, приводимые Ниной Николаевной, в то время как никаких дневников ни Грин, ни Нина Николаевна при его жизни не вели, и записаны эти воспоминания были почти через двадцать лет после кончины писателя.
Согласно им, то богемское, купринское, как называл его Грин, время он вспоминал с удовольствием.
«– Ты любишь вспоминать это время, – вернее эти часы. Тебе они доставляли радость? – спрашиваю его.
– Радость, конечно, не всегда, но какую-то внешнюю разрядку внутренней напряженности давал мне ресторан, вся его хотя бы и искусственно-праздничная атмосфера. Все будто друзья или вдруг враги. Отношения в пьяном виде прямолинейнее. Мозг, оглушенный вином, не в состоянии плести интригу. Если все пьяны, то все интересны друг другу и все – герои. Или все – как рыцари, или хамы. Ведь ты не представляешь, каков я был в те времена. Меня прозывали „мустангом“, так я был заряжен жаждой жизни, полон огня, образов, сюжетов. Писал с размаху и всего себя не изживал. Я дорвался до жизни, накопив алчность к ней в голодной, бродяжьей, сжатой юности, тюрьме. Жадно хватал и поглощал ее. Не мог насытиться. Тратил и жег себя со всех концов. Я все прощал себе, я еще не находил себя. Глаза горели на все соблазны жизни. А рестораны, вино, легкомысленные женщины, озорство и шутки – было ближайшее к моим жадным рукам. Это время – эпоха в моей жизни, и я к концу своих дней, когда изживу себя, как творец, напишу об этом».[153]
Кто более прав – Калицкая или Нина Грин – сказать трудно. Но в любом случае не одна лишь разгульная, беспорядочная жизнь определяла сущность его «я» или по меньшей мере не все к ней сводилось. В эти годы в душе писателя происходили перемены, новые темы овладевали им, новые герои появлялись в его произведениях. Грин попрежнему писал рассказы, еще не замахиваясь на романы, но теперь в этих рассказах затрагивалась чрезвычайно важная и, к слову сказать, вполне актуальная для культурной ситуации начала века тема соотношения искусства и действительности, и Грин в своих поисках все больше уходил в сторону эстетизации жизни.
Едва ли не самое замечательное его произведение об искусстве жить – новелла «Черный алмаз». К губернатору одной из сибирских губерний приезжает знаменитый скрипач Ягодин и просит дозволения сыграть для арестантов концерт с целью облагородить их души. Губернатор после некоторых колебаний дозволяет, и скрипач-филантроп отправляется в колонию и дает концерт. В этой колонии отбывает срок за взлом «денежного шкафа» и непреднамеренное убийство страдавшего бессонницей курьера некто Трумов, совершивший свое преступление потому, что любил жену скрипача «исключительной, ни перед чем не останавливающейся любовью». Такой же любовью любила его она и с горя отравилась, когда любовник был посажен в тюрьму.
Тогда-то и выясняется, что обманутый Трумовым Ягодин приезжает не из гуманных побуждений, а ради «жестокой и подлой мести». Свободный, успешливый, знаменитый, он хотел восторжествовать над своим поверженным соперником в арестантской робе, но месть достигает противоположного результата. Трумов, в котором музыка, помимо желания ее исполнителя, пробудила не отчаяние, но волю к жизни, бежит из тюрьмы, и через некоторое время Ягодин получает письмо от свободного, счастливого человека из Австралии.
Рассказ этот, несмотря на свою дидактичность и некоторую заданность, был написан очень живо и психологически достоверно. Тут сказалось умение Грина заставить читателя позабыть об искусственности всей ситуации и пробудить сочувствие к узнику любви. Даже лобовая идея, выраженная Трумовым в письме к Ягодину: «Такова сила искусства, Андрей Леонидович! Вы употребили его как орудие недостойной цели и обманулись. Искусство, творчество никогда не принесет зла. Оно не может казнить. Оно является идеальным выражением всякой свободы», – его не портит, тем более что Грин вкладывает эту сентенцию в уста не артиста, не художника, а обыкновенного бухгалтера, который, как оказалось, понимает в искусстве больше, чем прославленный скрипач.
И вот что любопытно: если в тексте заменить Трумова на Трума, Ягодина на Гдона, сибирскую каторгу на тюрьму в Зурбагане, рассказ от этого ничего не выиграет и не проиграет. В этом смысле «Черный алмаз» – прямая противоположность раннему рассказу Грина «Река», где речь идет о рыбаках, нашедших на берегу тело утопленницы и обсуждающих, почему могла покончить с собой молодая женщина. Обстановка того рассказа, характеры персонажей, их разговоры, ночной костер, весенний пейзаж с его половодьем – до того русские, что иностранные имена рыбаков кажутся нелепыми. Какие там Миас, Женжиль, Керн, Благир, когда это Степан, Ермолай, Алешка, Петр! И несчастная утопленница – никакая не Рита, а Катерина или Елизавета. Совсем иное дело – герои «Черного алмаза», включая даже такую популярную в русской литературной традиции фигуру, как губернатор.
К 1915–1916 годам манера Грина писать вещи, не связанные с национальной физиономией, сделалась куда более органичной, нежели прежде, когда по северному лесу рассказа «Окно в лесу» скакали мартышки. Хорошо это или плохо, но творчески Грин «эмигрировал», покидая территорию России даже тогда, когда о ней писал, все больше становясь гражданином своего мира, иностранцем русской литературы, как назвал его в 1915 году молодой критик Михаил Левидов.[154]
«У героев его русских рассказов „впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы“, или „лицо маленькой твари, сожженное бесплодной мечтой о силе и красоте“ („Воздушный корабль“), а сами они „расколотые, ноющие и презренные“, по яркому выражению Грина – „тяжкоживы“ („Приключения Гинча“). Не любит Грин этих людей, – а только их он и видит в России, – не любит до того, что и природа, породившая их, ненавистна ему…
Почти единственный из писателей русских, Грин выработал в себе психологию иностранца, России и русской душе чуждого, и возлюбил односложную, упрощенную душу людей с бритыми, каменными подбородками и односложными, по-иностранному звучащими именами. Не феноменальное ли это явление? Русский писатель, владеющий хоть подчас и мелодраматичным, но все же ярким, красочным и мощным языком, и тем не менее усиленно притворяющийся иностранцем?!.. Писателю Грину жестоко отомстили за его притворство. Благодаря тому, что вопль чеховских „Трех сестер“ – „В Москву!“ он сменил призывом „На остров Рено!“ – Грин считается как бы вне литературы. Серьезная критика пренебрежительно обходит его, да и для широких читательских кругов его имя звучит не то как Нат Пинкертон, не то как Джек Лондон, только пониже рангом…»
Однако заключительный вывод Левидов сделал все же в пользу Грина: «Слишком темпераментен, динамичен этот писатель, слишком богата и необузданна фантазия его, чтобы удовольствоваться возделыванием серых, унылых огородов нашего быта… Творчество Грина насквозь пропитано волей к действию, динамикой, в то время как литература наша – кладбище страстей, бесконечная повесть о бессильных „тяжкоживах“. И в этом совершенно особое и своеобразное значение его рассказов, в которых он поднимает знамя романтического бунта, пусть наивного, но все же важного и ценного бунта против серой, унылой жизни».[155]
В советское время на эти вещи смотрели строже. А. Роскин в своей статье «Судьба писателя-фабулиста», опубликованной в 1935 году в журнале «Художественная литература», констатировал: «Писатель этот работал исключительно на „импортном сырье“, с поразительной настойчивостью оберегая свои произведения от всякого вторжения российского материала… Изобретательный фабулист, он не смог обратить фабулу в средство сконцентрированного показа и осмысления окружающей действительности… Он поспешил перенести место действия своих повестей и новелл в далекие экзотические страны – обстановка „родных осин“, чрезмерно знакомая читателю, а потому трудно обходимая, слишком часто зацеплялась бы за винтики гриновской фабулы и останавливала бы ее развитие подобно соринке, попавшей в часы с открытой крышкой. Крышку надо было захлопнуть – фабулу надо было совершенно изолировать от реальности, рассматриваемой Грином, как сор… Потеря социальных связей неумолимо обрекала Грина на эстетство. Романтика Грина превращалась в явление чисто формального характера – она оказалась лишенной внутренней силы».[156]
В пятидесятые годы, в пору борьбы с космополитизмом, Грина за его иностранность начали откровенно громить безо всяких скидок на особенности литературной техники: «На самом деле творчество А. Грина представляет собой архиреакционное явление. Этот писатель отказался в своем творчестве от изображения русской действительности. Он постоянно жил в мире условных, выдуманных им самим иностранных персонажей. Имена и географические названия, избранные Грином для своих произведений, носят откровенно космополитический характер. Это какое-то уродливое литературное „эсперанто“, с помощью которого писатель отрывается от реальной русской действительности… В основе творчества Грина лежало продуманное презрение ко всему русскому, национальному… Так полутайно, полуподспудно, долгое время продолжал существовать среди известной части литераторов культ Грина. Это было не что иное, как та же теория искусства для искусства, лишь немного зашифрованная. Это была проповедь отказа от реалистических традиций русской литературы, культ литературного космополитизма».[157]
Вениамин Каверин позднее возражал ревнителям национального: «Изобретательность Грина в его стремлении представить себе земной шар не разделенным пограничными зонами – трогательна и говорит о глубине его человечности. Он не хочет видеть ни сети национальной ограниченности, ни кровавых доказательств мнимого превосходства одной нации над другой».[158]
Ко всему этому можно относиться по-разному, но, снимая явный или подспудный смысл этих обвинений и похвал, признаем, что общечеловеческое сделалось для Грина важнее национального, а родиной его стало искусство.[159] Однако в отличие от эстетики того же Уайльда (в подражании которому обвинят Грина в пору борьбы с низкопоклонством перед Западом) эстетизм Грина был сильно морализован и совсем не в духе времени консервативен, хотя эту моралистичность Грин пытался скрыть и образ художника был в его прозе крайне неоднозначен.
Свидетельство такой неоднозначности – рассказ «Искатель приключения», где – как это часто у Грина бывает – сталкиваются два противоположных героя, «враг ложного смирения», «нервная батарея» Аммон Кут и живущий жизнью абсолютно здорового и счастливого человека фермер Доггер – люди вне времени и национальности. Кут – путешественник, искатель истины, коллекционер человеческих нравов и ненавистник всяческого вегетарианства; он попадает к Доггеру в гости и оказывается в царстве «светлого покоя». Идиллическая жизнь Доггера с молодой женой на лоне природы несколько напоминает жизнь Тинга и Ассунты из рассказа «Трагедия на плоскогорье Суан», но если Ассунта описана поэтически, то в характеристике Эльмы преобладает хорошая физиологическая ирония: «Избыток здоровья сказывался в каждом ее движении. Блондинка, лет двадцати двух, она сияла свежим покоем удовлетворенной молодой крови, весельем хорошо спавшего тела, величественным добродушием крепкого счастья. Аммон подумал, что и внутри ее, где таинственно работают органы, все так же стройно, красиво и радостно; аккуратно толкает по голубым жилам алую кровь стальное сердце; розовые легкие бойко вбирают, освежая кровь, воздух и греются среди белых ребер под белой грудью».
Проницательный Кут чувствует в этой «несокрушимой нормальности» и «осмысленной растительной жизни» двух совершенных людей какой-то подвох и, выследив ночью Доггера, обнаруживает в доме потайную комнату. В ней находятся картины, созданные гениальным художником Доггером, который попытался убежать от своего предназначения и забыть о своем таланте, потому что:
«Искусство – большое зло; я говорю про искусство, разумеется, настоящее. Тема искусства – красота, но ничто не причиняет столько страданий, как красота. Представьте себе совершеннейшее произведение искусства. В нем таится жестокости более, чем вынес бы человек… Я чувствую отвращение к искусству. У меня душа – как это говорится – мещанина. В политике я стою за порядок, в любви – за постоянство, в обществе – за незаметный полезный труд. А вообще в личной жизни – за трудолюбие, честность, долг, спокойствие и умеренное самолюбие».
Но как ни пытается Доггер обмануть свой дар, художник побеждает, оказывается сильнее обывателя, хотя удел художника, трагедия художника, по мысли Грина – неизбежная связь со Злом. В «Трагедии на плоскогорье Суан» это зло воплощено в образе Блюма, который пытается убить молодую девушку и вынуждает хозяина дома покарать его, а покарав – отяготить душу размышлениями о природе зла. В «Искателе приключений» ситуация сложнее: зло само собой, без видимого вторжения извне, проникает в душу художника, который чувствует его в себе и не может не запечатлеть. Доггер обречен на свой талант как на пытку, обречен изображать зло и мучиться им, что, по мнению Кута, справедливо: «Иметь дело с сердцем и душой человека и никогда не подвергаться за эти опыты проклятиям – было бы именно не хорошо; чего стоит душа, подобострастно расстилающаяся всей внутренностью?»
В мастерской Доггера Кут видит три картины, изображающие три лика жизни. Первая картина – молодая, полная прелести женщина; «сверхъестественная, тягостная живость изображения перешла здесь границы человеческого; живая женщина стояла перед Аммоном и чудесной пустотой дали» – однако лица ее мы не видим. Вторая – «в той же прелестной живости, но еще более углубленной блеском лица, стояла перед ним, исполнив прекрасную свою угрозу. Она обернулась. Всю материнскую нежность, всю ласку женщины вложил художник в это лицо».
И наконец третья: «В том же повороте стояла перед Аммоном обернувшаяся на ходу женщина, но лицо ее непостижимо преобразилось, а между тем до последней черты было тем, на которое только что смотрел Кут. Страшно, с непостижимой яркостью встретились с его глазами хихикающие глаза изображения. Ближе, чем ранее, глядели они мрачно и глухо; иначе блеснули зрачки; рот, с выражением зловещим и подлым, готов был просиять омерзительной улыбкой безумия, а красота чудного лица стала отвратительной; свирепым, жадным огнем дышало оно, готовое душить, сосать кровь; вожделение гада и страсти демона озаряли его гнусный овал, полный взволнованного сладострастия, мрака и бешенства; и беспредельная тоска охватила Аммона, когда, всмотревшись, нашел он в этом лице готовность заговорить. Полураскрытые уста, где противно блестели зубы, казались шепчущими; прежняя мягкая женственность фигуры еще более подчеркивала ужасную жизнь головы, только что не кивавшей из рамы».
Эта последняя имела самую большую власть не только над зрителем, но и над ее создателем. Рассматривая другие картины художника, Аммон убеждается в том, что Доггер подпал в своем искусстве под власть зла, оно более увлекательно, оно художественно сильнее, ощутимее, полнокровнее – чувство, которое, очевидно, испытывал и Грин, особенно в своем раннем творчестве.
«Он видел стаи воронов, летевших над полями роз; холмы, усеянные, как травой, зажженными электрическими лампочками; реку, запруженную зелеными трупами; сплетение волосатых рук, сжимавших окровавленные ножи; кабачок, битком набитый пьяными рыбами и омарами; сад, где росли, пуская могучие корни, виселицы с казненными; огромные языки казненных висели до земли, и на них раскачивались, хохоча, дети; мертвецов, читающих в могилах при свете гнилушек пожелтевшие фолианты; бассейн, полный бородатых женщин; сцены разврата, пиршество людоедов, свежующих толстяка; тут же, из котла, подвешенного к очагу, торчала рука; одна за другой проходили перед ним фигуры умопомрачительные, с красными усами, синими шевелюрами, одноглазые, трехглазые и слепые; кто ел змею, кто играл в кости с тигром, кто плакал, и из глаз его падали золотые украшения; почти все рисунки были осыпаны по костюмам изображений золотыми блестками и исполнены тщательно, как выполняется вообще всякая любимая работа. С жутким любопытством перелистывал эти рисунки Аммон».
Все эти ужасы а-ля Босх есть не что иное, как вариация «Рая», «Приключений Гинча», «Окна в лесу», и все это в конце жизни Доггер уничтожит, оставив лишь первую картину и попросив уже его после смерти выставить ее перед публикой с надеждой, что о картине, может быть, напишут в газетах – честолюбие у художника столь же трогательное, как у женщины желание нравиться.
И вот картина предъявлена: «Готовая обернуться, живая для взволнованных глаз женщина; она стояла на дороге, ведущей к склонам холмов. Толпа молчала. Совершеннейшее произведение мира являло свое могущество.
– Почти невыносимо, – сказала подруга Кута. – Ведь она действительно обернется!
– О нет, – возразил Аммон, – это, к счастью, только угроза».
Любопытно, что, хотя главным героем этой истории является художник Доггер, Грин назвал рассказ в честь Аммона Кута. И в этом был свой резон. Кут и подобные ему персонажи выполняют в произведениях Грина очень важную функцию, они – провокаторы в благородном смысле этого слова. Они превосходно разбираются в людях и умеют управлять человеческими страстями и поступками. Собственно говоря, Ягодин из «Черного алмаза» тоже выступает в этой роли, но он – не ведает, что творит. Он неумелый провокатор, провокатор «наоборот», ибо достигает совсем не того результата, к которому стремится. А Кут – провокатор правильный, умный, как и бывший пират Бильдер из рассказа «Капитан Дюк», безусловно, одного из самых лучших и обаятельных гриновских рассказов, герой которого, отважный капитан по имени Дюк, попадает в религиозную секту и бросает свое поприще. Только умелая провокация в виде слов старого бомжа Бильдера: «Никогда Дюк не осмелится пройти на своей „Марианне“ между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер. Все смеются», – помогает вытащить из секты Голубых братьев капитана.
«Капитан Дюк» – рассказ очень солнечный, написанный с большой любовью к людям. Прекрасны образы и самого Дюка, и бродяги Бильдера, и матросов, которые не знают, как спасти своего капитана. Там нет почти обязательных у дореволюционного Грина крови и злодейства, даже отрицательные образы – брата Варнавы с его каким-то детски простодушным фарисейством и прочих сектантов, питающихся вегетарианской пищей и уныло возделывающих землю на манер участников толстовских общин, в которых и метил своей пародией Грин, – даже они не страшны, не отвратительны, а смешны. Но такие рассказы появлялись у Грина редко, как солнечные деньки в хмуром климате: «Три похождения Эхмы», «Продавец счастья», «Как силач Гонс Пихгольц сохранил алмазы герцога Померси» («Покаянная рукопись») – и надолго исчезали, уступая место «возвращенному аду» действительности.
За эту мрачность, соединенную с остротой повествования, Грина часто упрекали в подражании Эдгару По. Не его первого – то же самое говорили и про Брюсова (но с гораздо большим почтением), и, может быть, именно поэтому Грин к Брюсову так тянулся. «По определению одного маститого в то время писателя, Грин в литературе был очень способным имитатором», – вспоминал И. С. Соколов-Микитов.[160] Кого именно имел в виду под «маститым писателем» Иван Сергеевич, не вполне ясно. Это мог быть и Леонид Андреев, и тот же Куприн, и Брюсов, и Горький, знакомые с творчеством Грина. Или же Бунин, которого неплохо знал Соколов-Микитов. Но в любом случае – имитатор! – может ли быть худшее оскорбление для писателя?
«Его учителем был замечательный американский писатель и поэт Э. По, произведениями которого зачитывались тогда в России».[161]
Этот «э-поизм» как проклятье висел над Грином, который, по воспоминаниям Нины Грин, защищал себя: «Говорят, что я под влиянием Эдгара По, подражаю ему. Неверно это, близоруко. Мы вытекаем из одного источника – великой любви к искусству, жизни, слову, но течем в разных направлениях. В наших интонациях иногда звучит общее, остальное все разное – жизненные установки различны. Какой-то досужий критик, когда-то не умея меня, непривычного для нашей литературы, сравнить с кем-либо из русских писателей, сравнил с Эдгаром По, объявив меня учеником его и подражателем. И, по свойству ленивых умов других литературных критиков, имя Эдгара По было плотно ко мне приклеено. Я хотел бы иметь талант, равный его таланту, и силу воображения, но я не Эдгар По. Я – Грин; у меня свое лицо[162]».[163]
Защищал Грина от упреков в имитаторстве и А. Г. Горнфельд, некогда приветствовавший его приход в литературу. В 1917 году он писал в рецензии на книгу Грина «Искатель приключений»: «По первому впечатлению рассказ г. Александра Грина легко принять за рассказ Эдгара По. Так же, как По, Грин охотно дает своим рассказам ирреальную обстановку, вне времени и пространства, сочиняя необычные вненациональные собственные имена; так же, как у По, эта мистическая атмосфера замысла соединяется здесь с отчетливой и скрупулезной реальностью описаний предметного мира; так же, как у По, подлинным героем Грина неизменно является мир внесознательного, мир темных предчувствий и разительных совпадений… Кровь, убийство, преступление и ужасы бесчеловечного насилия человека над человеком так же обычны у Грина, как у По, и так же, как у По, они не служат самоцелью и даже средством в изображении характеров, но являются необходимой атмосферой, в которой рождаются и находят нравственное развитие самые роковые загадки духа и жизни… Грин незаурядная фигура в нашей беллетристике; то, что он мало оценен, коренится в известной степени в его недостатках, но гораздо более значительную роль здесь играют его достоинства… Грин все-таки не подражатель Эдгара По, не усвоитель трафаретов, даже не стилизатор; он самостоятелен более, чем многие пишущие заурядные реалистические рассказы, литературные источники которых лишь более расплывчаты и потому менее очевидны. Шаблон реализма ведь тоже шаблон, лишь более общепринятый, но не более творческий. У Грина же нет шаблона; он не самобытен в манере, которая принадлежит школе, но самостоятелен в процессе создания… Он знает, куда идет и куда ведет своего читателя… В экзотике необычайных приключений небывалых стран и невероятных героев, в горделивом презрении к бытовой повседневности, в бойком отрицании общепринятого в морали и общественности, он все-таки ищет простой житейской правды: правды человеческих отношений, правды элементарной морали. Он тенденциозен и оттого сознателен, и старые формы, предложенные его учителем, оживают и дышат полнотой творческой самостоятельности под пером незаурядного ученика. Конечно, тот, кто вчитается в Грина, кто поймет его возможности и его тоску о недостижимости, тот не раз с болезненным чувством ощутит великую пропасть между способностями Грина – его выдумкой, его умом, его конструктивным даром – и результатом его творчества».[164]
Эта рецензия едва ли не самая глубокая и справедливая, итоговая оценка дореволюционного творчества Грина. В ней очень точно расставлены акценты, указана связь с традицией и определены оригинальность, «гриновость» Грина, его стремление к «правде морали и правде человеческих отношений», наконец, здесь превосходна мысль о «шаблонности реализма», и позднее идеи Горнфельда подхватит Юрий Олеша, который, как мы помним, «заставил» Грина перепутать Горнфельда с Айхенвальдом (или сделал вид, что заставил – Олеша тоже ведь был изрядным мистификатором).
«Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они.
Наличие в русской литературе такого писателя, как Грин, феноменально. И то, что он именно русский писатель, дает возможность нам не так уж уступать иностранным критикам, утверждающим, что сюжет, выдумка свойственны только англосаксонской литературе, ведь вот есть же и в нашей литературе писатель, создавший сюжеты настолько оригинальные…»[165]
Запись Олеши была сделана в тридцатые годы, когда творчество недавно скончавшегося Грина активно обсуждалось, и любопытно, что автор «Иностранца русской литературы» Левидов писал в 1935 году в «Литературной газете», что Грин «беден сюжетами».[166]
И в самом деле, не сюжет и не фабула главное в творчестве Грина, пусть даже он был их мастером. Сюжет у Грина строго подчинен идее. А идея – морали, и в этом еще одно существенное его отличие от По и Бирса, и одна из самых важных его идей есть идея изучения зла для последующей борьбы с ним. «Любой рассказ должен содержать жестокую борьбу добра со злом и заканчиваться посрамлением темного и злого начала», – так, по воспоминаниям писателя В. Дмитриевского, формулировал позднее свое творческое кредо Грин.[167]
Сколько бы много в мире ни было зла, с ним надо жить и внутренне его побеждать. В предреволюционном творчестве Грина это звучит почти как аксиома. Это очень хорошо сказалось еще в рассказе 1913 года с замечательным афористическим названием «Человек с человеком», главный герой которого Аносов говорит об особенных людях, «людях – увы! – рано родившихся на свет», потому что «человеческие отношения для них – источник постоянных страданий, а сознание, что зло, – как это ни странно, – естественное явление, усиливает страдание до чрезвычайности».
Эти восстающие против мирового зла люди, по Грину, – уникальны, и хотя частичка их присутствует в каждом человеке, в «чистом» виде они почти не встречаются: «Редко, реже, чем ранней весной – грозу, приходится видеть людей с полным сознанием своего человеческого достоинства, мирных, но неуступчивых, мужественных, но ушедших далеко в сознании своем от первобытных форм жизни. Я дал их точные признаки; они, не думая даже подставлять правую для удара щеку, не прекращают отношений с людьми; но тень печали, в благословенные, сияющие, солнечные дни цветущего острова Робинзона, сжимавшей сердце отважного моряка, всегда с ними, и они вечно стоят в тени. „Когда янычары, взяв Константинополь, резали народ под сводом Айя-Софии, – говорит легенда, – священник прошел к стене, и камни, раздвинутые таинственной силой, скрыли его от зрелища кровавой резни. Он выйдет, когда мечеть станет собором“. Это – легенда, но совсем не легенда то, что рано или поздно наступит день людей, стоявших в тени, они выйдут из тени на яркий свет, и никто не оскорбит их».
Рассказ этот замечателен тем, что здесь Грин находит или пользуется художественным образом, противостоящим мировому злу, создает антитезу своим ранним горьким рассказам и фактически рисует портрет идеального, по его представлениям, человека, который, впрочем, при внимательном чтении не вполне соответствует поэтическому образу из легенды, приведенной выше, и это расхождение очень показательно.
Аносов рассказывает о том, как однажды петербургской ночью, в приступе отчаянья, он попытался покончить с собой по причине голода, но был в последний момент остановлен неким человеком, который не только спас его от смерти, но и научил жизни.
Люди тупы, жестоки и злы по отношению друг к другу? – Да, но на это не стоит обращать внимания.
Просить милостыню, если вы голодны и у вас нет работы, стыдно? – Ничего подобного.
И наконец, заключительная мораль, которую формулирует гриновский совершенный человек образца 1913-го года:
«– Человеку нужно знать, господин самоубийца, всегда, что он никому на свете не нужен, кроме любимой женщины и верного друга. Возьмите то и другое. Лучше собаки друга вы не найдете. Женщины – лучше любимой женщины вы не найдете никого. И вот, все трое – одно. Подумайте, что из всех блаженств мира можно взять так много и вместе с тем мало – в глазах других. Оставьте других в покое, ни они вам, ни вы им, по совести, не нужны. Это не эгоизм, а чувство собственного достоинства. Во всем мире у меня есть один любимый поэт, один художник и один музыкант, а у этих людей есть у каждого по одному самому лучшему для меня произведению: второй вальс Гадара; „К Анне“ – Эдгара По и портрет жены Рембрандта. Этого мне достаточно; никто не променяет лучшего на худшее. Теперь скажите, где ужас жизни? Он есть, но он не задевает меня. Я в панцире, более несокрушимом, чем плиты броненосца. Для этого нужно так много, что это доступно каждому, – нужно только молчать. И тогда никто не оскорбит, не ударит вас по душе, потому что зло бессильно перед вашим богатством. Я живу на сто рублей в месяц.
– Эгоизм или не эгоизм, – сказал я, – но к этому нужно прийти.
– Необходимо. Очень легко затеряться в необъятном зле мира, и тогда ничто не спасет вас. Возьмите десять рублей, больше я не могу дать.
И я видел, что более он действительно не может дать, и просто, спокойно, как он дал, взял деньги. Я ушел с верой в силу противодействия враждебной нам жизни молчанием и спокойствием. Чур меня! Пошла прочь!»
Три года спустя, в 1916-м, формула закованной в броню личности, которая отгоняет от себя враждебную жизнь, Грина не устроит. Свидетельство нового отношения Грина к отчужденности человека – рассказ «Возвращенный ад».
Главный герой этого рассказа журналист Галиен Марк, раненный на дуэли, теряет способность к обостренному восприятию мира и погружается в блаженное оцепенение. «Великолепное, ни с чем не сравнимое ощущение законченности и порядка в происходящем теплой волной охватило меня», и это новое состояние совершенно не похоже на то, что испытывал герой раньше, когда все вокруг его «волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить, писать тысячи статей, страдая и проклиная, – что за ужасное время!».
И вот теперь этого мрака нет, герой свободен, но… счастлив ли?
«Грин уходит от этой пытки сознания в мир мечты и разгула, – писала Вера Павловна Калицкая, бывшая прототипом Визи, преданной любовницы Галиена Марка. – Разгул истощает и мозг и тело, и это истощение Грин опять-таки сознает».[168]
Грин отнимает у такого человека любовь и уважение Визи, и страх потерять ее возвращает его к «старому аду – до конца дней». В действительной жизни все было совсем не так, но литература тем и была для Грина хороша, что позволяла дописывать то, что не удавалось сделать наяву. Грин не строил свою жизнь на манер литературного произведения, как предписывали неписаные законы символистского либо романтического жизнетворчества. Напротив, литература была для него противоположностью жизни, второй реальностью, но это не означало ухода от первой. В 1914–1917 годах его трудно было бы упрекнуть в бегстве от действительности, он как будто наигрался в приключения и робинзонады, в Таргов и Горнов, отдал дань «демонизму», и что-то очень важное происходило с ним в годы войны, которую он остро переживал.
Человек обречен страдать от несовершенства мира и окружающего зла, это страдание есть единственная возможная форма существования. Но человек не пассивен. «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за ними в бой». Эти слова Фауста можно было бы отнести пусть не к самому Грину, но к его героям, хотя бы в том же «Зурбаганском стрелке».
«Если бы А. С. Грин был только пошлым прожигателем жизни, только искателем сильных ощущений, то стал бы действительно лишь авантюрным, незначительным писателем, – признавала и Калицкая. – Но „тучи строжайших проблем“ всегда заволакивали, вопреки его воле, его небо, будили мысль и наполняли ее тревогой и исканием правды… У А. С. Грина была огромная потребность в искренности с собой, потребность ценная и очищающая».[169]
Именно об этой потребности идет речь в рассказе, который называется «Повесть, оконченная благодаря пуле». Это своего рода рассказ в рассказе. Главный герой писатель Коломб пишет повесть об анархисте и его возлюбленной, которые хотят совершить самоубийство в толпе на карнавале. «Анархист и его возлюбленная замыслили „пропаганду фактом“. В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и, одетые в пестрые праздничные костюмы, едут к городской площади, в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной, среди веселого гула, короткой и страстной речи, они бросают снаряд, – месть толпе, – казня ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель; напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу».
Но в последний момент девушка передумывает.
«Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы – человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, просто, но, по существу, глубоко человечной жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом».
Смерти опять противопоставляется, казалось бы, обывательская жизнь, но это не вызывает осуждения у Грина. Скорее его волнует другое – причина, по которой происходит переход от одного состояния человеческой души к другому. Та же сюжетная коллизия разрабатывалась в ранней повести «Карантин», но там все определялось эротическим томлением главного героя. Здесь же Грин решает задачу совершенно иначе. Его герой-писатель ищет причину, почему девушка так поступает. Разочарование? Нерешительность? Страх? Все это он отметает как слишком мелкое и недостойное ее. Для того чтобы дойти до сути, Коломб – авторское альтер эго – едет на войну и попадает в ситуацию между жизнью и смертью, которую позднее экзистенциалисты, которых Грин во многом предвосхитил, назовут пограничной. На войне он получает ранение и вместе с раной ему открывается истина, которую он пытался найти за письменным столом и которая является своего рода манифестом Александра Грина и очень важным человеческим документом.
Грин благословляет теперь уже не просто Жизнь, но жизнь осознанную, осмысляемую, жизнь, имеющую цель, и в этом смысле уходит от замкнутого индивидуализма и инфантилизма своих ранних рассказов и характеров героев, которые над жизнью не задумывались вовсе, как Гнор из «Колонии Ланфиер», или лучше бы не задумывались, как Лебедев-Гинч. Герой Грина переживает ситуацию прозрения, духовного роста.
«Он знал уже, что рана сквозная, и, хотя это обстоятельство говорило в его пользу, – ждал смерти. Он не боялся ее, но ему было жалко и страшно покидать жизнь такой, какой она была. Потрясение, нервность, торжественная тьма леса, внезапный переход тела от здоровья к страданию – придали его оценке собственной жизни ту непогрешимую суровую ясность, какая свойственна сильным характерам в трагические моменты.
Несовершенства своей жизни он видел очень отчетливо. В сущности, он даже и не жил по-настоящему. Его воля, хотя и бессознательно, была всецело направлена к охранению своей индивидуальности. Он отвергал все, что не отвечало его наклонностям; в живом мире любви, страданий и преступлений, ошибок и воскресений он создал свой особый мир, враждебный другим людям, хотя этот его мир был тем же самым миром, что и у других, только пропущенным сквозь призму случайностей настроения, возведенных в закон. Его ошибки в сфере личных привязанностей граничили с преступлениями, ибо здесь, по присущей ему невнимательности, допускалось попирание чужой души, со всеми его тягостными последствиями, в виде обид, грусти и оскорбленности. В любви он напоминал человека, впотьмах шагающего по цветочным клумбам, но не считающего себя виновным, хотя мог бы осветить то, что требовало самого нежного и священного внимания. Это был магический круг, осиное гнездо души, полагающей истинную гордость в черствой замкнутости, а пороки – неизбежной тенью оригинального духа, хотя это были самые обыкновенные, мелкие пороки, общие почти всем, но извиняемые якобы двойственностью натуры. Его романы тщательно проводили идеи, в которые он не верил, но излагал их потому, что они были парадоксальны, как и все его существо, склонное к выгодным для себя преувеличениям».
Удивительно, но Грин действительно пишет здесь о себе, о всех слабых и уязвимых сторонах своего таланта. Пишет беспощадно, искренне, далеко заглядывая вперед и отрицая тот путь, по которому все равно пойдет, ибо не захочет измениться.
«Жизнь в том виде, в каком она представилась ему теперь, казалась нестерпимо, болезненно гадкой. Не смерть устрашала его, а невозможность, в случае смерти, излечить прошлое.
„Я должен выздороветь, – сказал Коломб, – я должен, невозможно умирать так“. Страстное желание выздороветь и жить иначе было в эти минуты преобладающим.
И тут же, с глубоким изумлением, с заглушающей муки души радостью, Коломб увидел, при полном освещении мысли, то, что так тщетно искал для героини неоконченной повести. Не теряя времени, он приступил к аналогии. Она, как и он, ожидает смерти; как он, желает покинуть жизнь в несовершенном ее виде. Как он – она человек касты; ему заменила живую жизнь привычка жить воображением; ей – идеология разрушения; для обоих люди были материалом, а не целью, и оба, сами не зная этого, совершали самоубийство.
– Наконец-то, – сказал Коломб вслух пораженному Браулю, – наконец-то я решил одну психологическую задачу – это относится, видите ли, к моей повести. В основу решения я положил свои собственные теперешние переживания. Поэтому-то она и не бросила снаряд, а даже помешала преступлению».
«Повесть, оконченная благодаря пуле» была опубликована в майском номере журнала «Отечество» за 1914 год. То был рассказ – предчувствие войны. Как и все лучшее, написанное Грином в этот период, он возвращался к теме искусства и жизни, которая не отпускала писателя так же, как не отпускала еще совсем недавно партия эсеров. Война внесла в эту тему свою правку.
В рассказе «Баталист Шуан» описан разоренный город, где живут мародеры, выдающие себя за умалишенных. Это вдохновляет художника Шуана написать картину об ужасах и безумии войны. Когда обман раскрывается и жертвы войны оказываются обыкновенными преступниками, художник понимает, что картины не будет, но это не огорчает его. «И кто из нас не отдал бы всех своих картин, не исключая шедевров, если бы за каждую судьба платила отнятой у войны невинной жизнью».
Но вот что любопытно: даже в многочисленных своих рассказах о войне Грин никогда не переносит действие на Восточный фронт, все они – «Бой на штыках», «Судьба первого взвода», «Ночью и днем», «Забытое» – происходят либо на Западном фронте, во Франции, либо вообще непонятно где. Трудно сказать, испытывал ли Грин нечто похожее на желание поражения своему Отечеству, но патриотического восторга, переживаемого значительной частью интеллигенции, он точно не знал. И когда в «Охоте на Марбруна», едва ли единственном «русском» рассказе на тему Первой мировой, повествователь восклицает: «Москва!
Сердце России! Я вспомнил твои золотые луковицы, кривые переулки, черные картузы и белые передники, сидя в вагоне поезда, бегущего в Зурбаган», – эта патетика отдает фальшью. Зурбаган ему куда милее. Однако в столкновении Германии и Франции предпочтение Грин отдавал последней. (К слову сказать, там же, во Франции, только не виртуальной, а реальной, находился и на ее стороне воевал Борис Савинков, перед тем как в 1917-м вернуться в Россию.) Франция в эти годы становится для Грина чем-то вроде филиала Гринландии. Во всяком случае именно там происходит действие рассказа «Рене» – еще одной несомненной художественной удачи Грина-новеллиста.
Рассказ «Рене» хорош своей укорененностью в литературную традицию. Сюжет о том, как любовь между узником и дочерью начальника тюрьмы помогает заключенному бежать на свободу, существовал в литературе давно: и у Байрона, и у Стендаля, и у Пушкина, и у Лермонтова, но Грин придает ему совершенно неожиданный поворот.
Рене – это имя молодой девушки, чья мать умерла родами, и девочке давали воспитание арестанты, один из которых был «поэт, погубивший свою будущность убийством любовника жены».
Благодаря ли такому специфическому образованию и окружению или же просто от рождения, Рене была весьма своеобразным и весьма инфантильным созданием и, как сказал бы современный психолог-педагог, воспитание получила самое отвратительное.
«Характер ее был замкнутый и печальный. Привычка к чтению, к красивой идеализованности изображаемой жизни создавала в ее душе вечный разлад с действительностью, мелочно хаотичной и скудной. Ее мечтой было яркое возрождение, взрыв чувств и событий, восстание во имя несознанного блаженства.
Шамполион властно занял пустое место ее сознания, место, где должен был гудеть колокол чувств, направленных к означенной цели. Она мало думала об его убийствах. Это были слишком заурядные факты во всем ансамбле необыкновенной биографии. Его преступный авантюризм слишком поражал внимание для того, чтобы укладываться в какиелибо позорящие определения».
В сущности, весь этот пассаж можно рассматривать как своего рода проекцию на детство и молодость самого Грина, где Шамполион – чья фамилия несколько напоминает имя известного французского императора – замещает партию революционеров, соблазнившую душу Грина и толкнувшую его на путь преступления подобно тому, как сама Рене пойдет на преступление против отца, освободив преступника из тюрьмы.
Но все же Шамполион – не партия, а чувство Рене к толкнувшему ее в грязь человеку, который использовал девушку для побега из тюрьмы и не имел более никаких на нее видов – чувство это: любовь. Когда ее любовь оказывается жестоко поругана, а уволенный из тюрьмы по вине дочери отец спивается, Рене становится проституткой, потом выходит замуж за дряхлого богача и после его смерти остается состоятельной вдовой Полиной Турнейль, которую ничего не подозревающий Шамполион берет в любовницы. Он не смотрит отныне на других женщин и совершенно уверен в ее преданности, не зная того, что ее жизнь подчинена одному – запихнуть негодяя в ту самую тюрьму, откуда она помогла ему бежать. Этого Рене успешно добивается, подкупив его друзей и превратив их в своих шпионов. Кульминацией сюжета является сцена, когда в тюремную камеру, откуда Шамполион бежал, приходит любовница и снимает маску. Пораженный, уязвленный этим предательством и понимающий его причины, он одной фразой перечеркивает месть Рене.
«– Знайте, – сказал он, помедлив и смеясь так презрительно, как смеялся в лучшие дни своего блестящего прошлого, – я снова оттолкнул бы вас… туда!.. прочь!..»
Его казнят, а она казнит себя сама – кончает жизнь самоубийством. Потому что ничего не может поделать со своей любовью и без негодяя Шамполиона ей не жить. Жестокий романс и только. Но это – Грин. Зрелый, жесткий, умелый, профессионально оперирующий романтизмом и увлекающий читателя. Как справедливо сказано в одной из современных работ, посвященных этому рассказу, «казнь в тюрьме – это наказание не только за грабежи и убийства, но и за преступление Шамполиона против любви, наказание за разрушенную юную жизнь».[170]
Преступление, в котором, можно было бы добавить, преступник так и не раскаялся.
В это же время Грин пишет «Создание Аспера» – эстетский рассказ, где обыгрываются мотивы жизнетворчества и литературные мистификации, которыми славился Серебряный век. Главный герой этого рассказа судья Гаккер много лет живет двойной жизнью, создавая не «внутренний мир художественного воображения», как это делают обычные писатели, а – «живых людей» или, как мы сказали бы сегодня – людей виртуальных. Гаккер выдумывает трех персонажей, которые мистифицируют и будоражат городскую общественность, и в выборе по крайней мере первых двух можно увидеть следы литературной полемики. Не принятый в «большую литературу» Грин редко вмешивался в литературные игры и розыгрыши современников, но «Создание Аспера» – как раз тот самый случай.
Первый образ – «Дама под вуалью», таинственная женщина, которая приходит к прокурору города для секретных разоблачений и, покуда слуга ходит с докладом, благополучно скрывается. В газетах пишут, что эта дама – любовница министра, морганатическая жена великого князя, шпионка, наконец, ее объявляют Марианной Чен, «полубольной сестрой капитана Чена, женщиной, которой чудилось, что она знает всегда и везде правду». Но для читателей того времени была очевидна отсылка к образу Черубины де Габриак, мифической поэтессы, созданной фантазией Волошина и Дмитриевой в 1909 году. Ее стихами зачитывался Петербург, в нее был заочно влюблен редактор журнала «Аполлон» Маковский, ее разоблачение послужило причиной дуэли между Волошиным и Гумилевым.
Гриновская Марианна Чен не поэтесса, а «символ всего темного, что есть в каждом запутанном и грозном для множества людей деле», зато следующее создание Гаккера, Теклин – поэт, от имени которого Гаккер печатает посредственные стихи: «Это писатель из народа, а художественные требования, предъявляемые самородкам, не превышают обычного, терпимого уровня; продуктивность их и демократические симпатии обеспечивают им весьма часто жирную популярность… Теклин продолжал писать строго-идейные в социальном смысле стихи; здоровая поэзия его удовлетворяла широкие слои общества, а слава росла».
И наконец, третий персонаж – разбойник Аспер, «тип идеализированного разбойника, романтик, гроза купцов, друг бедняков и платоническая любовь дам, ищущих героизм везде, где трещат выстрелы».
Последняя выдумка оказывается самой успешной и больше всего поражает горожан, что, по мнению Аспера, вполне понятно:
«Потребность необычайного – может быть, самая сильная после сна, голода и любви; писатели всех стран и народов увековечили в произведениях своих положительное отношение к знаменитым разбойникам. Картуш, Морган, Рокамболь, Фра-Диаволо, волжский Разин – все они как бы не пахнут кровью, и мысль человека толпы неудержимо тянется к ним, как тянется, визжа от страха, щенок к медленно раскачивающейся голове удава».
Но и плата за успех оказывается слишком высокой. Автор вынужден погибнуть вслед за героем, или, точнее, вместо героя, чтобы оправдать свой замысел. По сути, выходит притча, смысл которой изложен в заключительном диалоге между рассказчиком и Гаккером.
«– Но ведь Жизнь стоит больше, чем Аспер; подумайте об этом, друг мой.
– У меня особое отношение к жизни; я считаю ее искусством: искусство требует жертв; к тому же смерть подобного рода привлекает меня. Умерев, я сольюсь с Аспером, зная, не в пример прочим неуверенным в значительности своих произведений авторам, что Аспер будет жить долго и послужит материалом другим творцам, создателям легенд о великодушных разбойниках. Теперь прощайте. И помолитесь за меня тому, кто может простить».
Так опять возникает гриновская тема жизни-смерти, но на этот раз герой выбирает смерть, потому что того требует творчество, а не революция, как десять лет назад. Вот, если угодно, итог исканий Грина в первое десятилетие его литературного пути.
В противовес творчеству жизни то, что делает герой Грина в «Создании Аспера», можно было бы назвать творчеством смерти.
«– Друг мой, – заговорил Гаккер, – высшее назначение человека – творчество. Творчество, которому я посвятил жизнь, требует при жизни творца железной тайны».
От создателя Аспера творчество потребовало смерти. На дворе стоял семнадцатый год.
Глава IX
КРАСНЫЕ И АЛЫЕ ПАРУСА
Отношение Грина к революции долгое время оставалось одной из самых сознательно запутанных страниц его жизни, и мнения исследователей тут расходились. Одни считали, что Грин был более революционен, другие, что менее, но высказывать все до конца не давала цензура, точно так же, как теперь верно расставить акценты порой мешает конъюнктура.
Когда в недавней очень толковой статье Алексея Вдовина «Миф Александра Грина» читаем про нашего героя, что «от социальных потрясений он спасался в тихой заснеженной Финляндии или цветущем Крыму. Верный инстинкт писателя позволял ему вовремя отойти в сторону. Это в конечном итоге и помогло Грину создать свой мир и свой миф»,[171] – звучит это красиво, но не совсем точно, ибо наслаивает миф на миф. Мифы с противоположным знаком, придуманные в 60-е годы Вл. Сандлером и Э. Алиевым, напротив, представляют Грина писателем революционным, изображавшим Февральскую революцию сатирически, а Октябрьскую приветствовавшим, «глубже воспринимавшим революционные события, чем кажется на первый взгляд», и верящим в «неизбежность нового революционного переворота».[172]
А потому лучше всего обратиться к фактам и текстам.
Известно, что в декабре 1916-го Грин был выслан из Петрограда за непочтительный отзыв о царе и уехал в «тихую заснеженную Финляндию», известно также его негативное отношение к Распутину. О последнем вспоминает СоколовМикитов: «Как-то на перроне Царскосельского вокзала встретился нам Распутин. Мы узнали его по фотографиям, печатавшимся в тогдашних журналах, по черной цыганской бороде, по ладно сшитой из дорогого сукна поддевке. Грин не удержался и отпустил какое-то острое словечко. Распутин посмотрел на нас грозно, но промолчал и прошел мимо».[173]
Не исключено, что между этими фактами есть связь и, так же не удержавшись, Грин сказал в общественном месте «острое словечко» про государя. Тогда это было модно.
Некоторый свет на отношение Грина к павшему дому Романовых проливает небольшой рассказ 1917 года «Узник Крестов», в котором повествуется о наборщике Аблесимове, который в предложении: «Его Величество Государь Император Николай II ровно в 12 ч. проследовал в Иверскую часовню» ошибся при наборе в первой букве в слове «ровно», отчего фраза получила «совершенно циничный и оскорбительный для императорской особы смысл». За это Аблесимов отсидел в тюрьме 22 года.
«Я пропадаю за букву „г“! – вскричал он и умер, проклиная правительство».
Правда это или – что более вероятно – анекдот, в любом случае монархистом Александр Степанович не был с той поры, как изготовлял в Вятке бумажные фонарики к коронации последнего русского императора, а потому, когда произошла Февральская революция, не только что не отсиживался в своей ссылке в финском местечке Лоунатйоки, но пришел в Петроград пешком. Он написал об этом путешествии и вхождении в бурлящую имперскую столицу очерк «Пешком на революцию», в конце которого говорилось о «волнах революционного потока» и стройно идущих полках «под маленькими красными значками». Тогда же это настроение отразилось в стихах:
- В толпе стесненной и пугливой,
- С огнями красными знамен,
- Под звуки марша горделиво
- Идет ударный батальон.
Или в таких:
- Звучат, гудят колокола,
- И мощно грозное их пенье…
- Гудят, зовут колокола
- На светлый праздник возрожденья.
- Пусть рухнет свод тюремных стен,
- Чертоги сытого богатства,
- И узники покинут плен.
Революционный батальон все шел, революционные колокола все звонили, а жизнь становилась труднее, и энтузиазма оставалось все меньше. Соколов-Микитов очень осторожно вспоминает то время: «Встречи наши были короткими. Помню наши разговоры. Все мы жили тревогами и надеждами тех дней. В Петрограде было беспокойно. Люди ждали событий, конца продолжавшейся войны. Грин скупо рассказывал, что пришел в Петроград из Финляндии. Лицо его еще больше осунулось – уже сильно сказывалась нехватка продовольствия. Но он живо ко всему присматривался, прислушивался».[174]
Двойственность в отношении к Февральской революции отразилась в небольшом рассказе Грина «Маятник души», где, как часто у автора бывает, сталкиваются две позиции – героя и рассказчика.
Первая, минорная – позиция обывателя по фамилии Репьев, на которого революция навевает ужас: «Я ждал, что испытаю историческую влюбленность в это вот настоящее и получу счастье волшебника, отпирающего маковым зерном дворцы и храмы. Однако я отлично видел, у кого на сапоге дырка, кто пьет валериановые капли и кто где достает масло; видел, что идет дождь, что дворники метут улицы и что ноги от ходьбы устают совершенно так же, как уставали они при Цезаре или Марате. Я привык к выстрелам, холодно рассуждаю о голодовках и даже цепелинная бомба, разорвись она на полгорода, весьма умеренно заставила бы меня вздрогнуть. И стало мне так же скучно, как во времена дремлющего на солнцепеке городового, пожарной каски среди кухонного стола и острополитических маевок, с гимназической их любовью и распеванием стихов Некрасова».
Вторая, мажорная – позиция рассказчика, которую едва ли можно отождествлять с авторской и которая при публикации рассказа в журнале «Республика» была опущена: «Через неделю я получил известие, что Репьев застрелился. Мне не было его жалко. Он шел путем зрителя. Между тем грозная живая жизнь кипела вокруг, сливая свою героическую мелодию с взволнованными голосами души, внимающей ярко озаренному будущему».
Так возникает эффект двуголосия, столкновение двух взглядов, и какой из них ближе автору – большой вопрос, но все же к осени 1917 года позиция Грина проясняется и окончательно меняется в сторону полного разочарования в революции. За неделю до октябрьского переворота в газете Амфитеатрова «Вольность», известной своими – как говорилось в советское время – реакционными взглядами, Грин публикует рассказ «Восстание», действие которого происходит в Зурбагане. Там также строятся баррикады и два вождя – Президион и Ферфас борются за власть и голоса избирателей. Однако народ голосует «против всех», оба кандидата кончают с собой, а через некоторое время новый Ферфас и новый Президион начинают все заново. Авторская мысль выражена совершенно определенно: все революции бессмысленны, потому что представляют собой движение истории по кругу. Замечательно, что та же самая мысль о бессмысленности социальных переворотов прозвучала и в написанном в том же 1917 году рассказе «Рене»: «Какой заговор изменил сущность мира? Коллар, оставь политику, пока не ушла жизнь».
В написанном за год до этого рассказе «Огонь и вода» оппозиционер Леон Штрих, вынужденно живущий за пределами Зурбагана и разлученный с семьей, проклинает себя за то, что занялся политической борьбой:
«Он жил только семьей; жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких; часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытьи с ними как с присутствующими. Временами он принимался бранить себя за то, что ввязался в политику – с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника».
Эти настроения Грина вряд ли стоит считать минутными. Минутным был скорее февральский восторг, и с утверждением Вадима Ковского: «Как эсеры в свое время показались ему единственно возможной революционной силой, так и буржуазно-демократическая революция была принята им за единственно возможную и окончательную»[175] – можно согласиться только в том случае, если подчеркнуть недолговечность этого взгляда. Как очень остроумно заметил некогда Пришвин, также приветствовавший революцию Февральскую и проклявший Октябрьскую: «Святая ложь февральских любовников и гнусная правда октябрьского вечного мужа».[176]
Нечто подобное можно найти и у Грина. Причем скорее в стихах, нежели в прозе. Вот стихотворение «В Петрограде осенью 1917 года».