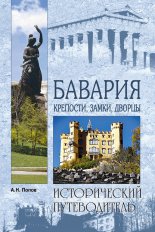Источниковедение Коллектив авторов

Для провинциального чиновника конца XVIII в. характерно сочетание извечного чиновничьего превосходства и определенной социальной ущербности, с психологической точки зрения не столь уж редкое и вполне понятное. Свидетельством осознания мелкими чиновниками своей социальной значимости выступают их мемуары, причем не только, а может быть, и не столько содержание, сколько сам факт писания, однозначно говорящий о самоосознании личности. Значительный интерес представляют мемуары П. С. Батурина, Г. С. Винского, Г. И. Добринина, Т. П. Калашникова, Ф. П. Лубяновского, И. И. Мешкова, Ф. П. Печерина, М. С. Ребелинского, Я. И. де Санглена, Л. А. Травина, И. А. Тукалевского, B. C. Хвостова[398].
Чувство чиновничьего превосходства во многом основывалось на осознании феномена могущества канцелярии. Глубокие размышления или отдельные наблюдения на эту тему можно найти у многих мемуаристов. Например, П. С. Батурин писал: «При первом моем входе в судилище я почувствовал некое священное движение в душе моей, происходящее от воображения, что от должности судящих зависит благосостояние и жизнь человека»[399].
Но далее Батурин, подробно описывая порядки в учреждении, показал, что реальная власть была у секретаря канцелярии и основывалась она, по мнению мемуариста, на исключительном преимуществе знания законов, с которыми чиновники присутствия обычно не имели охоты знакомиться; а те же, кто хотели это сделать, включая и самого Батурина, наталкивались на сопротивление канцелярии: «Секретари, хотя имели некоторыя собрания под названием“ Свода законов”, но они с ревностию хранили их от желающих познать оныя, а паче от присутствующих, подобно древним Гиерофантам, хранившим тайны свои, дабы не потерять уважения от несмышленных; так и секретари судебных мест, дабы они могли руководствовать в делах судящими и быть указателями законов, по мере прибыли, им от такого присвоения приносящей, укрывали законы от присутствующих».
Описывая те препятствия, с которыми ему пришлось столкнуться при стремлении изучить законодательство, П. С. Батурин отмечает и такое: «В каком источнике оное познание черпать надлежало, мне было не известно, ибо законов печатных не много тогда было и те, кроме некоторых указанных книг, печатны были порознь и не во всяком присутственном месте находились»[400].
Это свидетельствует о малой эффективности усилий правительства, направленных на публикацию законодательных актов, предусмотренную, в частности, еще объявленным из Сената указом от 16 марта 1714 г. «О обнародовании всех именных указов и Сенатских приговоров по Государственным генеральным делам». Но поскольку, согласно именному указу от 22 января 1724 г. «О важности государственных уставов и о не отговорке судьям неведением законов по производимым делам под опасением штрафа», незнание закона чиновником рассматривалось как преступление, члены присутствия всячески старались продемонстрировать свою компетентность. Например: «Председатель притворялся, будто он читаемое дело разумеет, а когда доходило до выписок под экстрактами из законов, тогда он читать их не приказывал, желая через то показать, что он законы и без читания знает…»[401]
Естественно, что при таком отношении членов присутствия служащие канцелярии ощущали свою значимость, несмотря на невысокие чины.
Основания для особого самоощущения чиновников в сравнении с другими представителями покинутой ими социальной группы (мещанами, купцами, детьми священников) давала перспектива повышения социального статуса с получением очередного чина – вплоть до потомственного дворянства с чином коллежского асессора (VIII класс), открываемая перед чиновником петровской Табелью о рангах. Чин выступает для государственного служащего как ценность, равноположенная, а иногда и более значимая, чем жалованье: «В России человек без чина, – утверждает Г. И. Добринин, – человек без звания»[402]. Однако здесь выходцев из непривилегированных сословий ждало разочарование. При чинопроизводстве явное предпочтение отдавалось дворянам, что прекрасно осознавали все государственные служащие. В частности, Ф. П. Печерин, описывая получение им чина коллежского асессора в 1806 г., отмечал: «Причиною моего долговременного бытия в 9 классе непредставление, отчасти по безпечности, грамоты на дворянство или достаточного свидетельства о службе предков»[403].
И это заставляло приподнявшегося над своим сословием купца или сына священника постоянно ощущать свою ущербность. Особенности самосознания провинциальных чиновников – выходцев из непривилегрованных сословий нашли отражение в их мемуарах, где они уделяли значительное внимание вопросам чинопроизводства и вознаграждения за службу, фактически свидетельствуя о действенности законодательных усилий правительства, направленных на сохранение дворянского характера государственного аппарата. Так, И. И. Мешков пишет о конце 80х годов: «Классных же чинов гражданским чиновникам тогда не давали, по случаю приостановления производства года на четыре, по протесту обер-прокурора Правительствующего сената Колокольцева, так как оно шло безпорядочно и неуравнительно: ибо я помню, что иные по два чина в год получали, а другие и в несколько лет ни одного. Поэтому-то впоследствии и вышел известный указ 1790 г. о терминах на все чины до надворного советника включительно».
Он также отмечает эффективность и другой законодательной нормы, связанной с чинопроизводством: «…чинов в то время никому не давали, кроме как на вакансии»[404]. По принятии указа от 16 декабря 1790 г., по свидетельству другого мемуариста Я. И. де Санглена, награждение чинами происходило, как правило, «не по знанию, не по достоинству, а по назначению и старшинству»[405], что вполне соответствовало принципам указа этого законодательного акта. В целом мемуаристы отмечают эффективность названного указа и четкость порядка чинопроизводства после его издания. Пожалуй, лишь В. Ф. Малиновский в своих мемуарах пишет о торговле чинами (правда, не в провинции, а в Петербурге) и по слухам приводит даже такой неприглядный факт: «Ныне слышал, что одному коллежскому секретарю захотелось асессорского чина. У него была дочь красавица. Ему сказали, что если ее отпустить на ночь к (ген. ад.) А. Б., то ему будет чин. Он отпустил дочь и за ея честь получил чин»[406]. Но, на наш взгляд, такие свидетельства В. Ф. Малиновского скорее можно объяснить плохим характером мемуариста.
Часто, сетуя на задержку чинопроизводства, мемуаристы обращают внимание на привилегированное положение дворян, которые могли начинать службу на военном поприще или служить по выборам. Интересно в этом плане свидетельство Я. И. де Санглена: «Тогда ни единый дворянин не начинал службы с коллежского регистратора, разве больной, горбатый и проч., и переходил в статскую по крайней мере в штаб-офицерском чине…»[407].
И. И. Мешков, описывая в своих «Записках…» баллотировку уездного предводителя дворянства, отмечает: «Особливого примечания заслуживает оказавшееся при открытии губернии рвение дворянства служить по выборам: каждый за особливую себе честь поставлял быть избранным в какую-либо должность»[408].
Правда, у выходцев из непривилегированных сословий была возможность ускорить чинопроизводство. И эта возможность не осталась незамеченной мемуаристами. B. C. Хвостов, в частности, так описывал набор чиновников для службы в Иркутской губернии: «Для поощрения же, чтобы туда ехали люди способные, испросили по два чина; следовательно, сделался я из капитанов надворным советником и был определен советником в гражданскую палату…»[409].
Кстати, то, что в качестве поощрения за службу используется преимущественное чинопроизводство, а не повышенное жалованье, весьма примечательно.
Вопросы вознаграждения за службу также занимали мемуаристов. Значительное место в мемуарах чиновников уделяется денежному жалованью. Г. С. Винский, отмечая, что «умножение судейских мест <…> открыло многим бедным семействам средства к существованию», пишет, что «жалованье по тогдашнему времени назначено было довольно достаточное»[410]. Как вполне достаточное оценивали свое жалованье сами чиновники. Т. П. Калашников в мемуарах, описывая получение им жалованья при поступлении на службу, пишет: «…первой раз за первую треть получил я жалованье 93 копейки – великая для меня сумма». И, конечно же, для мелких канцелярских служащих весьма ощутима была прибавка жалованья при занятии более высокой должности. Тот же Т. П. Калашников замечает: «…в 21 апреля 1776 года сделан был подканцеляристом, а с чином и жалованья уже стал получать 60 рублей в год»[411].
Получение жалованья считает значимым фактом своей жизни титулярный советник М. С. Ребелинский. 15 сентября 1794 г. он записывает в дневнике: «Жалованья получил 82 р. 10 к. в треть»[412]. О жалованье как о единственном источнике существования пишет и И. И. Мешков, правда, применительно уже к началу XIX в.: «Без должности оставаться было мне невозможно, так как у нас с женою особенных средств к жизни не было, и мы жили одним только моим жалованьем»[413].
Итак, в мемуарах основное внимание уделяется вопросам службы, особенно чинопроизводства, и получения жалованья. Однако никакого стремления запечатлеть ход истории или хотя бы какие-нибудь исторические реалии здесь не обнаруживается.
В XIX в. мемуары-автобиографии отходят на второй план, будучи оттесненными мемуарами – «современными историями», и в дальнейшем общественный интерес вызывают (а значит, становятся широко известными) мемуары-автобиографии преимущественно творческих деятелей, хотя механизм отбора фактов изменяется под усиливавшимся влиянием социальной среды.
2.10.6. Эссеистика
Эссе – вид исторических источников, предназначенных для передачи уникального опыта индивидуума в коэкзистенциальном целом. Эссеист излагает свое мнение по произвольно выбранной им или по общественно значимой проблеме. Существенно важно, что, в отличие от публициста, эссеист не выступает от имени какой-то социальной группы.
Эссеистика как вид исторических источников Нового времени восходит к «Опытам» М. Монтеня (1581), в которых он сообщает свое мнение по самым разным проблемам, например о скорби, о стойкости, об уединении. В предисловии «К читателю» Монтень пишет:
Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги – доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги – я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!
Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года[414].
Если ориентироваться только по этому обращению, вполне можно принять произведение Монтеня за мемуары. Действительно, Монтень излагает свой личный опыт, однако в его произведении почти отсутствует ретроспективная информация.
Эссеистика получила весьма широкое распространение в Западной Европе; в дальнейшем она выступала в том числе и как форма научного гуманитарного произведения (например, «Опыт о даре» М. Мосса).
В России этот вид исторческих источников был распространен чрезвычайно мало. Лучшим свидетельством тому может служить отсутствие в русском языке слова для адекватного перевода французского слова essai (его переводят то как «опыт», то как «очерк»). По-видимому, первые, весьма немногочисленные, произведения этого вида появились в России в начале XIX в. – например, «Избранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя или «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Но очень быстро эссеистика была подавлена публицистикой, личностная позиция подчинена общественному интересу. Впоследствии эссеистика осталась как один из философских жанров. Примеры произведений такого жанра – «Уединенное» В. В. Розанова, «Роза мира» Д. Л. Андреева и др.
В целом отсутствие развитой эссеистики, в частности в литературной, научной и философской сфере, – характерная особенность структуры российской источниковой базы. Осознание этого факта позволяет лучше понять российскую ментальность, характер взаимосвязи личности и общества.
2.10.7. Исповедь
Исповедь – вид философских произведений, утверждающих уникальность человеческой индивидуальности. Такое предназначение данного вида исторических источников сближает его с эссеистикой.
Жанр исповеди нельзя отнести к распространенным, но он принципиально важен для понимания источников Нового времени. Во-первых, необходимо строго разграничивать «исповедь» в системе источников Нового времени и средневековые источники с тем же названием (например, «Исповедь блаженного Августина»). Средневековые источники имеют явно выраженный теологический и нравоучительный характер.
Начало виду в системе источников Нового времени положила «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо, написанная во второй половине 1760х годов. Попробуем разобраться, в чем заключается цель создания данного произведения. Если ориентироваться только на формальные признаки, принятые в отечественной историографии при характеристике мемуаров, то произведение Руссо вполне можно бы отнести к мемуарам: в центре повествования – личность автора, он по памяти воспроизводит события своей жизни, а понятие об историческом самосознании как первичной социальной функции мемуаристики слишком расплывчато для того, чтобы использовать его в качестве практического критерия. Руссо, казалось бы, не отбирает события. Он пишет обо всем, о чем вспомнит, вплоть до мелочей, и в этом он похож на А. Т. Болотова; но произведение Руссо содержит еще более мелкие, мало значимые детали его жизни. Ключ к пониманию смысла произведения – в первых его абзацах:
Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы – и этим человеком буду я.
Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь.
Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был. С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо слегка приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случилось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такою, какою ты видел ее сам, Всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека»[415].
Итак, произведение Руссо – философское. Смысл его – в утверждении уникальности человеческой индивидуальности в противовес общепринятому мнению эпохи Просвещения о единообразии природы человека.
Другие известные нам исповеди также имеют философский характер (не забудем при этом, что этика – часть философии).
В российской традиции выделим два произведения рассматриваемого вида: «Исповедь» Л. Н. Толстого и «Самопознание» Н. А. Бердяева (хотя последнее произведение и находится вне хронологических рамок данного раздела, но по сути оно тяготеет именно к этой эпохе).
Сопоставление приведенных примеров заставляет сделать вывод о нарастающем влиянии социальной среды на индивидуальность. В произведении Н. А. Бердяева социальный фон гораздо более ощутим, чем в «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.
Глава 3
Источники российской истории XX века
3.1. Общая характеристика источников новейшего времени
Единство и внутренняя целостность Новейшего времени как исторической эпохи, включающей в себя большую часть XX в., не бесспорны.
Зачастую (особенно в англоязычной научной традиции) выделяются не один, а два периода, один из которых («межвоенный период», англ. Interwar period, аналогичные термины имеются во французском и немецком языках) охватывает время между Первой и Второй мировыми войнами, а второй («послевоенная эра», англ. Postwar era) – простирается со второй половины 40х по начало 90х годов XX в. Напротив, французское понятие «l’poque contemporaine» (буквально «современная эпоха») объединяет в себе все исторические события с конца XVIII по второе десятилетие XXI в. включительно. История России, в которой существует так называемый советский период 1917–1991 гг., резко обособленный как от предшествующего, так и от последующего времени, выглядит в этом отношении парадоксальным исключением, возникшим как результат сознательного изъятия «одной отдельно взятой страны» из мирового исторического процесса. Вместе с тем источниковедческий (т. е. ориентированный на цели и пути созидательной деятельности человека) подход позволяет обозначить характерные черты Новейшего времени, отличающие этот период ото всех прочих и обеспечивающие его внутреннее единство.
Наступление Новейшего времени было подготовлено ходом промышленной революции. Механизированное фабричное производство остро нуждалось в притоке новых людских сил, а развитие транспорта создавало условия для постоянного пополнения рабочего контингента. При этом стремление предпринимателей к извлечению максимальной прибыли обусловливало высокие требования к интенсивности труда, тогда как относительная простота технологий, напротив, понижала требования к квалификации основной массы заводских рабочих. В результате хлынувшие в города люди либо не отличались развитыми умственными способностями и утонченной душевной организацией, либо не имели физической возможности реализовывать свои таланты; те немногие, кому удавалось вырваться из заколдованного круга, стремительно поднимались по открывшейся социальной лестнице, вытесняя прежнюю элиту – дворянство. Отрываясь в момент переезда от традиционной сельской культуры, новые горожане не могли в то же время освоить и классическую культуру Нового времени, ориентированную на более подготовленного реципиента. Возникал культурный вакуум, который заполнялся упрощенными по форме и содержанию произведениями, получившими в дальнейшем собирательное название массовой культуры. До известного времени зародыши массовой культуры существовали параллельно с высокой культурой как ее искаженная проекция, однако с развитием записывающей и воспроизводящей техники (фотография, звукозапись, киносъемка, в дальнейшем – радиовещание и телевидение) массовая культура получила инструменты для интенсивной экспансии и начала уже не транслировать, а вытеснять классичекую культуру, диктуя ей жесткие условия выживания в новом мире. Преодоление неграмотности, ставшее (по крайней мере в развитых странах) одним из важнейших социальных достижений второй половины XIX – начала XX в., лишь усугубило ситуацию, поскольку овладение навыками чтения и письма еще не означало приобщения ни к образцам высокого искусства, ни к новейшим достижениям научной мысли. В итоге масса и массовая культура сделались знаковыми социальными феноменами наступившего XX в.
Ключевая характеристика массовой культуры вытекает из описанных выше обстоятельств ее появления и состоит в ориентации большинства создаваемых произведений на неискушенного потребителя. Прежде всего, данная тенденция наблюдается в области источников личного происхождения, появившихся в Новое время и служивших средством выстраивания межличностной коммуникации. Классическая культура Нового времени породила сложную систему видов и разновидностей источников личного происхождения, обслуживавших различные варианты соответствующей целевой установки. Теперь же отложенная во времени коммуникация с самим собой (целеполагание дневников) утрачивает свое значение (очевидно, ввиду сложности самого процесса саморефлексии), коммуникация с ограниченным кругом реципиентов (близкими людьми) осуществляется с помощью телефона, снимающего потребность в эпистолярном жанре, а мемуары и эссеистика, служившие раньше индивидуализированной коммуникации с неограниченным кругом читателей, сливаются с публицистикой, теряя личностное начало вплоть до распространения практики написания политических «мемуаров» бригадами референтов той или иной высокопоставленной персоны. Итогом становится системный кризис всей обсуждаемой группы видов.
Существенные трансформации переживает законодательство. Проблема основных прав человека была в целом решена, по крайней мере на бумаге, еще в предыдущую историческую эпоху. К началу Новейшего времени в большинстве европейских стран был юридически обеспечен статус таких важнейших институтов гражданского общества, как органы политического представительства, независимый суд и свободная пресса; в значительной степени эти институты присутствовали и в России (особенно после оглашения Высочайшего манифеста от 17 октября 1905 г.). Поскольку же основные права уже были сформулированы и предоставлены, то на передний план вышли новые вопросы, и прежде всего – вопрос социальных гарантий, острота которого подогревалась циклическими кризисами экономики, включая знаменитую Великую депрессию 1929–1939 гг. Социалистические, рабочие и крестьянские партии, пользуясь широкой поддержкой всех слоев населения, требовали от властей обеспечить право на труд и достойную заработную плату, провести перераспределение земли в пользу тех, кто ее обрабатывает, сформировать систему социального страхования и государственной поддержки малоимущих, прекратить дискриминацию по половым, этническим и религиозным признакам. Обеспечить достойные условия жизни для всех оказалось непросто: для этого требовалось известное самоограничение властей предержащих, шедшее вразрез с интересами существовавшей элиты. Кроме того, предоставление социальных гарантий влекло за собой значительные финансовые обязательства и дисбалансировало экономику, провоцируя инфляцию и создавая благоприятную почву для разного рода спекуляций. Но игнорировать социальные требования тоже было невозможно – лозунги защиты «обездоленных» и «униженных» стали ключевым оружием практически всех существующих политических сил. Неблагоприятное сочетание указанных факторов породило такой характерный феномен XX в., как популизм законодательства, принимавшегося не для исполнения, а для демонстрации известной тенденции в развитии общества и государства. Понятно, что прибегать к такого рода уловкам можно не в последнюю очередь потому, что основной аудиторией закона-прокламации оказываются не профессиональные управленцы, юристы и экономисты, а неискушенные «простые» люди.
Наступление «века масс» мало что изменило в положении делопроизводства и статистики, которые с самого начала создавались для управления массовыми процессами. В XX в. получает дальнейшее развитие тенденция к формализации делопроизводства и математизации статистических исследований, а внедрение вычислительной техники (табуляторов, затем ЭВМ) делает актуальной задачей приспособление формы документов к автоматизированной обработке. Результатом стало максимально широкое распространение бланков, происходившее, кстати, еще и потому, что заполнять формуляр проще, чем составлять даже шаблонные фразы, а значит, разработка бланков снижает требования к компетентности низового управленческого персонала.
Наконец, подлинный расцвет переживают периодическая печать («средства массовой информации» или «средства массовой коммуникации») и публицистика, чьи возможности по структурированию общества оказываются востребованы как никогда. Периодические издания характеризуются колоссальными тиражами, а также многообразием разновидностей и жанров. Уже в начале XX в. интенсивное развитие средств связи и полиграфической техники обеспечивает газетам невиданную ранее оперативность. Так, первое сообщение о столкновении «Титаника» с айсбергом появилось в «Нью-Йорк Таймс» спустя всего лишь несколько часов после того, как беспроводной станцией системы Маркони в Кейп-Рейсе на Ньюфаундленде был принят сигнал бедствия с тонущего лайнера, и содержало только догадки относительно хода трагедии, которая разворачивалась в Северной Атлантике параллельно с подготовкой очередного номера газеты[416]. Однако и эти рекорды скорости были превзойдены с появлением радиовещания и, спустя еще несколько десятилетий, телевидения, сделавших возможными прямую трансляцию с места событий. Распространение прямых трансляций поставило перед обществом новые этические проблемы, связанные с возможностью случайной (а иногда и намеренной) демонстрации в эфире неприемлемых сцен и непристойного поведения, а исследователям, обращающимся к подобного рода материалам в поисках исторической информации, приходится осваивать приемы работы с новым типом источников – аудио– и видеозаписями. Важнейшей проблемой при этом оказывается отпечаток, налагаемый на публикуемые сведения (а зачастую и на ход самого исторического процесса) особенностями жизненного цикла «актуальных новостей».
В предложенной общей характеристике Новейшего времени намеренно не затрагиваются вопросы, связанные со спецификой исторического развития России XX в. До известной степени такое решение связано с тем, что о России будет говориться во всех последующих параграфах этой главы, однако за ним стоят и соображения содержательного плана. Облик российского общества минувшего столетия был определен тоталитарным режимом, сложившимся после большевистского переворота 1917 г. и распавшимся в конце 80х – начале 90х годов. Сам этот режим интенсивно эксплуатировал тезис о собственной уникальности (до Великой Отечественной войны как «первого в мире государства рабочих и крестьян», а после – как флагмана «мировой системы социализма») и в некоторых случаях действительно преуспел в выстраивании стен между «самой передовой страной на планете» и окружающим миром. Скажем, упомянутая выше периодика в ее советской «редакции» радикально отличается от периодики, как ее понимали и развивали на Западе: это касается и оперативности информации, и жанровой структуры, и стилистики. В то же время уже самопозиционирование советской власти как «власти рабочих и крестьян» раскрывает суть коммунизма как феномена Новейшего времени, ориентированного на трудящуюся массу, а подчеркнуто биполярная, не признающая оттенков и полутеней советская картина мира практически идеально воплощает теоретическую модель массовой культуры, будучи прежде всего исключительно простой для восприятия (и в значительной степени антиинтеллектуальной). Немаловажно и то, что режимы, подобные советскому, сложились в XX в. не только в России и государствах Восточной Европы, попавших в советскую зону влияния по итогам Второй мировой войны, но и других странах – Италии, Германии, Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Кампучии. Данное обстоятельство позволяло и озволяет рассматривать тоталитаризм как универсальное историческое явление минувшего века. Правда, оформившийся как идеология в 20е – начале 30х годов «марксизм-ленинизм» представляет собой реакцию прежде всего на актуальные проблемы именно этого исторического периода – резкое социальное расслоение в городах, обезземеливание крестьянства, рост популярности крайне правых, реваншистских и популистских течений. Социально-политические изменения, произошедшие в странах Запада после Великой депрессии (в частности, «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта), а тем более послевоенное «государство всеобщего благосостояния» не вписывались в советскую картину мира, по крайней мере в ее версии, предназначенной для массового распространения. Однако нараставшее отставание от истории и связанная с ним гротескность многих проявлений коммунистической идеологии не отменяют того факта, что эта идеология сформировалась именно как продукт Новейшего времени и несла на себе его характерные черты, а значит компаративное исследование советской культуры и ее феноменов – обосновано и уместно.
Столь же сознательно обойдена вниманием тема Постновейшего времени – исторической эпохи, переход к которой обозначился с началом научно-технической революции, а закончился распадом СССР в 1991 г. Типология и видовая структура источников, создаваемых в последние десятилетия, заслуживают отдельного рассмотрения.
3.2 Законодательство советского периода
3.2.1 Советское законодательство как исторический феномен
Падение монархии как вызов юридической системе
Вступление России в Новейшее время ознаменовалось падением самодержавного строя. 2 (15) марта 1917 г. в обстановке «начавшихся внутренних народных волнений» Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. 3 (16) марта Михаил подписал документ, где сообщал о своем «твердом решении в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы государства Российского»[417]. В итоге de jure верховная власть в стране перешла к Временному правительству во главе с князем Г. Е. Львовым, а по сути начался период так называемого двоевластия, переросший в продолжительную и кровопролитную Гражданскую войну.
События марта 1917 г. не только положили начало череде политических потрясений, но и поставили перед страной ряд юридических проблем. Государственное устройство Российской империи опиралось на тезис о сакральном происхождении царской власти, «повиноваться» которой «не за страх, а за совесть сам Бог повелевает»; все конкретные законодательные установления были реализацией этого фундаментального принципа. С отречением Николая II и тем более после заявления Михаила Александровича данная форма обеспечения легитимности утратила силу. Требовалось выработать и предложить обществу новые основания правопорядка.
В общем случае такие основания не обязательно формулировать в виде конкретного документа. Существуют современные демократические государства (Великобритания и ряд ее доминионов, Израиль), в которых нет единого Основного закона, а принципы функционирования правовой системы задаются совокупностью юридических актов (в том числе судебных решений), не всегда имеющих даже специальное самоназвание, отличающее эти фундаментальные законы ото всех прочих. Однако такая система может сложиться либо на базе длительной непрерывной традиции, либо в условиях сплоченности общества вокруг определенного комплекса идей. Едва ли надо пояснять, что в революционной России не наблюдалось ни того, ни другого, а значит, появилась необходимость в писаном Основном законе, для обслуживания которой возникла новая, не известная в российской истории предыдущих периодов разновидность законодательных источников – конституции[418]. Одних конституций Советского Союза было принято три – 1924, 1936 («сталинская») и 1977 («брежневская») гг.
Трансформации российского законодательства при переходе от Нового времени к Новейшему не ограничились появлением конституций. Накануне революции Российская империя столкнулась не только с кризисом системы управления и ростом социальной напряженности, но и с обострением национального вопроса. Постановлением от 20 марта (2 апреля) 1917 г. Временное правительство отменило все ограничения личных прав по этническому и вероисповедному признаку, существовавшие в царской России. Однако позиция центральной власти по отношению к политическим претензиям местной элиты была непоследовательной, что, впрочем, почти не мешало объявлять автономию и даже независимость в одностороннем порядке. В свою очередь, большевики одним из первых декретов провозгласили «право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства»[419]. Выдвигая подобные лозунги, В. И. Ленин и его соратники[420] придавали дополнительный стимул сепаратистским тенденциям на «национальных окраинах» бывшей империи и в то же время пытались оседлать эти тенденции, поставив их на службу «делу мировой революции». Попытка оказалась успешной: в 1922 г. на большей части территории бывшей Российской империи было создано весьма нетривиальное по устройству союзное государство – Союз Советских Социалистических Республик. Субъектами союзного договора выступили четыре союзные республики (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика, Украинская Социалистическая Советская Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика и Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика), которые пользовались правом выхода из состава Союза, обладали широкими полномочиями в области внутренней политики (включая законодательство) и могли прямо или опосредованно включать в свой состав государственные образования более низкого уровня с разными наименованиями и объемом прав – советские социалистические республики (в Закавказье), автономные республики, автономные области и национальные округа[421]. В дальнейшем структура Союза ССР неоднократно изменялась. Так, в 1924–1925 гг. было начато «национально-государственное размежевание Средней Азии», включая территории двух формально самостоятельных государств – Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республик. В результате этого процесса возникли и вступили в Союз Туркменская, Узбекская и Киргизская ССР. Была распущена Закавказская Федерация (по конституции 1936 г. составлявшие ее республики вошли в Союз напрямую), и образованы («повышением» из автономных республик) – Казахская и Таджикская ССР. В 1940 г. были сформированы, также на базе уже существовавших автономий, Карело-Финская и Молдавская ССР, и приняты в состав Союза – Литовская, Латвийская и Эстонская ССP. Наконец, в 1956 г. Карело-Финская ССР была преобразована в Карельскую АССР в составе Российской Федерации, после чего число «союзных республик» достигло классической цифры 15 и официально больше не менялось вплоть до расторжения договора о создании СССР в декабре 1991 г. В союзном государстве существовала (и тоже эволюционировала) система разделения полномочий между союзными и республиканскими властями, а также между властями республик и национально-государственных образований более низкого уровня. В структуре источниковой базы данные процессы выразились в том, что к разделению законодательных источников на разновидности добавилось разделение по статусу на общесоюзное законодательство, республиканское законодательство и законодательство автономных республик (автономные области и национальные округа собственного законодательства не имели).
Вызовы, связанные с кризисом прежней легитимности и необходимостью выстроить отношения внутри неоднородных в этнокультурном плане общностей, не были специфичны для России. В разое время с похожими проблемами сталкивались и другие государства. Принятые решения – выработка конституционного права и переход от строгой централизации к договорным (хотя бы формально) отношениям между локальными сообществами – также не были оригинальны; на общемировом фоне выделяется разве что утонченная детализация, с которой была проработана иерархическая структура «братской семьи советских народов». Однако существовали и специфические черты, обусловленные тем, что в кровопролитной борьбе за власть, развернувшейся в нашей стране после падения династии Романовых, победила именно партия большевиков. Разъяснение этих черт потребует экскурса в теорию советского государства и права, а также в историю государственных учреждений СССР.
Классовая природа советского государства. Советы
Краеугольным камнем большевистской идеологии была идея «диктатуры пролетариата», т. е. безоговорочного и подкрепляемого ничем не ограниченным насилием доминирования одной социальной группы – «рабочего класса» – над всеми прочими. Иным «классам» предстояло либо поступить под плотное руководство «класса-гегемона», либо вовсе исчезнуть с исторической сцены, причем большевики считали себя вправе форсировать ход истории, организуя физическое уничтожение «социально чуждых элементов». Определенное ограничение сферы действия этой откровенно агрессивной концепции наметилось только в конце 1950х – 1960е годы, когда теоретики марксизмаленинизма сформулировали концепцию «общенародного государства». При этом «общенародное государство» определялось не как альтернатива «диктатуре пролетариата», а как закономерный итог успешной и – если не считать отдельных «нарушений социалистической законности» – правильной политики предшествующих четырех десятилетий.
Проявления «диктатуры пролетариата» в структуре и содержании советского законодательства многоаспектны. В первые годы революции в юридический оборот были введены такие категории, как «классовая целесообразность» и «социальная близость», а предусмотренная конституцией РСФСР 1918 г. и сохраненная конституцией РСФСР 1925 г. возможность «лишать отдельных лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб интересам социалистической революции»[422], обогатила русский язык словом «лишенец». Но наиболее существенным из следствий этой политической концепции стало неприятие принципа разделения властей, получившего в советской публицистике эпитет «буржуазного» и поэтому – естественно – ложного.
Разделение властей предполагает, как известно, строгое разграничение функций: законодательная власть определяет правила, исполнительная обеспечивает их реализацию, а судебная следит, чтобы реализация не отклонялась от правил, по крайней мере дальше некоторых молчаливо устанавливаемых общественным консенсусом пределов. Этот принцип был сформулирован еще в «Политике» Аристотеля, развит в «Духе законов» Ш.-Л. де Монтескье и получил конкретное воплощение уже в первой созданной человечеством конституции – Конституции США 1787 г. Польза от разделения властей также хорошо известна: существование нескольких конкурирующих центров силы гарантирует, что власть не будет узурпирована одним лицом или узкой группой лиц, а значит, возникает «система сдержек и противовесов», защищающая общество от злоупотреблений. Нетрудно понять, что при историческом изучении общества, где проведено разделение властей, границы законодательства как вида источников могут быть установлены по формальному признаку: законом считается документ правоустанавливающего характера, прошедший процедуру утверждения в органе народного представительства.
Однако идеологи «диктатуры пролетариата», особенно в ранний, романтический период революции, исходили из представления о том, что самодурство, кумовство, взяточничество и другие подобные злоупотребления характерны только для «загнивающего» капиталистического строя, а рабочий класс в силу самой своей сущности обладает абсолютным иммунитетом против любых соблазнов, связанных с неограниченной властью. С данной точки зрения разделение властей казалось избыточным формализмом, на смену которому должна была прийти система органов прямого и непосредственного действия – советов.
Если рассматривать вопрос в глобальном масштабе, то история советов уходит корнями как минимум в XIX в., когда на волне революционного и национально-освободительного движения европейские «униженные и оскорбленные» – рабочие, студенты, представители национальных меньшинств – начали образовывать совещательные органы для коллективного отстаивания своих прав и интересов. Отличительной чертой советов XX в. (существовавших не только в России, но и в других странах – от Ирландии до Китая) стало то, что эти поначалу неформальные структуры заявили претензии на реальную политическую власть, более того, осуществляли ее, выпуская распорядительные документы, вмешиваясь в управление традиционными учреждениями и даже проводя силовые акции против врагов рабочего класса с помощью добровольных дружин (Красной гвардии). Уже в 1906 г., обобщая опыт первой русской революции, В. И. Ленин писал, что созданные рабочими советы «действовали, как власть, захватывая, напр[имер], типографии (Петербург), арестуя чинов полиции, препятствовавших революционному народу осуществлять свои права (примеры бывали тоже в Петербурге, где соответствующий орган новой власти был наиболее слаб, а старая власть наиболее сильна). Они действовали как власть, обращаясь ко всему народу с призывом не давать денег старому правительству. Они конфисковывали деньги старого правительства (железнодорожные стачечные комитеты на юге) и обращали их на нужды нового, народного правительства…»[423]. В свою очередь, Февральская революция и октябрьский переворот 1917 г. завершили начавшийся процесс институционализации неформальных объединений, составивших стержень нового государственного устройства.
Исходно неформальная природа советов как объединений по социальному и/или профессиональному признаку ощутимо сказалась на их статусе в качестве государственных органов. В рамках парламентской демократии предполагается, что депутат выполняет свои обязанности на профессиональной основе, получая зарплату, равную зарплате чиновников высокого ранга или сопоставимую с ней; может быть даже, как в современной России, установлен запрет на совмещение депутатства с другой работой (хотя обычно он ограничивается запретом на занятие должностей в структуре исполнительной и судебной власти). Депутаты советов заседали в них на общественных началах и лишь в определенных случаях могли «освобождаться» (так!) от работы на производстве. Депутат парламента располагает так называемым свободным мандатом, а значит, действует по собственному разумению и может быть лишен своего статуса только в случае совершения противоправных деяний. Депутаты советов получали императивный мандат, т. е. были обязаны (по крайней мере если следовать букве закона) выполнять полученные при избрании наказы населения, отчитывались об их выполнении и могли быть отозваны собранием избирателей в случае пренебрежения поручениями последних. Наконец, депутат парламента рассматривается как представитель всего населения своего избирательного округа (или всей совокупности граждан, голосовавших за выдвинутый его партией избирательный список). Депутаты советов представляли только «трудовой элемент» («нетрудовой» лишался права избирать и быть избранным[424]), что воплощалось, среди прочего, и в самоназвании соответствующих органов – Советы рабочих, солдатских (матросских, казачьих, красноармейских) и крестьянских (селянских, батраческих, дехканских) депутатов в 1920е годы, Советы депутатов трудящихся по Конституции 1936 г., Советы народных депутатов по Конституции 1977 г. Правда, в конституциях 1936 и 1977 г. утверждалось и то, что «выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет <…>, имеют право участвовать в выборах депутатов и быть избранными»425]. Однако значение приведенных слов существенно ограничивалось тем обстоятельством, что выдвигать кандидатов могли только «коммунистические партийные организации, профессиональные союзы, кооперативы, организации молодежи, культурные общества» (в формулировке ст. 141 Конституции 1936 г.), или «организации Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, кооперативные и другие общественные организации, трудовые коллективы, а также собрания военнослужащих по воинским частям» (ст. 100 Конституции 1977 г.); при этом круг «других общественных организаций» был жестко ограничен – попытка диссидентской группы «Выборы-79» выдвинуть собственных кандидатов в Верховный совет СССР X созыва была целенаправленно сорвана бюрократическим аппаратом[426]. В теории такая организация советов должна была обеспечить их неразрывную связь с «прогрессивной» рабоче-крестьянской средой. Однако на практике «народные» депутаты превращались в представителей бюрократического аппарата и оказывались в зависимости от властей предержащих.
Но еще более способствовала бюрократизации советов упомянутая выше принципиальная установка на отказ от разделения властей. Распределение государственных функций, принятое в «нормальных» демократических государствах, не только обеспечивает баланс силы, но и упрощает управление, отводя каждому институту строго ограниченную и посильную ему область. Советы отвечали за все, а если учесть, что марксистско-ленинская идеология предписывала тотальное огосударствление всех областей жизни, то объем функций этих суперорганов возрастает до поистине циклопических масштабов. Такая ответственность тяжела даже для профессионала в области управления, а нести ее на общественных началах, без отрыва от производства – в принципе невозможно. Компромиссом стало значительное уменьшение длительности сессий советов (а совет общегосударственного уровня – Верховный совет СССР – вообще был учрежден только в рамках конституционной реформы 1936 г.) и создание, условно выражаясь, системы представительных органов второго порядка, формировавшихся из числа депутатов и принимавших на себя руководство страной в промежутке между сессиями советов. На местном уровне эти структуры именовались исполнительными комитетами (исполкомами), на республиканском и общесоюзном их структура и наименование менялись, от громоздкого (с 1924 г. – двухпалатного) Центрального исполнительного комитета Союза ССР в 1920–1930х годах, избиравшего собственный президиум, до относительно компактных президиумов Верховных советов (в 1938–1991 гг.). Основные функции (но не правовой статус) исполкомов сопоставимы с функциями современных мэров и губернаторов, а Президиум Верховного Совета иногда и не без оснований описывают как коллективного главу советского государства; во всяком случае, символические и церемониальные обязанности, обычно возлагаемые на президентов или монархов, – присуждение воинских званий, награждение орденами и медалями, выдача и прием верительных грамот, помилование осужденных – в Советском Союзе выполнял именно Президиум ЦИК или ВС в лице своего председателя[427]. В то же время ЦИК, его президиум, а в дальнейшем президиумы общесоюзного и республиканских Верховных Советов могли издавать нормативные документы, имевшие силу закона, – декреты, кодексы, указы, постановления и распоряжения; и эти документы не нуждались в утверждении иными органами советской власти. В результате функция законодателя и исполнителя была не только совмещена, но и досталась структуре, не имеющей, по сути дела, представительного характера и, более того, не способной его иметь хотя бы в силу своей ограниченной численности[428]. Таким образом, провозглашенная на словах власть народа на деле оборачивалась передачей этой самой власти небольшой по численности и к тому же инертной по составу группе людей.
Паллиативы народного представительства
Нетрудно понять, что изолированная от общества система советов не отличалась эффективностью в выявлении и решении насущных социальных проблем. Напротив, по мере развития советского государства пропасть между элитой и народом только росла. В то же время жесткие интеллектуальные рамки, заданные официальной марксистско-ленинской идеологией, не позволяли сформулировать ни проблему, ни ее очевидное решение – возврат к традиционным формам народного представительства. Вместо демократизации политической жизни предлагались разнообразные паллиативы, делавшие советскую правовую систему еще более причудливой и пестрой.
Наиболее известным из таких паллиативов стало помещение законодательной деятельности под постоянный контроль со стороны Коммунистической партии, которая позиционировала себя в качестве носителя подлинных интересов «трудового народа». Норма о партии как «руководящей и направляющей силе», пресловутая «шестая статья», вызывавшая критику со стороны перестроечных публицистов, появилась в советском законодательстве только с принятием Конституции 1977 г. Однако практика партийного контроля над всеми этапами законодательного процесса (состоявшая, помимо прочего, в деятельном участии партийного аппарата в подготовке законопроектов) сложилась уже в первые годы советской власти.
Наряду со статьей, закреплявшей верховенство Коммунистической партии, Конституция СССР 1977 г. содержала нормы участия в управлении государством профсоюзов, комсомола и других общественных организаций (ст. 7), «обсуждения и решения государственных и общественных дел» трудовыми коллективами (ст. 8), а также поощрения и постоянного расширения политической активности граждан (ст. 9). Реализацией этих норм и стоящих за ними идеологических установок стала практика всенародного обсуждения законодательных актов, когда законопроекты публиковались в периодической печати для максимально широкого распространения, а специально созданные комиссии собирали и обобщали письма от отдельных лиц, трудовых коллективов и общественных объединений с предложениями по совершенствованию представленных на обсуждение текстов. Такую процедуру прошли и сама конституция 1977 г., и предшествовавшая ей конституция 1936 г. В отличие от традиционных законопроектов, поправок и запросов, вносимых депутатами на заседании соответствующего представительного органа, замечания и мнения граждан не подлежали обязательному обсуждению, не выносились на голосование и учитывались лишь выборочно – в той степени, в которой они соответствовали уже избранному заранее курсу. В то же время всенародные обсуждения помогали создавать видимость всенародного участия. С точки зрения историка, материалы всенародных обсуждений, отложившиеся в архивах в виде совокупностей писем, обращений, протоколов и т. п., и частично опубликованные в периодической печати, содержат крайне интересный социокультурный материал.
Наконец, неэффективность законодательной системы компенсировалась расширением полномочий сугубо исполнительных органов – общесоюзного и республиканских Советов народных комиссаров (в 1917–1946 гг.) или Совета министров (в 1946–1991 гг.). Многие нормы, обычно устанавливаемые законами, в Советском Союзе вводились и отменялись постановлениями Совета народных комиссаров или Совета министров, а иногда и отдельных ведомств – Государственного планового комитета Совета министров СССР (Госплана), Государственного комитета по материально-техническому снабжению (Госснаба), Государственного банка и других подобных организаций. В некоторых областях (заработная плата, охрана труда, обеспечение жильем) правоустанавливающий характер могли иметь даже постановления общественной организации – Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов. Подобные тенденции деформировали структуру советского законодательства, делая его аморфным и одновременно крайне запутанным. Юристы 1980х годов признавали, что разобраться в хитросплетении норм не всегда под силу даже профессионалам. Примечательно, что аморфность и расплывчатость советского аконодательства в значительной степени напоминали такие же качества законодательства императорской России, характеризовавшегося исключительным разнообразием форм и отсутствием строгого порядка принятия законов. Пытаясь порвать с традициями старого права, большевики фактически возродили это последнее, причем наиболее тщательно были воссозданы наименее привлекательные черты.
В целом законодательство советского периода являет собой весьма представительное воплощение коммунистической идеологии, а его достоинства и недостатки – это черты марксистско-ленинского учения о государстве. Без знания идеологем, которыми определялось развитие советской правовой мысли, невозможно понять ни логику развития законодательства как целого, ни сущность конкретных документов и установленных ими правовых норм.
3.2.2. Группы и разновидности законодательных источников советского периода
Декреты первых месяцев советской власти
Из предыдущего должно быть понятно, что системообразующей разновидностью российского законодательства Новейшего времени были конституции, представлявшие собой документы наивысшей юридической силы. Соответственно, и характеристику источников данного периода следовало бы начать с рассмотрения принятых при советской власти конституций. Однако первая из конституций появилась только в июле 1918 г., спустя почти восемь месяцев после низложения Временного правительства и перехода власти в руки большевиков. Правовой вакуум между падением старого режима и оформлением нового был заполнен весьма пестрой по характеру, самоназваниям и структуре совокупностью документов неодинаковой видовой природы. Доминирующим самоназванием такого рода документов было заимствованное из терминологии Великой французской революции слово «декрет», а время существования данного комплекса ограничивается периодом от октябрьского вооруженного переворота до принятия первой конституции РСФСР, где была впервые определена строгая законотворческая процедура. В отечественной историографии указанные документы получили собирательное название «декретов первых месяцев советской власти». Историческое значение первых декретов советской власти очень велико, поскольку именно в них была определена конфигурация политического и социального устройства «первого в мире государства рабочих и крестьян», а источниковедчески они примечательны прежде всего отсутствием единой процедуры принятия, разнообразием форм и широтой тематики (от вопросов землеустройства и военной службы до организации автомобильного хозяйства, национализации Третьяковской галереи и «объявления врагом народа председателя Мурманского совета»), в полной мере соответствовавшим экстраординарным обстоятельствам создания этих документов.
Специфика конца 1917 – первой половины 1918 г. состояла в том, что советской власти надо было решать не только управленческие, но и пропагандистские задачи, привлекая сторонников как внутри страны, так и (в идеале) за ее пределами. Эта дополнительная идеологическая задача придала текстам публицистическую направленность, что особенно видно в Декрете о мире от 26 октября 1917 г., который представляет собой, по сути дела, не закон, а воззвание, обращенное ко «всем воюющим народам и их правительствам» и написанное в откровенно митинговой стилистике:
Обращаясь с этим предложением мира к правительствам и народам всех воюющих стран, Временное рабочее и крестьянское правительство России обращается также в особенности к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств, Англии, Франции и Германии. Рабочие этих стран оказали наибольшие услуги делу прогресса и социализма, и великие образцы чартистского движения в Англии, ряд революций, имевших всемирно-историческое значение, совершенных французским пролетариатом, наконец, в геройской борьбе против исключительного закона в Германии и образцовой для рабочих всего мира длительной, упорной дисциплинированной работе создания массовых пролетарских организаций Германии – все эти образцы пролетарского героизма и исторического творчества служат нам порукой за то, что рабочие названных стран поймут лежащие на них теперь задачи освобождения человечества от ужасов войны и ее последствий, что эти рабочие всесторонней решительной и беззаветно энергичной деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации[429].
Примечательно, что механизм исполнения этой декларации не только не прописан, но и не предусматривался в принципе, что крайне необычно для законодательных источников. Но среди первых декретов присутствуют и существенно более конкретные по содержанию документы, свидетельствующие об определенной проработке регулируемой области. До известной степени такая проработка сказалась в Декрете о земле, включившем в себя так называемый Крестьянский наказ о земле, обобщавший «242 местных крестьянских наказа», и в еще большей мере – в Основном законе о социализации земли, утвержденном 27 января (9 февраля) 1918 г. Примечательно, что Основной закон о социализации земли не декларировал такого резкого разрыва со «старым миром», как многие другие законодательные акты того времени, а, напротив, содержал отсылки к «исторически сложившейся системе землепользования»[430], в чем сказалось осознание сложности задач государственного управления, особенно в масштабах такой страны, как Россия.
Огромный масштаб и стихийный характер изменений, происходивших в первые месяцы советской власти, сказался на том, от чьего имени выпускались ее декреты. Самые первые документы данной группы – обращения «К гражданам России», «Революция восторжествовала», «К тылу и фронту» и еще несколько, вышедших в первые часы после переворота, – подписаны Военно-революционным комитетом Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, далее инициатива перешла в руки делегатов II Всероссийского съезда советов, а 30 октября (12 ноября) был выпущен декрет «О порядке утверждения и опубликования законов», определявший, что «впредь до созыва Учредительного собрания» законы рассматриваются и принимаются Советом народных комиссаров, подписываются председателем СНК или одним из народных комиссаров и либо публикуются в «Газете Рабоче-Крестьянского правительства», либо передаются по телеграфу для опубликования на местах[431]. Левые эсеры возражали относительно права СНК на самостоятельное издание декретов, требуя поставить правительство под контроль советов. Однако 4 (17) ноября 1917 г. это право было подтверждено специальной резолюцией Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК). «Советский парламент рабочих масс, – гласил первый пункт указанной резолюции, – не может иметь ничего общего по своим методам с буржуазным парламентом, где представлены разные классы с противоположными интересами и где представители правящего класса превращают регламент и наказ в орудие законодательной обструкции», – а значит, как утверждалось во втором пункте того же документа, нельзя и «отказать Совету Народных Комиссаров в праве издавать без предварительного обсуждения Центральным Исполнительным Комитетом неотложные декреты в рамках общей программы Всероссийского съезда Советов»[432]. Чуть позже, 17 (30) ноября, был выпущен «Наказ о взаимоотношениях ВЦИК и СНК», где указывалось, что, «согласно решению II Всероссийского съезда Советов, Совет Народных Комиссаров целиком ответственен перед Центральным Исполнительным Комитетом», и вместе с тем признавалось, что СНК имеет право не только осуществлять «мероприятия по борьбе с контрреволюцией», но и принимать «законодательные акты, а равно и распоряжения крупного общеполитического значения», представляя последние «на рассмотрение и утверждение Центрального Исполнительного Комитета»[433]. Таким образом, центром законотворчества первых месяцев советской власти стал Совет народных комиссаров. Ряд декретов, например декреты «Об обязательном обучении военному искусству», «О порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской Красной Армии» и «О сроке службы в Красной Армии» (все – 22 апреля 1918 г.), были выпущены не СНК, а ВЦИК. Наконец, некоторые декреты – «О дарениях» от 20 мая 1918 г., Положение о революционном трибунале при ВЦИК от 29 мая 1918 г., «Об организации и снабжении деревенской бедноты» от 11 июня 1918 г. – оформлялись как совместные решения ВЦИК и СНК. Очевидно, за этими колебаниями стоял поиск оптимального режима функционирования советского государства как системы.
Рассмотренные в своей совокупности декреты первых месяцев советской власти демонстрируют всю глубину социальных потрясений, охвативших российское общество в 1917 г.
Конституции советского периода
Следующим важным шагом на пути становления советского государства и оформления советского законодательства стало принятие Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Созданная ВЦИКом в апреле 1918 г. конституционная комиссия под председательством Я. М. Свердлова рассмотрела три проекта – «Общие положения Конституции РСФСР», подготовленные большевиками, «Проект Конституции Трудовой Республики», выдвинутый эсерами-максималистами, и «Основные начала Конституции», разработанные правоведом и психоаналитиком М. А. Рейснером и воплощавшие радикальные анархо-синдикалистские взгляды так называемых левых коммунистов. Обсудив эти документы, комиссия, в составе которой доминировали большевики, высказалась в пользу первого проекта, который и был с некоторыми поправками утвержден V Всероссийским съездом советов 10 июля 1918 г. в качестве первой конституции РСФСР.
Распространение большевизма на окраины бывшей империи повлекло за собой принятие следующих конституций – Советской Социалистической Республики Белоруссии (февраль 1919 г.), Украинской Социалистической Советской Республики (март 1919 г.), Хорезмской Народной Советской Республики (апрель 1920 г.), Дальневосточной Республики (апрель 1921 г.), Советской Социалистической Республики Азербайджана (май 1921 г.), Бухарской Народной Советской Республики (сентябрь 1921 г.), Социалистической Советской Республики Армении (февраль 1922 г.), Социалистической Советской Республики Грузии (март 1922 г.), Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (декабрь 1922 г.), Хорезмской Социалистической Советской Республики (октябрь 1923 г.), и наконец – первой Конституции Союза ССР (31 января 1924 г.). Не все перечисленные конституции были типично советскими и имели последовательно социалистический характер. Напротив, Конституция Хорезмской НСР 1920 г. признавала частную собственность на средства производства, вакуфное землевладение, духовное образование, суды шариата и обычное право, а Конституция ДВР говорила о многоукладной экономике и не содержала термина «совет» (хотя функции собраний уполномоченных и Народного собрания ДВР во многом совпадали с функциями советов, а руководил государством не президент, а коллективный орган – Правительство, избираемое Народным собранием примерно так же, как в РСФСР избирался ВЦИК). Не прослеживалось полного тождества и между конституциями республик, объявленных социалистическими советскими: скажем, в Конституции РСФСР было установлено фиксированное число наркоматов (17), а в Конституции УССР вопрос о численности народных комиссаров и предметах их ведения оставлялся на усмотрение Всеукраинского ЦИК. Наконец, Конституция СССР 1924 г. представляла собой не оригинальный законодательный акт, а инкорпорацию двух документов – Декларации об образовании СССР, провозглашенной в декабре 1922 г., и существенно расширенного варианта принятого тогда же союзного договора. В подобных вольностях сказался, с одной стороны, стихийный характер государственного строительства первых лет советской власти, а с другой – стремление большевиков привлечь максимально большое число сторонников, особенно в тех регионах, где не просматривалось возможности установить новый порядок исключительно силовым путем. Однако победа в Гражданской войне сделала подобные компромиссы излишними, буферные и марионеточные государства были ликвидированы, а конституции – приведены к общему знаменателю.
Первая волна подобной правовой унификации прокатилась во второй половине 20х годов в связи с принятием союзной конституции 1924 г. и национально-государственным размежеванием Средней Азии, вторая – после принятия «сталинской» конституции 1936 г., третья – в конце 70х годов, после принятия конституции 1977 г. При этом как общесоюзная конституция была основой для конституций союзных республик, так и конституции союзных республик становились основой для конституций автономных республик. Итогом процесса стало возникновение совокупности почти тождественных документов и полная унификация правового поля страны.
Конституции разрабатывались не только советской властью и ее сателлитными режимами. Как примеры небольшевистских конституций, появившихся в период Гражданской войны на территории будущего Советского Союза, можно отметить Конституцию (Статут о государственном устройстве, правах и свободах) Украинской Народной Республики от 29 апреля 1918 г. и Основные законы Всевеликого Войска Донского, принятые Большим войсковым кругом 15 сентября 1918 г. Как правило, местные государственные образования небольшевистской направленности прекращали свое существование раньше, чем успевали обзавестись собственной правовой системой; однако целью значительной части белых движений было не столько утверждение нового порядка, сколько восстановление старого, в том числе законодательства Российской империи, так что зачастую законодательная активность белого правительства ограничивалась декларацией о восстановлении действия царских законов. В то же время подобное нормотворчество представляет большой интерес как феномен социальной психологии и свидетельство определенной правовой культуры.
Важнейшая черта советских конституций – их агитационная направленность. Своеобразная митинговая тональность была задана уже в первой конституции РСФСР 1918 г., включившей в себя написанную В. И. Лениным и утвержденную III Съездом советов Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. В этой декларации (а значит и в Конституции 1918 г.) в частности говорилось (ст. 4):
Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский Съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся без аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций.
В некоторых фрагментах стиль законодателя возвышался до церковнославянизмов:
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика признает труд обязанностью всех граждан Республики и провозглашает лозунг: «Не трудящийся да не ест» (ст. 18.) [выделено мной. – Д. Д.].
При этом сама конституция провозглашалась временным документом, принятым на переходный период и призванным способствовать …установлению диктатуры городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти (ст. 9).
В таком позиционировании документа, повторенном в Конституции РСФСР 1925 г., сказалось воздействие марксистской теории об отмирании государства на пути к коммунизму.
Тексты общесоюзной конституции 1924 г. и созданных после ее принятия республиканских конституций были выдержаны в более строгой тональности – лозунги остались только в Декларации об образовании Союза Советских Социалистических Республик:
Со времени образованя советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма. Там, в лагере капитализма – национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма – взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Напротив, «сталинская» конституция 1936 г. вернула некоторые лозунги (со стилистической правкой) и даже расширила их число:
Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу «Кто не работает, тот не ест». В СССР осуществляется принцип социализма «От каждого по его способности, каждому – по его труду» (ст. 12).
Наконец, «брежневская» конституция 1977 г. содержала развернутую характеристику «Основ общественного строя и политики СССР» (ст. 1–32), где привычные уже лозунги сопровождались развернутыми пояснениями:
Источником роста, общественного богатства, благосостояния народа и каждого советского человека является свободный от эксплуатации труд советских людей.
В соответствии с принципом социализма «От каждого – по способностям, каждому – по труду» государство осуществляет контроль за мерой труда и потребления. Оно определяет размер налога на доходы, подлежащие налогообложению.
Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство, сочетая материальные и моральные стимулы, поощряя новаторство, творческое отношение к работе, способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека (ст. 14).
При определенных условиях такого рода статьи превращались в грозное оружие расправы с неугодными. В частности, слова про работников и едоков послужили формальной основой для криминализации так называемого тунеядства, т. е., по сути дела, извлечения средств к существованию из любой деятельности, кроме официально разрешенной. Очевидно, однако, что включение подобной афористики в состав конституции преследовало не только и не столько формально-юридические, сколько агитационные задачи.
Периодические изменения советских конституций также свидетельствуют об идеологической направленности последних. Смена основного закона – не экстраординарное событие, но, как правило, она происходит на фоне политических потрясений – войн, установления и падения диктатур, правительственных кризисов и т. п. В Советском Союзе и его республиках конституции изменялись в ситуации относительной стабильности, знаменуя собой не новый этап развития общества, а постепенную эволюцию его идеологической основы. Если содержание конституций 1920х годов определялось романтическими идеями мировой революции, то конституция 1936 г. зафиксировала «успешное построение социализма» в одной отдельно взятой стране. На этом фоне несколько удивляет разрыв между следующим крупным поворотом в генеральной линии партии, связанным с хрущевской оттепелью, и очередной конституционной реформой, состоявшейся только в конце 1970х годов, в совершенно иной политической обстановке. Однако конституционная комиссия, итогом трудов которой стало принятие общесоюзной конституции 1977 г., была созвана Верховным Советом СССР еще в апреле 1962 г., а ее долгая работа связана, с одной стороны, с политическими изменениями, вызванными отставкой Н. С. Хрущева, а с другой – с общим падением эффективности советского государственного аппарата во второй половине 1960х – 1970е годы.
В целом конституции периода 1917–1991 гг. представляют собой наглядное свидетельство идеологических перипетий, сопровождавших эволюцию советского общества и государства от момента его возникновения и до распада.
Кодексы и «Основы законодательства»
Следующей важной разновидностью советского законодательства стали кодексы, в которых объединялись правовые установления, действовавшие в той или иной конкретной сфере. Разработка кодексов, призванных утвердить новые общественные отношения, началась почти сразу после прихода большевиков к власти, так что первый в этом ряду документ – Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве – был утвержден ВЦИКом уже 16 сентября 1918 г. Вторым стал Кодекс законов о труде, принятый в декабре того же года. Показателен выбор областей, которые следовало перестроить на новый лад в первую очередь: максимальная простота в области семейных отношений и защита прав рабочих составляли основополагающие и тщательно проработанные пункты программы российских социал-демократов.
В 1920е годы работа над кодексами продолжилась. В 1922 г. появились Уголовный, Гражданский и Земельный кодексы РСФСР, чуть позже – новый Кодекс законов о труде, Кодекс о семье и браке, Лесной кодекс, Таможенный кодекс и др. В 1926 г. УК РСФСР, оказавшийся в своей первой редакции слишком коротким и оттого мало применимым на практике, был переработан. Примечательно, что если при разработке основ семейного, трудового или земельного права большевики ставили своей целью порвать с правовыми принципами царских времен, получившими ярлык «буржуазных», то нормы уголовного и гражданского права широко заимствовались из предшествующего законодательства и опыта западных стран. В этом сказались как отсутствие у законодателей необходимого опыта, так и сложность регулирования подобных правовых отношений. Обращение к юридическому опыту «старого режима», а в некоторых ситуациях и к обычному праву было в такой ситуации неизбежно.
Важная особенность советской кодификации состояла в том, что законодателю необходимо было не только сформировать основы нового социалистического права, но и приспособить эти последние к особенностям союзного государства. Союзный договор 1922 г. и Конституция СССР 1924 г. (ст. 1) установили, что гражданское и уголовное законодательство, регулирование трудовых отношений, землеустройство, землепользование, эксплуатация природных ресурсов, здравоохранение и образование составляют совместную компетенцию Союза ССР и отдельных республик, причем центр определяет «основы» и «общие начала», а республики проводят эти общие принципы в жизнь. Реализация таких установлений вызвала к жизни специфическую разновидность законодательных источников под названием «Основы законодательства», имевших характер своеобразных рамочных законов, нормы которых развивались и конкретизировались кодексами союзных республик. Скажем, в утвержденных постановлением Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. «Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» содержалась только общая часть, определявшая пределы действия советского уголовного законодательства, сроки давности, основные виды наказаний, отягчающие или смягчающие вину обстоятельства и т. п. Конкретные составы преступлений вводились в особенных частях уголовных кодексов союзных республик, которые могли варьироваться в зависимости от местных условий. Так, если, например, «контрреволюционная деятельность» в УК РСФСР 1926 г. описывалась ст. 58, то в УК УССР, принятом в 1927 г., этот же состав преступления определялся в ст. 54. Кроме уже упомянутых «Основных начал уголовного законодательства», в 1924 г. были утверждены «Основы судоустройства» и «Основы уголовного судопроизводства», а в 1928 г. появились «Общие начала землепользования и землеустройства». Появление каждого из таких документов предполагало издание соответствующих кодексов союзных республик, благодаря чему обеспечивались одновременно и единство правового поля страны, и приспособление общесоюзного законодательства к местным условиям.
Кодексы 1920х годов несли на себе отпечаток времени своего создания. В уголовном праве провозглашался классовый подход, и причастность обвиняемого «в прошлом или настоящем к классу лиц, эксплуатирующих чужой труд», рассматривалась как отягчающее обстоятельство, а принадлежность к рабочему классу или трудовому крестьянству – как смягчающее. Однако в гражданском праве нашли свое воплощение специфические черты «новой экономической политики», в том числе признавалиь три вида собственности – государственная (национализированная и муниципализированная), кооперативная и частная, причем в частной собственности могли нахо-диться:
…немуниципализированные строения, предприятия торговые, предприятия промышленные, имеющие наемных рабочих в количестве, не превышающем предусмотренного особыми законами; орудия и средства производства, деньги, ценные бумаги и прочие ценности, в том числе золотая и серебряная монета и иностранная валюта, предметы домашнего обихода, хозяйства и личного потребления, товары, продажа коих не воспрещается законом, и всякое имущество, не изъятое из частного оборота.
Напротив, важные для советского права более позднего времени понятия о колхозно-кооперативной и личной собственности в кодексах 1920х годов отсутствовали. Указанные особенности не служили препятствием ни для сворачивания нэпа в конце 1920х годов, ни для коллективизации сельского хозяйства, ни для индустриализации промышленности: новые формы собственности и способы хозяйствования получали юридическое оформление путем внесения в кодексы поправок. В свою очередь, в конце 1950х – начале 1960х годов была осуществлена масштабная правовая реформа. Были выпущены сначала новые «Основы законодательства», а затем и новые республиканские кодексы по всем отраслям права. Из новых советских кодексов были изъяты нормы, ставшие одиозными в годы культа личности (прежде всего пресловутая 58я статья), и включены положения, регулировавшие новые правоотношения и реагировавшие на новые виды правонарушений (например, в УК РСФСР 1960 г. появилась ст. 88, каравшая за «нарушение правил о валютных операциях»). Кроме того, научно-технический прогресс сделал актуальным принятие новых кодексов в таких областях, как недропользование и эксплуатация природных ресурсов, воздушный транспорт и т. п.
Перестройка и связанная с ней смена социально-экономического уклада вызвали корректировку существовавших кодексов, в основном путем внесения поправок. В таком откорректированном виде советские кодексы продолжали действовать вплоть до принятия современных российских законов.
Законы. Постановления Президиума ЦИК и указы Президиума Верховного Совета
Если кодексы определяли общие принципы функционирования сразу целой области общественной жизни, то законы вводили или отменяли отдельные меры и практики – обязательную воинскую службу, паспортный режим и так называемую прописку, изменение размера и порядка начисления пенсий, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, проведение митингов и собраний и т. п. Если в первые годы советской власти многие законодательные акты такого рода получали название «декрет» (хотя также использовались термины «постановление» и «распоряжение»), то в Конституции 1936 г. термин «декрет» уже не применялся. В рамках общего отказа от революционной романтики 20х годов было возвращено привычное русскому слуху слово «закон».
Исследователи отмечают спад в интенсивности советского законотворчества, наступивший в 1940–1970е годы: по подсчетам С. В. Журавлева, «за сорокалетие (1938–1977 гг.)» появилось всего около 150 законов, т. е. «в три раза меньше <…>, чем за предыдущие 20 лет, с 1917 по 1937 г.»[434]. В какой-то степени такая динамика может объясняться стабилизацией общественной структуры и воплощающих ее правовых институтов, но более вероятна иная интерпретация данного процесса – рост влияния бюрократического аппарата, увеличивавший значение разного рода подзаконных нормативных актов, которые вытесняли собой законодательство как таковое[435]. Представляется, что сокращение интенсивности законодательной работы стало воплощением общей бюрократизации советского государства, вызванной его принципиальной неконкурентоспособностью.
Характерным феноменом советской власти стала такая разновидность законодательных актов, как постановления Президиума ЦИК и указы Президиума Верховного Совета. Формально эти документы занимали самую низшую ступень в иерархии законодательства, поскольку их публиковал не собственно представительный орган, а всего лишь сформированный этим последним специальный комитет, и обычно подобного рода указами оформлялось присвоение наград или воинских званий. Однако некоторые из постановлений и указов президиума ВС СССР приобретали большое социально-политическое значение. Так, 26 мая 1947 г. указом Президиума ВС СССР в Советском Союзе была отменена смертная казнь за преступления, совершенные в мирное время, а указом от 12 января 1950 г. эта «исключительная мера охраны государства»[436] была восстановлена. Указ от 4 мая 1964 г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» предписывал «по постановлению районного (городского) народного суда» или даже «по общественному приговору, вынесенному коллективами трудящихся по предприятиям, цехам, учреждениям, организациям, колхозам и колхозным бригадам», подвергать так называемых тунеядцев «выселению в специально отведенные местности на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества, нажитого нетрудовым путем, и обязательным привлечением к труду по месту поселения». Наряду с антиобщественными элементами жертвами данного указа становились лица творческих профессий, включая знаменитого поэта И. А. Бродского. Возможность установления и отмены уголовной ответственности на основании указов Президиума ВС СССР приводила к окончательному размыванию понятия и границ советского закона.
Советское законодательство прошло в своем развитии несколько этапов. Стихийное революционное законотворчество первых лет советской власти сменилось планомерным формированием законодательной базы «страны победившего социализма», а социально-политические и идеологические изменения времен хрущевской «оттепели» сделали необходимым пересмотр сложившихся правовых установлений. При этом логика законотворчества диктовалась, с одной стороны, требованиями жизни, а с другой – особенностями советской власти как политической структуры. Системное изучение советского законодательства как исторического феномена наглядно демонстрирует уровень эффективности породившего его государства.
3.3. Делопроизводственные материалы и статистика советского периода
Законодательство определяет принципы построения социальных отношений. Реализация этих принципов – отдельная задача, для решения которой в любом относительно развитом обществе приходится назначать специальных людей, образующих в своей совокупности так называемый управленческий аппарат. Этому же управленческому аппарату поручается и работа по подготовке законов, становящаяся все более трудоемкой по мере усложнения общественной структуры.
В процессе функционирования управленческого аппарата возникают два вида источников. Первый – делопроизводственные материалы – обеспечивает принятие управленческих решений и доведение их до исполнителей. Второй – учетные документы – нужен для контроля выполнения принятых решений. Кроме того, управленческая работа опирается на сведения об обществе, получаемые путем статистических исследований. При этом делопроизводственные и учетные документы создаются зачастую одними и теми же лицами и в рамках одних и тех же процедур, так что различие между данными видами источников незначительное; иначе говоря, что верно для одного вида, то с несущественными изменениями верно и для другого. Напротив, материалы статистических исследований обладают выраженной спецификой и эволюционируют по собственной логике. Поэтому сначала будет дана характеристика делопроизводственных и учетных документов (с акцентом на первые), а затем рассмотрена история советской статистики.
3.3.1. Советское делопроизводство как истрический феномен
Общая характеристика советского делопроизводства
Марксистская теория социального развития связывала потребность в управленческом аппарате с «эксплуатацией человека человеком»; в коммунистическом обществе, где с эксплуатацией должно быть покончено, управлять станет некому и некем, а значит, и орудия управления неизбежно отомрут. Однако практика борьбы за власть заставила отложить выполнение этой романтической программы. Уже летом 1919 г. В. И. Ленин разъяснял, что пролетарская революция не только не означает немедленной ликвидации «государственной машины», но и требует ее всемерного укрепления.
Глава советского государства, выступая перед слушателями Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, говорил:
Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплуатацию, и, когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни пресыщаются, а другие голодают, – лишь тогда, когда возможностей к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом[437].
В итоге провозглашенное на идеологическом уровне отмирание управленческого аппарата ограничилось национализацией частных компаний. Государственные учреждения и управленческие структуры общественных объединений (единственной легальной партии, профсоюзов, кооперативов и т. п.) не только не были распущены, но и значительно укрепились, а значит, получали стимулы к развитию и соответствующие отрасли делопроизводства. Более того, частный капитал был окончательно ликвидирован лишь в начале 1930х годов, так что с момента перехода к нэпу (1921) и до конца 1920х годов существовали определенные условия для развития делопроизводства коммерческих организаций (хотя бы в объеме, необходимом для взаимодействия с уполномоченными органами профильных ведомств, – Народного комиссариата финансов и Народного комиссариата труда).
Советский управленческий аппарат не отличался высокой эффективностью. Профессиональные чиновники царских времен, имевшие твердые навыки «письмоводства», как правило, не хотели сотрудничать с новой властью, а квалифицированных служащих – большевиков было немного. Поэтому в первые годы существования советского государства на управленческие посты пришло множество случайных людей, не обладавших необходимыми знаниями и умениями. В свою очередь, новое поколение управленцев, воспитанное на опыте 1920х годов, стало одним из основных объектов массовых репрессий 1930х. В результате развитие делопроизводства было вновь отброшено назад. Кроме того, с середины 1920х годов существовали перечни (номенклатуры[438]) руководящих должностей, назначения и даже выборы на которые осуществлялись только после согласования кандидатур в соответствующих по уровню партийных органах (вплоть до ЦК, когда речь шла об управленцах высшего звена), а партийное руководство ориентировалось в своей кадровой политике не только и не столько на деловые качества кандидатов, сколько на последовательность в проведении «генеральной линии», так что очередные назначения не всегда доставались достойнейшим с профессиональной точки зрения. Вместе с тем власть никогда не утрачивала контроля над страной, а советское делопроизводство представляло собой стройную и внутренне взаимосвязанную систему.
Характеризуя делопроизводство с источниковедческой точки зрения, приходится считаться с чрезвычайным многобразием его разновидностей. Все учреждения и организации должны взаимодействовать с гражданами, аккумулировать необходимые сведения, вырабатывать решения и доводить их до адресатов, а также периодически оценивать собственные достижения и неудачи, и каждое из этих действий оформляется созданием как минимум одного, а обычно нескольких делопроизводственных документов. Кроме того, в областях управления, обладающих выраженной спецификой, складываются так называемые специальные системы делопроизводства – дипломатическая, военно-оперативная, судебно-следственная и ряд других[439]. В каждой из этих систем существуют особые разновидности делопроизводственных источников, появление которых обусловлено отличительными чертами соответствующих управленческих функций. Наконец, с первых же лет существования советской власти в нашей стране осуществлялось централизованное планирование экономической деятельности[440], а в конце 1920х годов вся экономика была подчинена задачам выполнения «пятилетних планов развития народного хозяйства». Материалы планирования – это сложный конгломерат разных по происхождению документов[441], и традиционно их рассматривают в качестве самостоятельного вида исторических источников. Очевидно, однако, что планирование – это один из уровней управления экономикой, а значит, и материалы планирования могут трактоваться в качестве группы делопроизводственных документов; формальное тождество документов Госплана с документами других ведомств дополнительно убеждает в справедливости такого решения. В принципе, каждая из упомянутых отраслей советского делопроизводства заслуживает собственной характеристики. Но сложность и разнообразие делопроизводственных источников грозят сделать ее слишком объемной. В дальнейшем будут рассмотрены наиболее типичные разновидности делопроизводственных источников, встречающиеся практически во всех системах документации. Желающие углубить свои знания по какой-либо конкретной отрасли или специальной системе делопроизводства могут обратиться к дополнительной литературе, прежде всего – к методическим пособиям, разрабатываемым профессионалами в соответствующих областях[442].
Локальные нормативные акты
Системообразующая разновидность делопроизводственных документов – локальные нормативные акты, имеющие разные самоназвания: уставы, положения, правила, приказы и т. д. Функция такого рода документов состоит в определении целей, задач и принципов работы учреждений, организаций и общественных объединений или в установлении норм, применяемых в каких-либо частных областях (строительство, рыболовство, торговля и т. п.).
Видовая природа локальных нормативных актов неоднозначна. С одной стороны, такого рода документы устанавливают нормы и в этом отношении примыкают к законам. С другой стороны, уставы общественных объединений возникают (по крайней мере в теории) на основе соглашения между всеми членами этих объединений[443], а лица, присоединяющиеся к объединению уже после создания такового, самим фактом своего вступления подтверждают готовность следовать действующему уставу. Такой договорной характер сближает уставы с актовыми источниками. Вместе с тем положения и уставы не проходят утверждения представительными органами власти, а значит, не могут рассматриваться как законы в строгом смысле слова. Что же касается договорной природы локального нормотворчества, то она имеет ограниченный характер: ведомственные положения, уставы, правила, нормы, рекомендации и т. д. вырабатываются и вводятся в действие сугубо бюрократическим путем, а уставы общественных организаций зачастую приходится согласовывать с теми или иными органами власти (а в советской практике такое согласование требовалось всегда). Напротив, управленческая роль локальных нормативных актов колоссальна, ибо всякое управленческое решение принимается лишь постольку, поскольку оно предусмотрено в подобном документе. Как следствие, представляется возможным рассматривать локальные нормативные акты как одну из разновидностей делопроизводства.
Уставами, как правило, назывались нормативные документы, которые определяли принципы работы общественных организаций. Важнейшим из уставов советского времени был Устав коммунистической партии (РСДРП(б) до 1918 г., РКП(б) в 191–1925 гг., ВКП(б) в 1925–1952 гг., КПСС с 1952 г. и до ее ликвидации в 1991 г.). Первый устав РСДРП был принят на II съезде партии в 1903 г. и послужил причиной раскола между большевиками и меньшевиками, а в дальнейшем текст устава неоднократно перерабатывался и изменялся (выделяется порядка десяти редакций). В момент октябрьского переворота действовала редакция устава, принятая на VI съезде РСДРП(б) в августе 1917 г., а в момент распада СССР – редакция XXII съезда КПСС (1961 г.) с изменениями, внесенными на XXIII (1966), XXIV (1971) и XXVII (1986) съездах. Устав определял порядок приема в партию и исключения из нее, права и обязанности ее членов, организационную структуру партии (в том числе состав и порядок формирования руководящих органов), отношения партии с государственными и общественными организациями, а также (в общих чертах) порядок формирования партийных денежных фондов, включая суммы обязательных членских взносов. Поскольку до конца 1980х годов коммунистическая партия была единственной легальной политической организацией в стране и контролировала все области общественной жизни, то влияние ее устава на жизнь страны было очень велико.
По образцу устава союзной коммунистической партии составлялись уставы республиканских компартий, существовавших в каждой союзной республике, кроме РСФСР, местные партийные организации которой подчинялись напрямую центральным органам ВКП(б)/КПСС.
Свои уставы имели и другие общественные (или, во всяком случае, формально общественные) организации – Коммунистический союз молодежи, пионерская организация, профессиональные и творческие союзы, академии и т. п. В частности, уставы Академии наук СССР принимались в 1927, 1930, 1935, 1959 и 1963 гг. и фиксировали изменения как в административной структуре, так и в статусе члена академии.
Органы государственного управления – народные комиссариаты (с 1946 г. – министерства) и другие ведомства – опирались в работе на Общее положение о народных комиссариатах (министерствах), а также на положения об отдельных ведомствах, составлявшиеся с учетом отраслевой специфики. До 1936 г. эти документы принимались центральными исполнительными комитетами общесоюзного или республиканского уровня, в дальнейшем – советами народных комиссаров (министров). Положение определяло задачи ведомства и способы их решения, а также его организационную структуру и штатное расписание (или порядок формирования таковых). Сами ведомства, в свою очередь, принимали специализированные нормативные акты в сфере своей компетенции – положения, уставы (в армии и других военизированных структурах), правила и т. п. Число такого рода документов постоянно росло, и все они время от времени обновлялись с учетом актуальных тенденций в развитии регулируемых отраслей.
На ведомственном уровне утверждались и положения об отдельных учреждениях и организациях, находившихся в подчинении у соответствующих структур. Если в структуре какого-нибудь наркомата (министерства) существовало много однотипных учреждений (больницы в системе министерства здравоохранения, школы в системе министерства просвещения и т. п.), то разрабатывалось примерное положение об учреждениях данного типа, а отдельные нормативные документы воспроизводили этот «примерный» текст с минимальными отклонениями. Нормотворчество руководства самих организаций оформлялось приказами или положениями.
Наконец, законодательство времен нэпа допускало акционерный капитал, а значит, существовала и такая разновидность локальных нормативных актов, как уставы акционерных обществ. В свою очередь, ставка партии и правительства на коллективные формы собственности сделала необходимой разработку уставов кооперативных организаций и коллективных хозяйств (колхозов). Большое социальное значение имело принятие Примерного устава сельскохозяйственной артели (1935) и двух Примерных уставов колхозов (1969 и 1988 г.)[444]. В этих документах определялись рекомендуемый состав и полномочия колхозного руководства, порядок ведения и принципы оплаты сельскохозяйственных работ, а также размеры приусадебных участков и максимальное поголовье домашнего скота, находящегося в личной собственности у отдельных членов колхоза. Изменения в Примерном уставе колхоза фиксировали эволюцию аграрной политики в СССР.
В целом локальные нормативные акты образуют своеобразный скелет советской управленческой системы. Знание подобного рода документов – необходимое условие адекватной интерпретации отдельных управленческих решений.
Заявления и обращения граждан
Следующая важная разновидность делопроизводственных документов – заявления и обращения граждан.
В принципе, управленческий аппарат не нуждается в том, чтобы к нему обращались; более того, некоторые группы функционеров (например, сотрудники правоохранительных органов) наделены правом самим вмешиваться в жизнь граждан (особенно если имеются основания полагать, что эти последние заняты чем-то противозаконным). В то же время существует множество ситуаций, в которых аппарат не может начать действовать без инициативы извне. Формальным выражением такой инициативы и становятся заявления и обращения.
Подавляющее большинство заявлений советского времени (как и сегодня) создавалось в стандартных ситуациях вроде поступления на работу или увольнения с нее, приема в какую-либо организацию, регистрации брака и т. п. По канцелярской традиции заявления должны были быть исключительно рукописными: почерк выступал в данном случае дополнительным признаком подлинности составляемого документа; бланки использовались лишь в некоторых случаях. Однако тексты оставались трафаретными; менялись только отдельные фрагменты, относящиеся к личности заявителя. Личностное начало в подобных документах выражалось лишь постольку, поскольку заявитель осознанно или неосознанно отступал от действующих образцов.
Больше свободы давали заявления, вызванные к жизни конфликтными или нетривиальными ситуациями (скажем, жалобы или заявления о преступлениях). В таких заявлениях нормативами определялись только реквизиты, а основная часть составлялась заявителем в меру его способностей к выражению своих мыслей[445]. Такого рода документы дают относительно большое пространство для самовыражения автора, позволяя историку увидеть не только суть ситуации, но и внутренний мир ее участников.
Наконец, обращениями граждан принято именовать письма, адресованные депутатам, руководителям регионов и ведомств, а также лидерам страны, вплоть до первых лиц партии и государства. Для авторов такие письма служили последним аргументом в особенно длительных конфликтах; власть, в свою очередь, видела в письмах граждан, во-первых, индикатор общественных настроений[446], во-вторых – возможность показать себя защитницей слабых и обездоленных, подпитывая старую, но очень выгодную всем правящим режимам мифологему «доброго царя в окружении злых бояр». Особенно действенными были коллективные письма, демонстрировавшие широкий общественный интерес к заявленной проблеме. Работой с обращениями граждан занималось одно из подразделений аппарата соответствующих органов власти (обычно общие отделы или секретариаты, хотя иногда для таких целей создавались и специальные структуры), которое анализировало поступившую информацию, готовило ответы или перенаправляло обращения в профильные ведомства для принятия мер.
Как правило, заявления и обращения граждан в массе своей не подлежат приему на государственное архивное хранение и уничтожаются «по миновании надобности». Фрагментарная сохранность препятствует исследованию такого рода документов в качестве массового источника: трудно собрать надлежащего размера корпус. Однако если обащения во властные структуры сохраняются (скажем, в личных архивах заявителей или в составе каких-либо резонансных дел), то ученый получает уникальную возможность взглянуть на жизнь страны глазами рядового человека.
Анкеты
При всей жизненности и нетривиальности информации, поступающей из заявлений и обращений, этих сведений, как правило, недостаточно для принятия решений. Следовательно, получив тот или иной «сигнал», аппарат должен собрать дополнительные сведения по затронутому вопросу.
Работа советских чиновников по аккумуляции данных приводила к появлению множества разнообразных документов – запросов, справок, заключений и т. п. Наименования, состав, порядок оформления и требования к содержанию этих материалов могут быть различными в зависимости от исторического периода, отрасли или региона и обычно определяются в каком-либо нормативном акте. Но одна форма сбора сведений заслуживает особого внимания как по значимости в жизни рядового жителя СССР, так и по своим информационным ресурсам. Эта форма – анкета.
Анкеты или опросные листы возникали и возникают не только в рамках делопроизводства, но и в статистике, где они выступают основным инструментом сбора первичной информации. Анкетирование широко применяется при проведении социологических и психологических исследований. Наконец, и в XIX, и в XX в. составление и заполнение анкет с вопросами о «жизни и мнениях» практиковалось как способ досуга[447], и такие анкеты следует относить к числу источников личного происхождения. Цель делопроизводственных анкет – получить сведения о заявителе, а специфические черты (по сравнению с анкетами, используемыми, скажем, в социологии) – расчет на собственноручное заполнение самим анкетируемым, необходимость сообщать точную информацию, невозможность отказаться от ответа на «неудобные» вопросы и определяющее воздействие на дальнейшую судьбу заполняющего их лица.
Использовавшиеся в советском делопроизводстве анкеты были рассчитаны на то, что отвечать на вопросы будут люди, несведущие в канцелярских процедурах, а возможно, и малограмотные. Поэтому при разработке бланков анкет делалось все, чтобы исключить возникновение ошибок: вопросы формулировались максимально развернуто, а типичные ответы по возможности вносились в бланк заранее, чтобы заполняющему осталось только выбрать нужный. Попутно решалась еще одна задача: чем меньше свободы в форме ответов, тем сложнее скрыть неблагоприятную информацию о себе, иными словами – тщательная разработка бланка должна была способствовать достоверности предоставляемых данных.
Наиболее распространенной из анкет, которые приходилось заполнять гражданину СССР, был личный листок по учету кадров, оформлявшийся каждый раз при приеме на работу. При этом в соответствии с господствующей идеологией отделы кадров интересовались не только профессиональными качествами, но и «классовой сущностью» будущего работника. В частности, в личных листках 1930х годов наряду с привычными и сегодня вопросами о дате рождения, образовании, владении иностранными языками и военной обязанности присутствовали графы «Сословие или происхождение до революции» (с вариантами ответа: из крестьян, мещан, дворян, купцов, духовного звания, военного сословия), «Кто из родственников ваших или вашей жены (мужа) лишен избирательных прав и за что?», «Имеете ли родных или близких знакомых за границей, где и чем занимаются, когда и почему выехали из СССР и их адрес», «Партийность: а) какой организацией принят в ВКП(б), б) время вступления, в) № партбилета и/или кандидатской карточки», «Состояли ли раньше в других политических партиях, в какой именно, где, когда и причины выхода», «Состояли ли раньше в ВКП(б), когда и причина исключения или выбытия», «Участвовали ли в оппозициях, каких и когда»[448], «Были ли за границей», «Служили ли в войсках и учреждениях белых правительств (белых армий) в каком чине, должности, где и когда; были ли на территории белых, когда, где и сколько времени», «Участвовали ли в революционном движении и подвергались ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской революции (за что, когда, каким)», «Принимали ли активное участие в Октябрьской революции и гражданской войне, когда, где и чем именно выразилось ваше участие», «Подвергались ли вы партвзысканиям за время пребывания в ВКП(б)», «Результат прохождения партчистки»[449]. Существенно подробнее, чем сегодня, расспрашивали о родственниках: о родителях надо было написать, «владели ли недвижимым имуществом, каким именно, где и когда», «чем занимались до революции (указать конкретно)», «чем занимаются и где находятся (указать точный адрес) в настоящее время»; состоящим в браке, кроме того, требовалось ответить на ряд вопросов о супруге и родителях супруга. В 1960–1970е годы формуляр личного листка по учету кадров стал проще: скажем, об участии в оппозициях уже не спрашивали. Однако исключительную остроту приобрел вопрос о национальности, шедший в большинстве советских документов под номером 5, откуда его разговорное название – «пятый пункт». В пристальном внимании кадровиков к этому «пункту» сказалась официально замалчиваемая, но широко существовавшая в СССР практика дискриминации представителей определенных национальностей, прежде всего евреев. Можно только догадываться о чувствах тех, кому приходилось заполнять изощренные советские анкеты. Вместе с тем историк может извлечь из анкет не только уточненные биографические данные того или иного конкретного лица, но и информацию об изменениях в политике советского государства.
Протоколы заседаний, постановления и стенографические отчеты
Господствовавшая в СССР идеология диктовала не только классовый подход ко всем сторонам общественной жизни, но и максимально широкое использование совещательного принципа принятия решений. В нашей стране не получили развития идеи рабочего самоуправления, предполагавшие, что трудовые коллективы (напрямую или через выборных представителей) распоряжаются средствами производства и доходами предприятий: в 1918 г. фабрично-заводские комитеты, явочным порядком бравшие на себя эти функции после Февральской революции, объединились с профессиональными союзами, которые вмешивались в вопросы администрирования лишь настолько, насколько это было нужно для защиты гарантированного рабочим права на труд. Соответственно, не сложилось и системы коллективного управления производством. В то же время коллегиальный характер имела работа ряда органов государственной власти (советов, вплоть до Верховного и его президиума, исполнительных комитетов, Совета народных комиссаров / министров), а также управленческих структур партии, комсомола и других общественных объединений. В 1917–1932 и 1957–1964 гг. существовали коллективные органы управления производством на региональном, республиканском и всесоюзном уровнях – советы народного хозяйства, а в 1920–1937 гг. действовал, кроме того, Совет труда и обороны, отвечавший за координацию деятельности в оборонной области. Наконец, в наркоматах (министерствах) и ведомствах существовали коллегии и научно-технические советы, на заседаниях которых обсуждались многие вопросы из компетенции соответствующих ведомств. Как следствие, значительный объем управленческих решений принимался совещательным путем. Материальное воплощение коллегиального принятия решений представляют собой три разновидности источников – протоколы заседаний[450], постановления и стенографические отчеты.
Наиболее распространенная из этих разновидностей – протокол заседания. Протокол должен следовать строгому формуляру, все элементы которого имеют свое значение. В заголовке документа приводятся название органа, ход заседания которого протоколируется, порядковый номер документа согласно принятой системе нумерации и дата засеания. Затем перечисляются присутствующие[451] (или указывается их число), отдельно следует назвать председателя (ведущего заседание) и секретаря, ответственного за оформление протокола. Основная часть документа выстраивается согласно так называемой повестке дня (т. е. списку рассматриваемых дел) и включает содержательные блоки двух типов – «Слушали» (где характеризуется предмет обсуждения[452]) и «Постановили» (где излагаются принятые решения). В конце протокола указывается дата его создания (не обязательно совпадающая с датой проведения заседания), а также ставятся подписи председателя и секретаря. В приложения к протоколу помещаются материалы, подготовленные к заседанию в письменной форме (повестка дня, разосланная до начала заседания, тексты докладов, иллюстративный материал к выступлениям, проекты решений и т. д.). В итоге протокол не всегда дает детализированное представление о ходе заседания, однако всегда формирует впечатление основательной подготовки и легитимности принимаемых решений, обоснование которой и есть основная задача протокола. Если кому-либо надо сообщить информацию только об одном из принятых решений, на основании протокола создается выписка из него, заверяемая подписью секретаря.
Из комплекса протоколов, фиксирующих деятельность важнейших советских учреждений, особенно детально изучены протоколы Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны начала 1920х годов, когда председателем обоих органов был В. И. Ленин; кроме того, опубликованы протоколы заседаний Президиума Высшего совета народного хозяйства РСФСР за 1917–1920 гг. и Президиума Госплана СССР начала 1920х годов.
Постановление посвящается одному из пунктов повестки дня и состоит, как правило, из двух частей – мотивировочной, в основу которой кладутся материалы обсуждения, и резолютивной, содержащей изложение принятых решений в соответствии с тем, как они были записаны в протоколе. Советская делопроизводственная практика допускала лаконичные мотивировочные части или даже отсутствие таковых. Так, мотивировка постановления СНК СССР от 28 апреля 1933 г. «О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории Союза ССР» ограничивается ссылкой на «статью 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932 г. об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Но ярким проявлением особого стиля советского делопроизводства стали пространные и цветистые мотивировочные части, наполненные оценочными суждениями:
Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) констатируют, что преподавание истории в школах СССР поставлено не удовлетворительно. Учебники и само преподавание носят отвлеченный, схематический характер. Вместо преподавания гражданской истории в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей – учащимся преподносят абстрактное определение общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами. Решающим условием прочного усвоения учащимися курса истории является соблюдение историко-хронологической последовательности в изложении исторических событий с обязательным закреплением в памяти учащихся важных исторических явлений, исторических деятелей, хронологических дат. Только такой курс истории может обеспечить необходимую для учащихся доступность, наглядность и конкретность исторического материала, на основе чего только и возможны правильный разбор и правильное обобщение исторических событий, подводящие учащегося к марксистскому пониманию истории.
В соответствии с этим Совет народных комиссаров Союза ССР и Центральный комитет ВКП(б) постановляют:
1. Подготовить к июню 1935 года следующие новые учебники по истории…[453]
Поскольку постановления высших органов советской власти и ЦК Коммунистической партии широко публиковались, такие развернутые преамбулы играли не столько делопроизводственную, сколько пропагандистскую роль. В некоторых случаях (например, в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» от 30 июня 1956 г.) резолютивная часть отсутствует, так что делопроизводственный по происхождению документ утрачивает управленческое содержание и превращается в образец специфической публицистики, позиционируемой как официальная позиция «партии и правительства».
Еще интенсивнее пропагандистская составляющая выражена в стенографических отчетах о разнообразных заседаниях, тем более что такие отчеты систематически публиковались как в периодической печати, так и в виде отдельных изданий[454]. В принципе, стенография – это особая техника ускоренного письма, позволяющая вести синхронную фиксацию человеческой речи. Когда средства звукозаписи были громоздкими и сложными в использовании, стенографирование было единственным способом дословной записи выступлений и дискуссий. Значение таких записей могло быть разнообразным. Самим участникам заседания стенографирование позволяло вернуться к ходу обсуждения и переосмыслить выдвинутые аргументы, чтобы полнее использовать сказанное в дальнейшей работе. В свою очередь, вышестоящие инстанции получали возможность проконтролировать организацию дискуссии, в частности убедиться, что председательствующий соблюдал регламент и предоставил слово всем, кто имел право высказаться[455]. Наконец, стенографирование заседаний, проходивших на высшем уровне (например, сессий Верховного совета СССР или съездов партии), воплощало статус соответствующих органов: коль скоро партийные съезды позиционировались пропагандой как эпохальные события в жизни страны и «всего прогрессивного человечества», то каждое слово, произнесенное со съездовской трибуны, следовало сохранить для истории, и стенография давала для решения этой задачи подходящий инструмент.
Вместе с тем, анализируя отложившиеся в архивах (а тем более опубликованные) стенографические отчеты, важно помнить, что необработанная расшифровка стенограммы или аудиозаписи сохраняет не только логику и стилистические особенности живого обсуждения, но и неизбежные в устной речи оговорки, незаконченные фразы, слова-паразиты и т. п., и если эти шероховатости не вычистить, то итоговый текст будет крайне трудно читать. Кроме того, необходимо продумать пунктуацию и разделить выступление на абзацы, которые также необходимы в письменном тексте, но по понятным причинам отсутствуют в устном. Как следствие, перед включением в отчет исходная запись проходит как минимум стилистическую правку. Но зачастую осуществляется и правка содержательного характера, призванная уточнить позицию автора, а то и подкорректировать ее, исходя из результатов обсуждения. В итоге текст, вошедший в стенографический отчет, может существенного отличаться от того, что было реально произнесено. При этом в стенографических отчетах наряду с развернутыми текстами всех прозвучавших выступлений приводятся вопросы к докладчикам, ответы на них и даже не предусмотренные протоколом реплики из зала, вплоть до хулиганских выкриков; более того, с помощью специальных ремарок обозначаются невербальные проявления эмоций – аплодисменты, смех, шум, свист и т. п. «Спонтанные» реакции аудитории большинства публичных мероприятий советского времени были, скорее всего, заранее срежиссированы; об этом свидетельствуют и наблюдения участников, и сам характер этих реакций[456]. В то же время благодаря подобным ремаркам читатель словно бы сам оказывается на описываемом заседании, так что широкая публикация такого рода материалов (параллельно с киносъемкой, радио– и телетрансляцией стенографируемых заседаний) помогала создать ощущение причастности «простого советского человека» к работе важнейших учреждений и организаций, а через это – и чувство участия в судьбх страны. Таким образом, делопроизводственный по происхождению документ подчинялся публицистической по своей сути задаче, превращаясь в инструмент агитации и пропаганды.
Планируя исследования, основанные на делопроизводстве советского периода, необходимо считаться с рядом ограничений. Далеко не все разновидности делопроизводственных документов Новейшего времени в должной степени сохраняются в архивах, что затрудняет формирование репрезентативного корпуса источников. Определенная часть материалов содержит не предназначенные для публикации личные сведения либо данные, составляющие государственную, военную или коммерческую тайну, и поэтому недоступна для исследования. Вместе с тем даже доступные материалы, при всей их специфичности, дают основания для выводов о том, как складывались отношения власти, общества и отдельного человека в едва ли не самый противоречивый период истории нашей страны.
3.3.2. Статистика советского периода
Хотя статистика и представляет собой, среди прочего, инструмент обратной связи в вертикально интегрированных системах, ее развитие никак не связано с развитием управления. Напротив того, многие статистические исследования возникают как общественная или частная инициатива: например, важнейшая разновидность статистических исследований XX в. – вычисление фондовых индексов, представляющих собой обобщенное числовое выражение движения капиталов на бирже, – появилась по инициативе финансовых журналистов[457], а осуществлялась (и осуществляется сегодня) либо информационными агентствами, либо редакциями деловых газет, либо самими биржами (представляющими собой, как правило, коммерческие организации)[458]. Потребителями собранных статистикой данных также оказываются не только работники управленческого аппарата разных уровней, но и частные лица – предприниматели, исследователи, активисты политических партий и общественных организаций. С этой точки зрения объединение информации о советской статистике в один параграф со сведениями о делопроизводственных документах может показаться искусственным.
Системообразующей чертой советского социума было почти полное отсутствие общественной активности в традиционном понимании этого слова. Легальные «общественные» организации работали в тесном взаимодействии с государственными учреждениями и фактически представляли собой органы управления, а частное предпринимательство за редчайшими исключениями считалось противозаконным. Независимая исследовательская деятельность вне научных институтов, функционировавших в системе академии наук или отраслевых министерств, также была практически невозможна. Как следствие, единственными «производителями» и «потребителями» статистики оказывались либо собственно государственные чиновники, либо люди, состоящие на службе в аффилированных государству структурах. Статистики вне государственного управления в СССР не существовало: она формировалась исключительно для целей управления страной, а значит, и рассматривать ее естественнее в ряду других аналогичных по функциям инструментов.
Положение статистики в обществе и отношение к ней со стороны властей предержащих были разными на разных этапах истории советского государства, соответственно менялось и содержание создаваемых материалов.
1920е годы характеризовались относительно благоприятной обстановкой для развития статистических исследований. На основании декрета СНК «Положение о государственной статистике» от 25 июля 1918 г. было сформировано Центральное статистическое управление РСФСР, в ведение которого поступили все сохранившиеся наработки дореволюционного Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Многие видные дореволюционные экономисты и статистики (В. Е. Варзар, В. Г. Громан, Б. Л. Кафенгауз и др.) были приняты на работу в органы управления промышленностью, в частности в Центральный отдел статистики Высшего совета народного хозяйства. Опираясь на систему ведомственных органов статистики и местных статистических организаций, ЦСУ проводило масштабные единовременные обследования (Всероссийская промышленная и профессиональная перепись 1918 г., переписи промышленности 1920 и 1923 гг., гнездовая сельскохозяйственная перепись 1919 г. и сплошная 1920 г., две всеобщих переписи населения – 1920 и 1926 гг., городская перепись 1923 г.), а также налаживало сбор текущей статистики, в частности текущей промышленной статистики, основывавшейся на регулярных самообследованиях предприятий по специальным бланкам. Получили дальнейшее развитие достижения дореволюционной статистики в области изучения крестьянства, в частности практика выборочных обследований крестьянских хозяйств и изучения крестьянских бюджетов; в разработку соответствующей проблематики внес значительный вклад известный экономист А. В. Чаянов (1888–1937). Было освоено сравнительно новое для российской статистики предметное поле – статистика правонарушений и девиантного поведения («моральная статистика»), организатором которой выступал известный с дореволюционных времен юрист и криминолог М. Н. Гернет (1874–1953). Результаты исследований широко публиковались отдельными изданиями в виде тематических ежегодников («Сельское хозяйство СССР в <…> году», «Промышленность в СССР», «Труд в СССР»), а до 1927 г. и в томах продолжающегося издания «Труды ЦСУ». Специалисты подчеркивают, что переписи и обследования 1918–1920 гг. проводились в тяжелых условиях Гражданской войны и разрухи и охватывали только те регионы, в которых уже утвердилась новая власть. Это негативно сказалось на репрезентативности данных и осложнило подготовку итоговых материалов. В свою очередь, со второй половины 1920х годов обозначилась тенденция к подчинению статистики задачам разработки государственного плана и наблюдения за его выполнением. В результате тематика статистических обследований была ограничена прикладными вопросами управления промышленностью и сельским хозяйством. Вместе с тем советская статистика пока еще сохраняла научную основу.
Радикальные изменения наступили в начале 1930х годов. И. В. Сталин и его окружение не испытывали потребности в статистике как инструменте оценки принимаемых ими управленческих решений. Более того, проведение статистических обследований в их классической форме стало опасным, ибо результаты такой работы могли опровергнуть старательно создаваемую пропагандой картину процветающей страны под мудрым руководством вождя. Многие ученые-статистики стали жертвами политических репрессий.
В 1930 г. было упразднено ЦСУ СССР, а вся статистическая работа возложена на экономико-статистический сектор Госплана. В 1931 г. сектор был повышен в статусе до Центрального управления народно-хозяйственного учета при Госплане СССР, которому подчинялась сеть республиканских и областных управлений. Однако уже название нового учреждения указывало на второстепенность статистической работы по сравнению с деятельностью по созданию форм отчетности и обобщению ее результатов[459]. ЦУНХУ продолжило практику широкой публикации цифровых показателей социально-экономического развития страны. В частности, увидели свет статистический справочник «Народное хозяйство СССР» (1932), несколько томов ежегодника «Социалистическое строительство СССР» (1934, 1935, 1936), а также ряд других изданий. Указанные издания отличаются выстроенностью и стабильностью структуры и в то же время обращают на себя внимание специфическим подбором данных[460]. Наконец, с середины 1930х годов складывается новая форма «статистических» публикаций, в которых отдельные обобщенные цифры подаются как иллюстрации к актуальным пропагандистским лозунгам. Такие издания выходили под грифом ЦУНХУ, но по сути представляли собой не результат научной обработки статистических данных, а соответствующим образом препарированные материалы для агитационной работы. Относительно адекватные показатели социально-экономического развития стрны если и собирались, то оставались достоянием высшего руководства.
Ярким проявлением нового статуса статистики стала судьба результатов (и организаторов) Всесоюзной переписи населения 1937 г. К моменту начала переписи были неоднократно опубликованы оценки, согласно которым численность населения СССР должна была составить 170–172 млн человек; в речах И. В. Сталина соответствующие цифры использовались как данность. Между тем в ходе переписи было учтено только 162 млн человек, т. е. на 8–10 млн меньше, чем ожидалось. Официально признать ошибочность прогноза было нельзя, тем более что расхождение предсказанных и эмпирических цифр косвенно свидетельствовало о потерях, которые страна понесла в ходе коллективизации сельского хозяйства и массовых репрессий. Как следствие, материалы переписи 1937 г. были объявлены «дефектными», специалисты, ответственные за ее подготовку (вплоть до начальника ЦУНХУ И. А. Краваля), признаны «троцкистско-бухаринскими агентами», арестованы и расстреляны, а в январе 1939 г. прошла новая перепись, по итогам которой население страны составило 170 млн человек, что уже соответствовало цифрам, заявленным с высоких трибун. Понятно, что в итоге процесс сбора и анализа информации о численности населения СССР был существенным образом нарушен. Однако сохранить в незыблемости тезис о преимуществах социалистического строя было для власти важнее, чем получить точные сведения о численности и распределении народонаселения.
Очередной перелом в отношении руководства страны к статистике наступил в середине – второй половине 1950х годов. Период с середины 1950х до конца 1980х годов характеризуется двумя разнонаправленными тенденциями.
С одной стороны, статистике постепенно возвращался статус самоценного вида деятельности, не связанного ни с учетом затраченных ресурсов и произведенной продукции, ни с задачами агитации и пропаганды. Еще в 1948 г. ЦСУ СССР было выведено из подчинения Госплану и восстановлено в правах самостоятельного ведомства, а с начала 1960х годов начальник управления входил в состав Совета министров. Прошли четыре всесоюзных переписи населения (в 1959, 1970, 1979 и 1989 гг.), итоги которых были относительно полно опубликованы[461]. Совершенствовались методы сбора текущей промышленной и сельскохозяйственной статистики, а также состав анализируемых в ней показателей. С 1960х годов к анализу статистических данных стали привлекаться электронно-вычислительные машины, в частности с 1963 г. действовал Главный вычислительный центр ЦСУ. При участии ЦСУ разрабатывались проекты (впрочем, так никогда и не осуществленные) создания Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации (ОГАС), которая должна была представлять собой всесоюзного масштаба компьютерную сеть для сбора сведений о состоянии экономики и выработки управленческих решений. Статистические данные по-прежнему активно использовались в пропагандистских целях. С 1956 г. был налажен выпуск системы статистических сборников, в которую входили обобщающее ежегодное издание «Народное хозяйство СССР в <…> году» и отраслевые сборники, посвященные промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, внешней торговле и т. д. Структура этих изданий отсылала к структуре сборников «Социалистическое строительство СССР», выходивших в первой половине 1930х годов, т. е. еще до радикального сокращения объема публикуемых статистических данных. Аналогичные издания выходили на уровне союзных республик. Все перечисленное свидетельствовало о заинтересованности государства в сборе точной информации о состоянии страны.
Однако при публикации результатов статистических исследований сохранялась практика манипуляции показателями. Скажем, объемы производства промышленной продукции было принято описывать не в натуральных измерителях (штуках, погонных метрах и т. п.), а в стоимостном выражении. Такая практика упрощала получение средних цифр по отрасли и экономике в целом и в то же время приводила к завышению темпов роста промышленности, поскольку итоговые показатели могли увеличиваться не только из-за интенсификации производства, но и из-за повышения стоимости продукции[462]. Значительный объем данных оставался закрытым, а некоторые важные и давно принятые мировой экономической наукой статистические показатели (валовой внутренний продукт) вообще не рассчитывались до конца 1980х годов. Компромиссом между нежеланием власти предавать огласке неудобные с идеологической точки зрения цифры и необходимостью опираться на достоверные сведения при выработке социально-экономической политики стала практика публикации статистических исследований с грифом «Для служебного пользования». Такие материалы рассылались по спискам руководителям ведомств и профильных научно-исследовательских институтов и содержали существенно более подробную картину жизни в стране, чем опубликованные статистические ежегодники.
В целом состояние дел в статистике соответствовало уровню развития экономической науки и общественной мысли: данные собирались качественно и полно в той мере, в какой власть была готова их воспринимать, те же процессы, к осознанию которых правительство было не готово, оставались за рамками статистических исследований.
3.4. Периодическая печать, публицистика и художественная литература советского периода
Периодическая печать, публицистика и художественная литература выполняют в обществе разные функции. Если периодические издания и публицистические сочинения служат структурированию социального пространства, то художественная литература в обычном случае – занятие сугубо частное, как по происхождению, так и по преследуемым целям. И. А. Бродский писал об этом следующее:
Будучи наиболее древней – и наиболее буквальной – формой частного предпринимательства, оно [искусство. – Д. Д.] вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности – превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Мария Рильке. Произведения искусства, литература в особенности и стихотворение в частности обращаются к человеку тет-атет, вступая с ним в прямые, без посредников, отношения[463].
Объединение характеристик периодики, публицистики и художественной литературы советского времени в одном разделе учебного пособия с идеально-типической точки зрения может показаться противоестественным. Вместе с тем специфика исторической ситуации, сложившейся в России XX в., такова, что подобное объединение становится не только оправданным, но и единственно возможным.
Еще в XIX в. в российской культуре сформировалась интеллектуальная традиция, носители которой рассматривали писательство исключительно как форму общественного служения, отрицая самостоятельное (эстетическое) содержание литературного труда. «Литература, – писал, в частности, Н. А. Добролюбов, – представляет собою силу служебную, которой значение состоит в пропаганде, а достоинство определяется тем, что и как она пропагандирует»[464]. Естественно, такого рода утилитаризм не был единственным направлением отечественной литературной критики[465], однако он был весьма популярен в определенных кругах общества, причем как раз в тех, откуда вышли люди, осуществившие и Февральскую революцию 1917 г., и тем более последующий октябрьский переворот. В итоге социальная значимость стала основным критерием оценки литературного творчества властью, а поскольку власть претендовала на всеобъемлющий контроль над всеми сторонами общественной жизни, то этот критерий качества был навязан и литераторам. Грань между эстетикой и пропагандой оказалась полностью стертой, а попытки писать без оглядки на социально-политический контекст(что было весьма характерно для того же И. А. Бродского) сами по себе превращались в особого рода политический жест. Рассматривать художественную литературу как что-то отдельное от публицистики в такой ситуации нелогично.
Убежденность в наличии у всякого творчества политического содержания обусловила то, что почти сразу же по приходе к власти большевики озаботились установлением максимально плотного государственного контроля над представителями творческих профессий. Для решения этой задачи было создано несколько управленческих инструментов, как сугубо репрессивных, так и призванных поощрять за лояльность. Знание этих инструментов и механизмов их действия необходимо для адекватного понимания как журналистики, так и художественной литературы советской эпохи.
3.4.1. Инструменты управления творческой интеллигенцией в СССР
Возникновение и принципы работы советской цензуры
Первым инструментом управления советской творческой интеллигенцией была цензура. Большевистская идеология не требовала обязательной национализации печати, напротив – представителям рабочего класса и «трудового крестьянства» следовало обеспечить максимально широкий доступ к печатному станку. Частные и кооперативные издательства действовали по меньшей мере до конца нэпа, а в дальнейшем допускалась и даже поощрялась издательская деятельность общественных организаций, например Союза писателей СССР. В то же время следовало оградить массы от воздействия «враждебных» и «реакционных» взглядов. Выполнять эту охранительную функцию должна была советская цензура.
История цензуры в Стране Советов началась в первые же часы после переворота 25 октября 1917 г. Во все издательства и типографии Петрограда были назначены комиссары, подчинявшиеся общегородскому комиссару по делам печати. Типографским рабочим (считавшимся априори более сознательными, чем журналисты и владельцы издательств) «предлагалось» не выполнять никаких работ без указания своего комиссара. Издания, от коллективов которых следовало ожидать наиболее упорного сопротивления новым порядкам (а это были большинство авторитетных центральных газет, в частности «День», «Речь», «Биржевые ведомости», «Новое время» и др.), были закрыты, их типографии оцеплены революционным солдатами, а запасы бумаги описаны и арестованы на складах. Так, явочным порядком, сформировалась первая форма цензуры, осуществлявшейся комиссарами на местах.
27 октября (9 ноября) 1917 г. Совет народных комиссаров (СНК) издал Декрет о печати, состоявший из двух частей – обширной преамбулы, где говорилось о необходимости «пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа желтая и зеленая пресса»[466], и краткой резолютивной части в трех пунктах, объединенных заголовком «Общие положения о печати»:
1. Закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правительству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного, т. е. уголовно-наказуемого характера.
2. Запрещения органов прессы, временные или постоянные, проводятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.
3. Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни[467].
Эти слова не только подтверждали уже принятые решения о закрытии газет, но и давали понять, что в дальнейшем практика закрытий будет продолжена. По мере укрепления советской власти комиссары по делам печати назначались во всех контролируемых большевиками городах.
Несколько раз повторенные в Декрете о печати слова о временном характере вводимых мер внушали надежду на скорое прекращение административного нажима на журналистов и издателей. На заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. большевик и известный публицист Ю. Ларин (М. З. Лурье) предложил обсудить отмену Декрета о печати как исчерпавшего свои задачи и явно неуместного в связи с приближающимися выборами в Учредительное собрание. Предложение было поддержано лидерами левых эсеров, включая двух будущих наркомов А. Л. Колегаева и В. А. Карелина. Однако позиция В. И. Ленина и его окружения оставалась жесткой. В утвержденном варианте резолюции говорилось:
Закрытие буржуазных газет вызывалось не только чисто боевыми потребностями в период восстания и подавления контрреволюционных попыток, но и являлось необходимой переходной мерой для установления нового режима в области печати, такого режима, при котором капиталисты-собственники типографий и бумаги не могли бы становиться самодержавными фабрикантами общественного мнения.
Дальнейшей мерой должна быть конфискация частных типографий и запасов бумаги, передача их в собственность Советской власти в центре и на местах с тем, чтобы партии и группы могли пользоваться техническими средствами печатания сообразно своей действительной идейной силе, т. е. пропорционально числу своих сторонников[468].
Иными словами, указание на временный характер декрета от 27 октября было перетолковано в том смысле, что грядущий постоянный закон не просто не смягчит, но и ужесточит уже введенные ограничения.
Дополнительной формой подавления неугодной издательской деятельности стала государственная монополия на публикацию частных объявлений, установленная специальным декретом в конце ноября 1917 г.[469] Согласно этому декрету, правом печатать частные объявления наделялись «только издания Временного рабочего и крестьянского правительства в Петрограде и издания местных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Прочие периодические издания в случае публикации ими объявлений или иных форм коммерческой рекламы подлежали немедленному закрытию. Предполагалось, что данная мера лишит «буржуазные» газеты и журналы источников финансирования. Однако наладить выполнение декрета о государственной монополии на объявления долгое время не удавалось, так что реальный эффект от этой меры был незначителен.
Несогласованность и непоследовательность были вообще характерной чертой политики первых месяцев советской власти в области печати. Местные комиссариаты и отделы по делам печати действовали в значительной степени автономно, а сформировавшие их советы издавали собственные декреты, распоряжения и постановления о печати, зачастую входившие в противоречие с Декретом о печати, выпущенным СНК. Многие комиссары обнаруживали склонность к самодурству и запрещали те или иные издания исключительно по своей прихоти, чем дополнительно усложняли осуществление единой политики. Общество, со своей стороны, восприняло меры по ограничению свободы печати крайне болезненно. В кампанию протеста включились носители самых разнообразных взглядов – от поэтов-символистов (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Ф. К. Сологуб) до старых народовольцев и левых писателей (В. И. Засулич, В. Г. Короленко, М. Горький), а солдаты Преображенского и Семеновского полков даже заявляли о готовности защищать созданную ими газету «Серая шинель» с оружием в руках[470]. Появлялись однодневные газеты «в защиту свободы слова»: «Газета-протест», изданная в Петрограде Союзом русских писателей 26 ноября 1917 г., «Слову – свобода!», выпущенная Клубом московских писателей в декабре того же года, и др.[471] Некоторые издания выходили с пустыми полосами, что должно было символизировать невозможность распространения информации в условиях большевистской цензуры. Наконец, возникла практика возобновления закрытых комиссарами газет под видоизмененными названиями. Так, упомянутая выше газета партии кадетов «Речь» возродилась под названием «Наша речь», а издатели петроградской газеты «Голос солдата» воспользовались этим приемом восемь раз («Солдатский голос», «Искры», «Солдатский крик», «Мира, хлеба и свободы», «За свободу», «За свободу народа», «Революционный набат», «Набат революции»)[472]. Но, несмотря на все сложности и сопротивление, курс новых властей на ликвидацию небольшевистской печати оставался неизменным. Только за два последних месяца 1917 г. было закрыто более 100 газет и журналов.
Попыткой систематизировать политику в области периодики и книгоиздания стали революционные трибуналы печати, учрежденные декретом СНК от 28 января 1918 г. В задачи трибуналов и сформированных при них следственных комиссий входило пресечение «преступлений и проступков против народа, совершаемых путем использования печати»[473]. Заседания трибуналов проходили открыто, процесс имел состязательный характер, а спектр назначаемых наказаний был расширен и допускал как жесткие меры (денежный штраф, приостановку или закрытие издания, конфискацию имущества редакции, высылку издателя), так и более мягкое воздействие в форме общественного порицания (с публикацией сведений о таковом за счет обвиняемого) или обязательной публикации опровержений. Открытость работы трибуналов должна была расширить социальную базу принимаемых решений. Но уже весной 1918 г. работа трибуналов была свернута и власти вернулись к прежней практике административного закрытия неугодных изданий с конфискацией типографского оборудования и запасов бумаги. Действительно новый этап в развитии советской печати наступил с принятием 21 мая 1919 г. Положения 0 Государственном издательстве РСФСР.
Госиздат был основан декретом от 29 декабря 1917 г. (11 января 1918 г.), подписанным наркомом А. В. Луначарским и утвержденным на заседании ВЦИК. В задачи нового органа входили подготовка «дешевых народных изданий русских классиков» (причем сразу в двух вариантах – «полном научном» для специалистов и «сокращенном» для массового читателя), подготовка и издание «исправленных» в соответствии с требованиями времени учебников, а также субсидирование общественных и частных издательских проектов, если таковые будут сочтены «общеполезными». Положение 1919 г. сохранило эти издательские функции, но дополнило их функцией контроля над всей издательской деятельностью на территории страны. Госиздат выпускал инструкции и предписания, обязательные для всех издательств, включая кооперативные и частные, руководил (с 29 июля 1919 г.) деятельностью отделов по печати местных советов, а кроме того – распределял запасы бумаги, производство и продажа которой были полностью сосредоточены в руках государства. Последняя функция была особенно значимой, ибо создавала ситуацию, при которой издатели были сами заинтересованы в скрупулезном выполнении распоряжений Госиздата. Более того, обойти запрет Госиздата стало физически невозможно, что сделало эту структуру безраздельным хозяином положения в области периодической печати и книгоиздания.
Параллельно с развитием политической цензуры складывалась система охраны государственной и военной тайны. Военная цензура печати была учреждена 21 июня 1918 г. и осуществлялась на тот момент структурами Народного комиссариата по военным и морским делам. В развитие Положения о военной цензуре были разработаны «Инструкция военным цензорам» и «Перечень сведений, подлежащих предварительному просмотру». Существенными проблемами военной цензуры первых лет советской власти были нехватка кадров и их низкая квалификация, вынуждавшие ограничивать круг контролируемых изданий. При этом цензоры пытались не только ограничивать распространение секретных сведений, но и вмешиваться в редакционную политику. Такое поведение создавало конфликтные ситуации и вынуждало руководство военного ведомства выступать с разъяснениями относительно функций военной цензуры[474].
Работа Госиздата в качестве цензурного ведомства оказалась также не слишком успешной. Руководствуясь предельно упрощенным пониманием марксизма, Госиздат запрещал не только публикации религиозной или идеалистической направленности, но и переиздания трудов народников и революционеров-демократов; под запрет (как «несвоевременные») попали, в частности, сочинения М. А. Бакунина, Н. К. Михайловского и П. А. Кропоткина[475]. Отдельную проблему составляло дублирование цензурных функций Госиздата военной цензурой, которой, согласно распоряжению РВС от 10 августа 1920 г., следовало предоставлять на предварительный просмотр «весь предполагаемый к опубликованию печатный материал (за исключением бланков, торговых книг и т. п.)»[476]. Наконец, запутанная цензурная политика усугублялась плохой работой Госиздата как издательства, что вызывало протесты со стороны писателей, включая М. Горького. Поиск более эффективных форм проведения государственной политики в области издательского дела заставил власти выработать новый порядок осуществления цензурных функций. 6 июня 1922 г. было сформировано Главное управление по делам литературы и издательств Народного комиссариата просвещения РСФСР, сокращенно – Главлит. Создание Главлита стало третьим и последним этапом организационной эволюции советской цензуры. В последующие десятилетия Главлит неоднократно переименовывался и переподчинялся (так, при образовании Союза ССР были созданы отдельные цензурные ведомства для всех союзных республик, кроме Российской Федерации, оставшейся в ведении общесоюзного Главлита; с 1933 г. Главлит был наделен статусом самостоятельного ведомства при Совете народных комиссаров), однако в целом принципы его функционирования оставались неизменными вплоть до ликвидации цензуры в 1991 г. На местах функционировали республиканские, областные и краевые управления по делам литературы и издательств, которым, в свою очередь, подчинялись районные уполномоченные, контролировавшие работу отдельных издательств. Структуры Главлита утверждали планы выпуска издательской продукции, разрешали и запрещали выход периодических изданий, отслеживали деятельность типографий и комплектование библиотек, а также контролировали ввоз литературы на иностранных языках. Опубликовать что-либо типографским способом без ведома Главлита было невозможно.
Поступавший на цензуру (в советском речевом обиходе – «на литование») материал проходил проверку по двум параметрам. С одной стороны, цензоры следили, чтобы в тексте и на иллюстрациях к нему не происходило разглашения государственной тайны. В этом чиновникам помогали «Перечни сведений, составляющих военную и государственную тайну», регулярно перерабатывавшиеся с учетом технического прогресса и политической обстановки. С другой стороны, надлежало не допускать к печати ничего «идеологически вредного», и здесь цензору предлагалось опираться как на букву директивных документов[477], так и на свою собственную «партийную совесть». Обобщив наблюдения, проверяющий мог поставить визу, разрешающую печать, мог внести изменения, иногда весьма масштабные, а мог в принципе запретить публикацию; в первые годы существования Главлита его чиновники работали с писателями напрямую, в дальнейшем сложилась практика, при которой решение цензора доводилось до сведения редакции, а той уже предстояло работать с автором. Некоторые издания, выпускавшиеся партийными органами, государственными учреждениями и структурами академии наук, освобождались от идеологической цензуры, но все равно подлежали проверке на предмет разглашения секретов. Характерной чертой советской цензуры было расширительное использование понятия «государственная тайна»: засекречиванию подлежали не только сведения, значимые для обороноспособности страны, такие как, например, расположение воинских частей, детали атомного проекта и направления военного использования космоса, но и данные, которые могли быть «ошибочно истолкованы». Скажем, под запретом могла оказаться информация об авариях на транспорте, числе самоубийств, количестве психически больных, частоте разводов, ареалах распространения насекомых-вредителей и даже о самом факте существования цензуры. «Партийная совесть» и «революционная бдительность» цензоров проявляли себя иной раз также весьма причудливым образом. В частности, у ленинградского Гублита возникли возражения против «Мухи-Цокотухи» К. И. Чуковского:
В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар – переодетый принц!! Надеюсь, это было сказано в шутку, так как никаких оснований для подобного подозрения нет. Этак можно сказать, что «Крокодил» – переодетый Чемберлен, а «Мойдодыр» – переодетый Милюков. Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо! Может быть, это и так (рисунки вообще препротивные!), но, к счастью, трехлетним детям кокетливые улыбки не опасны.