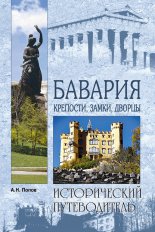Источниковедение Коллектив авторов

В годы ордынского владычества традиция написания поучений и слов не прервалась. К концу XIII в. относится слово митрополита Кирилла, в котором были изложены правила Владимирского собора 1274 г. Оно было разослано по всем русским епархиям и включено в состав Кормчих книг. Близки к нему по времени и «слова» (или поучения) Серапиона Владимирского (1274–1275). Внимание епископа сосредоточено на обличении пороков своего времени и призыве к покаянию и исправлению.
Поучения и послания митрополита Петра, новгородского архиепископа Василия, митрополита Алексия, епископа сарайского Матфея, посвященные вопросам веры и нравственности, составляют значительную часть всех оригинальных сочинений XIV в. Все они отражают проблематику, волновавшую русское общество в период начала объединения русских земель. Важное место в них занимают вопросы соотношения светской и духовной властей. Особую силу в связи с грядущим 7000 г. начинают приобретать мотивы подготовки к концу света и Страшному суду.
В конце XIV – начале XV в. появляется ряд русских сочинений учительного характера, написанные выходцами из Сербии и Греции: митрополитами Киприаном, Фотием и Григорием Цамблаком.
Киприану принадлежат пять посланий: одно окружное и четыре адресованных Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому. Последние затрагивают конфликт, связанный с поставлением Дмитрием Донским на митрополию Митяя-Михаила. Они содержат любопытные подробности и оценки отдельных эпизодов борьбы Киприана за митрополию.
Перу митрополита Фотия принадлежат восемь «слов», или поучений, адресованных пастве, 29 посланий и грамот, а также завещание митрополита. Однако по своему значению они существенно уступают сочинениям Григория Цамблака (22 «слова», полемическая статья против латынян и богослужебный стих на Успение Богородицы). Творчество Григория Цамблака оказало заметное влияние на русскую литературу.
В жанре учительной литературы в первой половине XV в. писали также Кирилл Белозерский (послания к великому князю московскому Василию Дмитриевичу, можайскому князю Андрею Дмитриевичу и звенигородскому князю Георгию Дмитриевичу) и Симеон Новгородский («Поучение о молитве» и «Слово к псковичам»).
Авторы посланий и поучений второй половины столетия сосредоточили внимание на событиях, в значительной степени определивших судьбу не только древнерусской литературы, но и всей России в целом. Это, во-первых, ожидание конца света в 7000 г. и связанная с ним борьба против еретических движений; во-вторых, обретение русской митрополией автокефалии; в-третьих, объединение русских земель вокруг Москвы и, как следствие для церкви, разделение русской митрополии на западную и восточную.
Произведения, созданные по первому поводу, составляют собственно учительную (самую обширную) группу. К ним относятся шесть посланий митрополита Ионы (к новгородскому архиепископу Евфимию и ко всем новгородцам, к новгородскому князю Юрию Семеновичу, в Боголюбов монастырь, к детям, непокорным своей матери, и к жителям Вятки), два сохранившихся «слова» митрополита Феодосия (похвала апостолам Петру и Павлу и похвала по случаю чуда от мощей святителя Алексия) и одно послание митрополита Филиппа к игумену Троице-Сергиева монастыря Спиридону. Особенной остроты в последние десятилетия XV – первые десятилетия XVI в. достигла полемика с ересью «жидовствующих». По поводу ереси написано несколько посланий новгородского архиепископа Геннадия (к епископам сарскому Прохору, суздальскому Нифонту, Филофею Пермскому, к архиепископу ростовскому Иоасафу, к митрополиту Зосиме, а также к поместному собору). Эти послания имеют более исторический характер, излагая обстоятельства дела и призывая к гонениям против еретиков. Подобного рода послания были и у другого теоретика ортодоксального православия, Иосифа Волоцкого (или Волоколамского). Главным его трудом стал знаменитый «Просветитель» (включивший часть посланий волоцкого игумена против еретиков и их учения). Его создание заняло период примерно с 1493 по 1515 г. Возможно, в составлении «Просветителя» Иосифу помогал другой известный богослов Нил Сорский, в последние годы жизни ставший оппонентом волоцкого игумена по вопросу о монастырском землевладении. Идеи, близкие архиепископу Геннадию и Иосифу Волоцкому, высказывали в своих посланиях Дмитрий Герасимов и Нил Полев. В качестве их идейных противников выступали в своих произведениях князь-инок Вассиан Косой (Вассиан Патрикеев), поп Георгий Скрипица, новгородский архиепископ Серапион и другие авторы. Иногда Дмитрию Герасимову приписывают одно из важнейших учительных произведений того времени – «Повесть о белом клобуке». В ней обосновывалось перемещение центра православного мира на Русь.
По второму вопросу сохранились послания великого князя Василия Васильевича, адресованные константинопольскому патриарху и греческому императору, а также послания митрополита Ионы к патриарху и своей пастве, в которых обсуждалось самостоятельное возведение на престол русского митрополита.
Третьему из указанных вопросов посвящена довольно обширная переписка. Прежде всего это послания митрополита Ионы ко всем русским людям, а также к жителям Новгорода и Вятки, в которых поддерживался великий князь Василий Васильевич в его борьбе с Дмитрием Шемякой. К 1458–1461 гг. относятся ряд посланий великого князя Василия Васильевича польскому королю Казимиру и митрополита Ионы в Литву, Новгород и Псков, в которых обсуждались вопросы государственно-конфессиональных отношений. К этому комплексу примыкают также послания в Новгород преемника Ионы, митрополита Феодосия. Впоследствии митрополиты Филипп и Геронтий (1473–1489) также направили послания новгородцам и вятичам, призывая их к покорности московскому князю.
В XVI в. центральным стал вопрос о статусе Московского государства. В связи с предсказанием немца Николая Булева о грядущем якобы в 1524 г. новом всемирном потопе появилось несколько антиастрологических произведений Максима Грека и старца новгородского Елеазарова монастыря Филофея. В учительных посланиях елеазаровского старца к государям Руси и царскому дьяку Мисюрю Мунехину (сентябрь 1527 – март 1528 г.) впервые в явном виде были сформулированы идеи перехода центра богоспасаемого мира на Русь (так называемая теория «Москва – третий Рим»). По образцу «Просветителя» Иосифа Волоцкого был составлен «Сборник учительный», в который вошли 33 «слова» митрополита Даниила (1522–1539), закрепивших новый официальный статус царя. Серьезным вкладом в развитие отечественной учительной литературы стала трилогия Ермолая-Еразма (40–60е годы XVI в.): «Слово преболшее о троичности и единстве», «Слово о Божии соворении тричастнем» и «Молитва к Троице».
В XVII в. число учительных произведений пополнилось «Прениями с греками о вере» троицкого монаха Арсения Суханова, написанными в связи с богословским диспутом в резиденции Иерусалимского патриарха в 1649 г. В этом сочинении не только доказывается независимость русской церкви, но и провозглашается то, что московский царь – глава православия.
Несомненно, самой яркой страницей истории учительной литературы XVII в. стал комплекс произведений, связанных с расколом. Прежде всего это послания и слова идейных лидеров борющихся сторон – патриарха Никона (1652–1667) и протопопа Аввакума. Только из-под пера знаменитого расколоучителя (в основном в последние 15 лет его жизни) вышло не менее 90 произведений. Собственно учительный характер имеют «Книга бесед» и «Книга толкований», а также статья «Списание и собрание о божестве и о твари, и како созда Бог человека». В «Книгу бесед» вошли, в частности, толкования «Послания к римлянам» и Евангелия от Иоанна. «Книга толкований» объясняет смысл псалмов, книги Притчей и Премудрости Соломона, книги пророка Исайи и др. Важное место в полемике отводится вопросам нравственности духовенства и паствы, отношений между светской и духовной властью, о пределах самовластья личности и др.
Раскол, ожидание скорого рождения Антихриста и конца света стали доминирующими темами во всей учительной литературе второй половины XVII в.
Житийная литература
Самое раннее оригинальное древнерусское житие – «Служба святым мученикам Борису и Глебу», атрибутируемая митрополиту Иоанну (около 1021 г.; списки XII в.). Основные положения этого жития были развиты в «Сказании о святых мучениках Борисе и Глебе» (вторая половина XI в.), известном во множестве списков. Несколько позже монахом Иаковом было написано уже упоминавшееся «Житие князя Владимира» («Память и похвала князю русскому Владимиру»).
Младшим современником Иакова был Нестор, перу которого принадлежат житийные повести о Борисе и Глебе («Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпцу Бориса и Глеба»), а также о Феодосии Печерском. Нестор хорошо знаком с иноязычными образцами житийной литературы (в частности, с чешским житием св. Вацлава, с памятниками греческой агиографии). Житие Феодосия, видимо, опиралось на утраченное житие Антония Печерского. Оно сохранило множество живых черт быта киевских монахов и горожан конца XI в. Описывая поведение Феодосия во время конфликта Ярославичей из-за киевского престола, Нестор фактически легитимировал неподчинение деятелей церкви светской власти князя. Житие Феодосия стало образцом для последующих древнерусских житийных произведений.
К концу XI – началу XII в. относится анонимное описание жизни и чудес Николая Мирликийского. Автор, в частности, ссылается на чудеса в Царьграде и Киеве, свидетелем которых был сам.
Упоминавшиеся уже послания инока Поликарпа и адресованные ему послания Владимирского епископа Симона (1215–1226) содержали ряд рассказов о печерских подвижниках (девять – у Симона, 11 – у Поликарпа). Их объединение создало основу «Киево-Печерского патерика». Туда вошел также фрагмент Повести временных лет («Слово о первых черноризцах печерских»). Первоначальная редакция «Киево-Печерского патерика» не сохранилась. Его самый ранний датированный текст – редакция 1406 г., составленная по инициативе тверского епископа Арсения. Независимо от Арсениевской редакции в самом Киево-Печерском монастыре в 1460 и 1462 гг. были созданы так называемые I и II Кассиановские редакции «Киево-Печерского патерика». В них первоначальный текст был расширен несколькими новыми статьями, восходящими ко времени до XIII в. II Кассиановская редакция легла в основу всех последующих переработок Патерика.
В XIII в. русская агиография пополнились «Житием преподобного Антония Римлянина», написанным его учеником и преемником Андреем, а также «Житием Авраамия Смоленского», созданным его учеником Ефремом. К последней половине XIII в. относятся житийное сказание о мученической кончине князя Михаила Черниговского и его боярина Феодора, жития Александра Невского и ростовского епископа Исайи. Эти агиографические повести отличаются рядом конкретных черт, позволяющих восстановить многие детали описываемых в них событий. Точность описаний поддается проверке при сличении их с современными летописными источниками и записками иностранных путешественников.
XIV в. пополнил список отечественных агиографических повестей житиями Кирилла Туровского и митрополита Петра, а также близкими к житиям сказаниями о благочестивых князьях Довмонте Псковском, Михаиле Тверском и Дмитрии Донском. Последние имеют светский характер и вошли в состав летописей.
В первой половине XV в. появляются жития, оказавшие влияние на все последующие агиографические сочинения, писавшиеся на Руси. Это жития Стефана Пермского, Сергия Радонежского, Дмитрия Прилуцкого и митрополита Алексия. Первые два написаны Епифанием Премудрым, лично знавшим Стефана и Сергия. Это позволило ему создать повести, которые отразили множество живых подробностей жизни и быта подвижников и их окружения. В то же время в агиографических произведениях появляются витиеватость и многословность, затрудняющие выявление достоверной информации. Около 1440 г. Пахомием Сербом (Логофетом) было написано еще одно житие Сергия Радонежского, а несколько позже – жития митрополита Алексия, Кирилла Белозерского, Варлаама Хутынского, Троице-Сергиева игумена Никона и новгородских владык Моисея и Иоанна. Кроме того, он написал несколько житий местночтимых святых. Во второй половине 60х – начале 70х годов иеромонах ярославского Спасо-Преображенского монастыря Антоний написал житие князя Феодора Ростиславича. Вскоре после смерти митрополита Ионы какой-то новгородец составил по воспоминаниям его житие. В 1495 г. под пером глушицкого инока Иринарха появилось житие преподобного Дионисия Глушицкого, основанное на устных рассказах-воспоминаниях и монастырских заметках
Всего к XVI в. набралось около 40 жизнеописаний князей, митрополитов, епископов, настоятелей монастырей, живших в XI – первой половине XV в., почитавшихся святыми, но официально не канонизированных, а также несколько десятков рассказов о печерских подвижниках XI–XIII вв., составивших патерик Киево-Печерского монастыря.
В 1547 г. в Москве был созван поместный собор, на котором был придан общерусский статус 11 святым, а еще девять были объявлены местночтимыми. Основанием, в частности, служило наличие житийной повести о святом, соответствующей канону. В 1549 г. состоялся еще один собор, на который были представлены вновь разысканные материалы о святых. Все они были освидетельствованы собором, после чего было принято решение об их канонизации.
За четверть века до этих соборов председательствующий на них митрополит Макарий сам вел колоссальную работу по кодификации «всех святых книг, которые в Русской земле обретаются». Итогом этой работы стали «Великие четии минеи» (т. е. месячные чтения). Они составили 12 больших книг – по числу месяцев. В каждой из них были собраны жития святых, сказания об открытии их мощей, об установлении дней их памяти, поучения, похвальные «слова», назидательные повести и изречения подвижников и т. д. В конце каждого тома были помещены наиболее авторитетные христианские произведения (Синайский и Египетский патерики, «Хожение игумена Даниила», «Шестоднев» экзарха Иоанна, «Пчела», «Космография» Козьмы Индикоплова, сочинения Григория Цамблака и др.), которые по тем или иным причинам не могли быть отнесены к определенным календарным датам. В 1541 г. все 12 книг были внесены Макарием в новгородский Софийский собор на помин души своих родителей. В 1552 г. Макарий пожертвовал еще один список «Великих четьих миней» московскому Успенскому собору, а другой подарил Ивану Грозному.
После соборов подготовка житий принимает организованный характер и ведется под контролем митрополита (с 1589 г. – патриарха). С этого времени жития становятся более формальными, а конкретно-историческая информация в них сводится к минимуму. Поэтому поздние житийные произведения представляют для историка ограниченный интерес.
Исключение составляет «Повесть о Петре и Февронии» (середина XVI в.) Ермолая-Еразма, сохранившаяся в автографе. Нарушая канон, она перекликается с западноевропейским рыцарским романом и русским фольклором. Повесть не была включена в состав поздних «Великих четьих миней».
Особняком стоит «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное», которое формально следует отнести к житийной литературе. Первая русская автобиография (если не считать поучения Владимира Мономаха) была создана во время пустозерского заключения, по «понуждению» духовника и соузника «огнепального» протопопа, старца Епифания. В «Житии…» присутствуют полемические и учительные черты. Оно известно в двух автографах и множестве (не менее 45) списков. Списки «Жития…» делятся на три редакции: первая написана в 1672–1673 гг., третья – не позже 1676 г. Аввакумово житие представляет собой уникальный памятник саморефлексии русского человека XVII в. Оно сохранило не имеющую аналогов информацию не только об обстоятельствах жизни автора и о расколе, но также о повседневной жизни, быте, поведении людей. В целом житие Аввакума далеко отстоит от прочих произведений жанра, из которого оно выросло.
Изучение житий с источниковедческой точки зрения большинством ученых признается малоперспективным. Это мнение опирается на фундаментальное исследование древнерусских житий, предпринятое В. О. Ключевским. Справедливое в отношении конкретных вопросов, оно не вполне бесспорно в целом. Большинство житий до сих пор не имеют научного издания.
Современное состояние источниковедения позволяет более оптимистично взглянуть на перспективы использования агиографии в исторических исследованиях. Представляется возможным шире осуществлять формулярный анализ при изучении житийной литературы. Это, в частности, может позволить точнее воспроизвести представления о святости в Древней Руси. Больше внимания следует уделить тем нравственным нормам, которые пропагандируются в житиях. Несмотря на абстрактно-трафаретные элементы содержания каждого из них, те из житий, которые принадлежали перу современников, сохранили важные исторические свидетельства. Часто они рассказывают о повседневной жизни монастырской братии, крестьян и горожан. Большой интерес представляют жития основателей монастырей. В таких памятниках можно найти сведения о местностях, где основывались монастыри, о соседних селениях, реках, урочищах, о князьях, дававших монастырям льготы, и, следовательно, выяснить, каким княжествам принадлежали земли, на которых селились монахи, как они их получали. Иногда прозвища князей, зафиксированные в житиях, дают возможность судить даже о существовании определенных княжеств. Однако ключ к полноценному использованию житийной информации в историческом исследовании пока не найден.
Хожения
Широкое распространение в Древней Руси получили хож(д)ения – произведения, описывающие паломничества в Святую землю.
Самый ранний их образец – «Хожение» («Паломник», или «Странник») игумена Даниила (1112–1115). В качестве его литературных источников можно назвать западноевропейские описания Святой земли Зевульфа, Иоанна Вирцбургского, Фоки. В начале XIII в. описания своих «хожений» в Константинополь и на Афон оставили новгородский архиепископ Антоний (в миру Добрыня Ядрейкович) и киево-печерский архимандрит Досифей. Антоний оставил ряд уникальных упоминаний о русских реликвиях, хранившихся в Царьграде до его разграбления крестоносцами в 1204 г., Досифей же уделил основное внимание распорядку жизни афонских монахов.
С середины XIV в. возобновились путешествия русских людей к святым местам, а с ними возродился и временно угасший жанр хождений. Около 1350 г. в «Страннике» новгородский инок Стефаний описал свое пребывание в Царьграде (умолчав при этом, что он побывал и в Иерусалиме). Гораздо обстоятельнее хождение смоленского иеродиакона Игнатия, также побывавшего в Константинополе и Иерусалиме (1389). Более светский характер имеет рассказ о путешествии «куплею» (по торговым делам) в Царьград дьяка Александра (конец XIV в.). К 1420 г. относится путешествие иеродиакона Троице-Сергиева монастыря Зосимы в Иерусалим, описанное им в «Ксеносе» (от греч. «гость»). Он подробно повествует о посещении Царьграда, Афона, Солуни, Иерусалима и других мест Святой земли. К жанру хождений примыкают сказания о Флорентийском соборе, приписываемые очевидцу события – суздальскому монаху Симеону: «Повесть об осьмом соборе» и «Путешествие Исидора митрополита на Флорентийский собор».
В 1466 г. появилось описание путешествия некоего гостя Василия, посетившего святые места Палестины. Оно очень кратко и, по словам митрополита Макария, «отзывается всею детскою простотою веры».
Завершает жанр хождений знаменитое «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина (1468–1475), сохранившееся в трех изводах (редакциях): в составе Софийской II и Львовской летописей, в составе сборника конца XV – начала XVI в. (Троицкий список), а также в составе летописно-хронографической компиляции XVII в. Несмотря на светский вид, хождение Афанасия Никитина вполне может быть отнесено к духовной литературе. Оно пронизано идеей сохранения веры в условиях, когда христианин лишен привычного окружения и не имеет возможности нормально отправлять религиозные обряды. Одновременно это и серьезные рассуждения мирянина о единстве Бога независимо от того, как и кому конкретно молятся люди. Вместе с тем перед нами обстоятельный отчет об увиденном в незнакомых странах, примыкавших, по представлениям того времени, к раю. Еще одна важная сторона этого источника – особенности восприятия древнерусского человека, которые косвенно говорят о его собственных привычках и внутренних установках.
Смысл «хожений» до сих пор остается не вполне ясным. Описания паломничеств дают важный источник изучения не только деталей жизни и быта, но и общих представлений о Русской земле и ее месте в мире.
Воинские повести
Возникшие в рамках летописания, воинские повести постепенно выделились в самостоятельный жанр и обладают источниковедческой спецификой.
На их формирование оказали влияние переводные воинские повести и рыцарские романы. Это не документальные описания войн и сражений, а художественные произведения, образный язык которых специфичен и требует истолкования. Авторы воинских повестей озабочены созданием образа происходящего. Буквальное понимание и прямое заимствование из них исторической информации могут привести к серьезным ошибкам в исторических построениях.
Одно из самых ранних самостоятельных произведений, близких к такому рода жанру, – «Слово о полку Игореве». Список «Слова…» (возможно, XVI в.) был приобретен в середине 90х годов XIX в. известным собирателем раритетов А. И. Мусиным-Пушкиным у архимандрита Спасо-Преображенского монастыря Ярославля Иоиля Быковского. Текст был издан в 1800 г. Кроме того, сохранилась копия, подготовленная для Екатерины II. В 1812 г., как считается, оригинал «Слова…» сгорел вместе с частью библиотеки А. И. Мусина-Пушкина. Это дало основания для сомнений относительно подлинности памятника. Тем не менее достаточно веских доказательств поддельности «Слова…» до сих пор не найдено. Дискуссионным вопросом остается датировка текста «Слова…»: называются 1185 г., XIII, XVI и даже XVIII в. Неизвестен и автор, создавший уникальный памятник древнерусской письменности. Даже наиболее основательные атрибуции «Слова…» (скажем, боярину Петру Бориславичу) могут рассматриваться лишь в качестве рабочих гипотез или догадок. Оригинальная информация «Слова…» не может быть подвергнута независимой проверке: степень ее достоверности приходится оценивать лишь с точки зрения внутренней непротиворечивости. Работы последних лет показывают, что «Слово о полку Игореве» опирается на значительное число литературных памятников, что должно учитываться при работе с этим источником.
Как самостоятельные произведения воинские повести появляются с середины XIV в. К этому времени относят «Повесть о разорении Рязани Батыем». Она примыкает к рязанским агиографическим произведениям. Древнейшая редакция «Повести…» находится в Новгородской I летописи, однако впоследствии встречается в литературных сборниках. Написанная в стиле летописной статьи, «Повесть…» включает фантастические моменты и эпически обобщенные образы. Позднее в нее были включены эпизоды, отсутствовавшие в первоначальном варианте (рассказ о Евпатии Коловрате). В основе «Повести…» лежат устные предания, летописные и агиографические источники.
Мощным толчком к созданию целого цикла воинских повестей стала Куликовская битва. «Задонщина» – поэтическое повествование о ней, написанное, скорее всего, в 80–90е годы XIV в. Она дошла в шести списках 70х годов XV – конца XVII в. Текст «Задонщины» имеет множество общих мест со «Словом о полку Игореве». Кроме того, «Задонщина» испытала влияние летописной повести о Куликовской битве. Возможно, само имя Софония Рязанца (которому традиционно приписывается «Задонщина») заимствовано из какого-то не дошедшего до нас произведения Куликовского цикла. Очевидно, автор пользовался и фольклорными источниками. «Задонщина» интересна непосредственными впечатлениями современника от сражения русских войск с отрядами Мамая.
«Сказание о Мамаевом побоище» – самый большой по объему памятник Куликовского цикла. Из него обычно заимствуется ряд подробностей об обстоятельствах и ходе сражения на берегах Непрядвы (о действиях засадного полка, контузии Дмитрия Донского и т. п.). Между тем это один из самых поздних памятников, рассказывающих о Куликовской битве, созданный не ранее первой четверти XV в. Сохранилось множество списков этой повести, делящихся на восемь редакций и большое количество изводов. Большинство исследователей считают, что, помимо письменных текстов (скажем, южнорусского летописания), ее автор пользовался устными воспоминаниями участников битвы (что, впрочем, сомнительно, учитывая позднее происхождение произведения). Для создателя «Сказания…» художественные достоинства создаваемого текста были, несомненно, важнее точности в передаче фактических подробностей.
Примерно в 1402–1408 гг. была создана «Повесть о Темир-Аксаке», рассказывающая о походе на Русь Тимура (Тамерлана) и его внезапном отступлении из русских земель. Уход войск Тимура связывается с перенесением в Москву Владимирской иконы Богоматери. Повесть сохранилась в составе летописей (Софийской II), а также в сборниках литературных произведений. Во второй половине XVI в. на основе «Повести о Темир-Аксаке» и других источников было написано «Сказание о Владимирской иконе Божьей матери». Оба памятника объединяет идея нового статуса Московского государства.
Падению Византийской империи под ударами турецких войск была посвящена «Повесть о Царьграде» Нестора Искандера. Она также дошла и в составе летописей, и в отдельном виде. Она написана во второй половине XV – начале XVI в. непосредственным участником событий. Кроме рассказов очевидцев Нестор Искандер явно использовал древнерусские воинские повести (скажем, «Повесть о разорении Рязани Батыем»). «Повесть о Царьграде» занимает важное место в обосновании теории «Москва – третий Рим».
К воинским повестям близка «Казанская история» (1564–1566). В то же время ряд черт роднит ее с краткими летописцами. Есть основания говорить о связи текста «Казанской истории» с Хронографом, «Сказанием о князьях Владимирских», посланиями Ивана Грозного, «Повестью о Царьграде» Нестора Искандера, «Александрией» и «Троянской историей», что затрудняет работу с ней как с источником достоверных фактических данных. Именно в «Казанской истории» Москва впервые прямо называется третьим Римом.
Многие особенности «Казанской истории» присущи и последней воинской повести XVI в. – «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков». Она опирается на близкий комплекс текстов, в том числе переводных («Александрию», «Повесть о Стефаните и Ихнилате»).
Одной из последних древнерусских воинских повестей стала «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков» (около 1641 г.). Она существует в трех вариантах: историческом, поэтическом и сказочном. Историческая версия «Повести…» появилась вскоре после захвата Азова донскими казаками весной 1637 г. в форме казачьей войсковой отписки. Наряду в сугубо документальными описаниями в ней присутствуют конфессиональные мотивы. Поэтическая версия «Повести…» была написана непосредственно после обороны Азова казаками в 1641 г. Возможно, автором ее был казачий есаул, войсковой дьяк Федор Порошин. Реальные детали перемежаются в ней с фантастическими подробностями. На автора «Повести…» оказали влияние не только древнерусские воинские повести, но и казачий фольклор. В сказочной версии «Повести…» главное место занимает художественный вымысел. Она близка «историческому баснословию» второй половины XVII в. С этого времени воинские повести прекращают свое существование, превращаясь в авантюрную беллетристику.
В воинских повестях древней Руси многие сведения имеют уникальный характер, в них – как ни в одной другой разновидности источников – отобразился дух времени, непосредственное восприятие описываемых событий современниками и ближайшими потомками.
Публицистические произведения XV–XVII веков
Формирование Российского государства связано с зарождением публицистики. Публицистические черты имеют произведения, связанные с ересями второй половины XV – первой половины XVI в. В центре их внимания – проблема человеческого «самовластья». Она развивалась прежде всего в рамках богословской традиции, поэтому все сочинения на данную тему близки учительной литературе. Темы «самовластья» касались как представители ортодоксального направления, так и еретики: Федор Васильевич Курицын («Лаодикийское послание», известное в списках конца XV – начала XVIII вв.), неизвестный автор «Написания о грамоте». Важную роль в борьбе с еретиками играли сочинения новгородского инока Зиновия Отенского («Послание многословное к вопросившим о известии благочестия на зломудрие Косого» и «Истины показание к вопросившим о новом учении», конец 50х – начало 60х годов XVI в.).
Существенным аспектом емы «самовластья» был вопрос о пределах царской власти, ставший одним из центральных в сочинениях Иосифа Волоцкого. Отношениям духовных наставников и светской власти посвящены публицистические произведения Вассиана Патрикеева. В одном небольшом сочинении он выступает против монастырского землевладения, монашеского «лихоимания», а также против казней раскаявшихся еретиков. Вассиану Патрикееву приписывается и «Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков» (предположительно конец 1504 г.). Он составлен от имени монахов Кирилло-Белозерского монастыря и всех «заволжских старцев» (пострижеников монастырей, расположенных к северу от Волги). В нем также осуждается решение о казнях еретиков, принятое церковным собором.
В ином аспекте проблема «самовластья» рассматривалась Иваном Семеновичем Пересветовым (Большая и Малая челобитные, «Сказание о Магмете-салтане» и др.; сохранились в списках не ранее 30х годов XVII в.). Занимает его и вопрос о том, что важнее – точное соблюдение обряда или истинная вера. Иван Пересветов критикует сложившуюся систему отношений государя к своим подданным, одновременно настаивая на необходимости сильной власти.
Все упомянутые вопросы рассматривались и в переписке Ивана Грозного с Андреем Михайловичем Курбским. Она дошла в отдельных списках и сборниках второй трети XVII–XIX в. Известны три послания Курбского (1564–1579 гг.; первое – в двух редакциях) и два послания Ивана Грозного (1564 г. и 70х годов; первое – в краткой и двух пространных редакциях). Поднимались эти темы А. М. Курбским и в «Истории о великом князе Московском» (1578). Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским и сочинения беглого князя важны для понимания процессов, происходивших в России в середине XVI в.
Распространение публицистических источников связано с событиями Смуты. По форме они близки к традиционным жанрам духовной литературы: это видения («Повесть о видении некоему мужу духовну» протопопа Терентия, повести о видениях в Нижнем Новгороде и Владимире, в Устюге и др.), послания («Новая повесть о преславном Росийском царстве»), плачи («Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства»). В них авторы пытаются осмыслить и понять причины происходящих событий, найти выход из создавшегося положения.
К памятникам публицистики близки исторические произведения, написанные «на злобу дня». Одно из самых популярных и объемных сочинений о Смуте – «Сказание» Авраамия Палицына (1612–1620). Будучи участником описываемых событий, Авраамий оставил яркий рассказ, сопровождающийся прямыми и косвенными личностными оценками. Другой памятник такого рода – «Временник» дьяка Ивана Тимофеева (1616–1619). В нем описываются многие события, свидетелем и участником которых стал дьяк, занимавший заметный пост в государственном аппарате. Целый ряд известий «Временника» уникален. Незадолго до 1625 г. появились «Словеса дней и царей и святителей московских», написанные князем И. А. Хворостининым, которым присущи некоторые черты мемуаров (автор явно пытался оправдать свою службу у Лжедмитрия). В то же время «Словеса…» Хворостинина интересны как памятник, вышедший из кругов, близких самозванцу. Можно отнести к публицистическим памятникам эпохи Смуты и произведения СИ. Шаховского – человека, много видевшего и знавшего, притом обладавшего литературным талантом: челобитные, «Моление патриарху Филарету», «Повесть известно сказуема на память великомученика благовернаго царевича Дмитрия», «Повесть о некоем мнихе» и, наконец, «Повесть книги сея от прежних лет» (не позднее конца 20х годов XVI в.).
Перечисленные произведения отличает присутствие в них личностного момента, элементов полемики, попыток анализа происходящего. Более четкую публицистическую направленность имеют литературные памятники периода раскола. Наиболее ярко она проявляется в посланиях, письмах и челобитных протопопа Аввакума.
Однако о развитии публицистики в собственном смысле слова можно говорить, видимо, только с появлением периодических изданий, позволявших оперативно реагировать на происходящее и своевременно обсуждать актуальные проблемы общественной жизни.
Глава 2
Источники российской истории XVIII – начала XX века
2.1. Общие свойства исторических источников нового времени
Необходимость выявления общих свойств исторических источников Нового и Новейшего времени обусловлена обширностью источниковой базы этих периодов истории. Отметим, что свойства исторических источников связаны с обстоятельствами их создания, а общность свойств порождается влиянием процесса индивидуализации и вторичной социализации личности (о чем шла речь в первом разделе). Но каждое такое свойство, возникнув в системе «источник – действительность», порождает, в свою очередь, особенности взаимоотношений в системе «историк – источник». В этих двух системах отношений и рассматриваются в данной главе общие свойства исторических источников.
2.1.1 Количественный рост исторических источников
Источник – действительность
В Новое время в сравнении с предшествующим периодом появляется огромное количество исторических источников. Это вполне очевидное качество имеет системообразующее значение, т. е. во многом определяет и другие свойства рассматриваемого корпуса исторических источников. Разберемся в причинах и следствиях этого явления.
Необходимо отметить лучшую сохранность документов Нового времени, прежде всего в России. В силу разных причин в России гораздо меньше, чем в европейских странах, осталось исторических источников от Средневековья. Крупномасштабное преобразование государственного аппарата в правление Петра I, ликвидация системы приказов и, как следствие этого, необходимость организации хранения документов вне системы делопроизводства приводят к созданию архивной службы, что положительным образом сказывается на сохранности исторических источников. Этому способствует и то, что в Новое время многие исторические источники уже в момент своего создания предназначались для публикации (тиражирования).
Но главное не в этом. В первую очередь речь должна идти не о лучшей сохранности исторических источников, а о качественном сдвиге в их порождении.
Почему же в рассматриваемый период возрастает потребность в документировании?
1. Индивидуализация человека, эмансипация человеческой личности расширяют круг авторов исторических источников. Кроме того, растет грамотность, поскольку это явление производное.
2. Стремление эмансипированной личности к созданию вторичных социальных связей ведет к тому, что исторические источники начинают порождаться не только в государственной (и церковной) сфере, как это было раньше, но и в личностной и общественной. Повышение мобильности населения ведет к увеличению количества эпистолярных источников, поддерживающих как межличностную, так и деловую коммуникацию.
3. Кроме того, что возникают новые области порождения исторических источников, увеличивается их количество и в государственной сфере. Это также во многом обусловлено новым характером законотворчества и взаимоотношениями между личностью и государством. Превращение закона в единственный источник права и убежденность в том, что законы могут переустроить жизнь государства и повлиять на формирование личности, заставляют принимать их на основе анализа информации о состоянии тех или иных сторон жизни общества и государства. Помимо этого, расхождение обычая и закона заставляет особо заботиться о публикации законодательных актов и о контроле их эффективности, что приводит к возрастанию количества делопроизводственных источников[225].
Историк – источник
Рост количества исторических источников создает совершенно новую познавательную ситуацию. Исследователь уже не в состоянии изучить все источники, имеющие отношение к сколь-либо значимой теме или проблеме. Он вынужден целенаправленно отбирать их в соответствии с поставленной исследоватльской проблемой, со сформированной для ее решения гипотезой, что заставляет его более четко осмысливать проблему и формулировать исследовательскую гипотезу.
Иногда ученые утверждают, что возможно исследование без гипотезы, что она затрудняет работу, ограничивает поле исследовательского внимания. Но необходимо осознать, что исследования без гипотезы не бывает. При этом она может быть осознанной или нет. И чем сложнее проблематика, чем шире круг источников, тем строже должен подходить исследователь к формированию гипотезы. Гипотеза – это всегда обобщение ранее накопленного знания. В процессе исследования она трансформируется, потому что ученый получает дополнительную информацию. Если гипотеза изменилась значительно, то приходится возвращаться к началу исследования, с тем чтобы проверить новую гипотезу. Историк, занимающийся ранними периодами истории, иногда почти наизусть помнит «свои» источники, постоянно обращается к одним и тем же текстам. Историк Нового времени в целом ряде случаев не имеет такой возможности, особенно если работает с массовыми источниками или статистическими материалами. Представьте исследователя, который, не имея гипотезы, читает подряд формулярные списки чиновников или материалы земской статистики в надежде, что его осенит и он увидит за этими сотнями и тысячами цифр определенные явления и процессы.
Итак, нужно четко сознавать, что при работе с массивами исторических источников историк всегда получает ответ именно на поставленный вопрос, будучи лишенным возможности многократно обращаться к источникам в процессе исследования. Общение историка-медиевиста с историческими источниками можно сравнить с интервью, а общение историка Нового времени – с социологическим опросом.
Одновременно количественный рост источников заставляет поднять проблему выборочного исследования. При этом надо четко осознавать, что выборочный метод – особый метод исследования, корректно работающий только на математико-статистической основе. Важно различать подбор примеров, иллюстрирующих то или иное положение, и построение выборки, которая позволяет распространить полученные результаты на все аналогичные явления (генеральную совокупность).
Необходимо учитывать сферы возникновения исторических источников Нового и Новейшего времени: личностную, общественную, государственную. Тогда без труда обнаружится, например, что русские газеты возникали не только позже европейских, но и, в отличие от них, в государственной, а не в общественной сфере.
2.1.2 Упрощение содержания отдельно взятого документа
Источник – действительность
Рост количества источников, особенно в сфере делопроизводства, приводит к упрощению содержания отдельно взятого документа, что сопровождается формализацией этого содержания[226], а также усложнением системы источников на уровне вида и разновидности.
Указанные тенденции можно отметить не только в делопроизводстве, но и в законодательстве. Не случайно в третьем Полном собрании законов Российской империи публикуются не все законодательные акты – в ряде случаев указывается лишь название документа сепаратного законодательства. Наиболее значительна формализация в статистике.
Упрощается содержание и отдельно взятого повествовательного источника. К концу XIX в. вполне очевидна дифференциация периодической печати по следующим критериям: общественно-политическая направленность, ориентация на различные сословные, профессиональные, половозрастные группы.
Как бы это ни казалось странно, такие же процессы прослеживаются и в мемуаристике. На рубеже XIX – XX вв. мемуары все чаще посвящаются отдельным событиям или выдающимся современникам автора. Относительно реже встречаются неспешные повествования обо всех памятных для мемуариста событиях.
Историк – источник
Во-первых, упрощение содержания отдельного источника и усложнение внутривидовой структуры создают дополнительные сложности при формировании источниковой базы исследования. Репрезентативная основа исторического труда должна структурно воспроизводить нарастающую сложность корпуса источников. Например, невозможно изучать газету XIX–XX вв., выражающую то или иное общественное умонастроение, не зная всего спектра мнений, существующих в периодике.
Второе, не менее важное, следствие рассматриваемого явления – увеличение объема скрытой (латентной) информации. Такую информацию еще называют структурной, потому что она может быть выявлена при анализе структуры корпуса источников, взаимосвязей между его составляющими. Например, если в формулярном списке происходившего из крестьян городничего города Колы написано, что он имел чин V класса Табели о рангах, то, естественно, это будет информация об одном, отдельно взятом конкретном факте. Но даже если будет установлена достоверность этой информации, невозможно выяснить, сколь типична или уникальна такая карьера. Если же проанализировать несколько сотен формулярных списков, то можно установить, каким образом от социального происхождения чиновника зависели ранг чина, имущественное положение и т. д. Традиционный метод извлечения латентной (скрытой) или структурной информации – построение таблицы, но существуют и другие методы – количественные (математические) или формализованные. Чаще всего для анализа зависимостей используют такие методы математической статистики, как корреляционный и регрессионный анализ.
2.1.3. Увеличение количества разновидностей исторических источников
Источник – действительность
Количественный рост исторических источников и упрощение содержания отдельного документа приводят к увеличению числа разновидностей внутри видов. На протяжении всего рассматриваемого периода новые и ранее существовавшие виды делятся на разновидности. Причем новых разновидностей возникает явно больше, чем исчезает исчерпавших себя форм. Это приводит к постоянному усложнению структуры корпуса исторических источников.
Увеличение разновидностей в наибольшей степени проявляется в делопроизводственной документации, учетных материалах, актовых источниках.
Историк – источник
Вполне очевидно, что историку, работающему с источниками Нового времени, приходится строже подходить к определению видовой природы источника, учитывая его принадлежность к той или иной разновидности внутри вида.
Дифференциация видов исторических источников по разным параметрам открывает более широкие возможности для их систематизации, а значит, и для выявления структурной информации. Исследователь получает дополнительные возможности для анализа путем составления разнообразных (в том числе и комбинаторных) таблиц и применения методов математической статистики. Еще одна исследовательская проблема связана с разработкой принципов группировки разновидностей и выработки методов анализа групп. В качестве примера такой группы видов и разновидностей можно назвать массовые источники, активно разрабатываемые в отечественной историографии в последние десятилетия[227].
2.1.4. Публикация и тиражирование исторических источников
Источник – действительность
Может быть, самая существенная особенность исторических источников Нового времени – это то, что большинство их видов уже в момент создания были предназначены для публикации[228]. Так, с начала XVIII в. обязательно публикуются законодательные акты[229]. Такие наиболее характерные для корпуса исторических источников Нового времени виды, как периодическая печать, эссеистика, мемуаристика, создавались именно для публикации.
И если для периодической печати расчет на публикацию очевиден и постоянен, то имманентно присущее мемуаристу стремление к обнародованию своих воспоминаний развивается и служит одним из критериев эволюции мемуаристики[230].
К концу XIX в. это свойство исторических источников приобретает новое качество. Начинают публиковаться текущие законодательные акты: с 1863 г. выходит «Собрание узаконений и распоряжений, издаваемое при Правительствующем сенате». С развитием исторической периодики расширяется публикация источников личного происхождения. Систематически издаются сводные статистические данные. В начале XX в. публиковался и такой источник, как стенографические отчеты Государственной думы.
На протяжении XVIII–XIX вв. укреплялась взаимосвязь видов исторических источников. При их обзоре мы увидим, сколь тесно связаны законодательство и статистика, периодическая печать и публицистика, мемуаристка и периодическая печать, эпистолярные источники и художественная литература. Механизм взаимосвязи видов различен, и зачастую один вид мог влиять на другой именно потому, что в Новое и Новейшее время многие исторические источники изначально предназначались для публикации.
Историк – источник
Синхронная публикация (непосредственно после создания) исторических источников обусловливает принципиально новые условия их сохранности, что возвращает нас к началу нашего анализа – количественному росту не только создаваемых источников, но и сохранившихся от созданного.
При изучении источника историк должен отчетливо сознавать ту информационную среду, в которой творил его автор, должен пытаться выявить не только непосредственные источники текста, но и существовавший информационный континуум. Например, европейские мемуаристы уже в XVII в. имели возможность включить свои мемуары в историографический контекст (знакомясь с публикациями исторических сочинений, начиная с античных, и с произведениями других мемуаристов) и поэтому часто рассматривали их как историю настоящего (contemporary history); русские же мемуаристы даже в XVIII в. писали мемуары-автобиографии изолированно друг от друга.
Историку при исследовании обстоятельств создания источника также следует обратить внимание на то, предназначался ли данный источник для публикации и в какой среде он должен был бытовать, так как расчет на публикацию включается в систему целей создания источника. При этом необходимо помнить, что авторы, создавая произведение, в разной степени учитывали дальнейшее бытование. Интенсивность и направленность учета потенциальной аудитории зависели как от личности автора, так и от видовой принадлежности создаваемого произведения.
Необходимо подчеркнуть и взаимосвязь между отдельными свойствами корпуса исторических источников. Количественный рост исторических источников во многом обусловливает упрощение содержания отдельно взятого документа, нацеленность его на реализацию лишь одной функции, что, в свою очередь, порождает как минимум два следствия: увеличение количества разновидностей источников каждого вида и рост объема латентной информации внутри комплекса источников. Многие особенности анализа источников Нового времени, вытекающие из их природы, существенны и для предшествующего периода. Историк-медиевист, изучая летопись или агиографическое произведение, должен максимально осмыслить исходную гипотезу или задать себе вопрос, например, о бытовании данного источника. При исследовании проблематики Нового времени эти методические требования должны быть очень четко осознаны, так как без этого невозможно сколь-либо существенное исследование.
2.2. Массовые источники
Для Нового и Новейшего времени массовые источники не специфичны, но в этот период растет их количество, что затрудняет (с технической точки зрения) их анализ. В связи с усложнением социальных процессов, а также включенностью в историческое действие новых слоев населения массовые источники начинают играть все более заметную роль в источниковой базе исследований. Роль массовых источников увеличивается не только по мере приближения предмета исследования к нашему времени, но и с развитием самой исторической науки, которая стремится не ограничиваться политической историей, а следовательно, повествованием о событиях, непосредственно описанных в исторических источниках, и все больше обращается к исследованию не отдельных фактов, а процессов, к многоаспектной реконструкции исторической реальности.
В историографии существует несколько подходов к проблеме массовых источников. Сопоставление двух основных точек зрения – Б. Г. Литвака и И. Д. Ковальченко – не только имеет значение для лучшего понимания проблемы, но и позволяет еще раз прояснить различие научных подходов, базирующихся на разных определениях понятия «исторический источник».
Б. Г. Литвак предлагает следующую систему признаков массовых источников: 1) ординарность обстоятельств происхождения; 2) однородность, аналогичность или повторяемость содержания; 3) «однотипность формы, тяготеющая к стандартизации»; наличие законодательно установленного, а также обычаем сложившегося или складывающегося формуляра[231].
Сразу же отметим, что предлагаемые признаки представляют собой определенную систему: каждый последующий признак обусловлен предыдущим. Первый указывает на возникновение массовых источников в повседневной жизни, их принадлежность к первичному пласту информации, обычно не используемому историками. И дело здесь не только и не столько в том, что при обобщении первичных данных (например, в сфере делопроизводства) теряется часть информации, а в том, что информация субъективизируется. Аналогичность, повторяемость содержания не означает его идентичности (в этом смысле трамвайный билет не есть образец массовых источников). Для массовых источников при однородности объектов описания характерна различная мера их свойств. Например, в актах купли-продажи на землю фиксируются однотипные сделки, однако размеры участка и его стоимость в разных актах различны.
И. Д. Ковальченко, в отличие от Б. Г. Литвака, предлагает при определении понятия «массовые источники» учитывать в первую очередь то, какие общественные явления они отражают. В предисловии к коллективной монографии «Массовые источники по социально-экономической истории России периода капитализма» И. Д. Ковальченко пишет: «Массовыми являются источники, характеризующие такие объекты действительности, которые образуют определенные общественные системы с соответствующими структурами. Массовые источники отражают сущность и взаимодействие массовых объектов, составляющих эти системы, а следовательно, строение, свойства и состояние самих систем»[232].
Вполне очевидно, что определение Б. Г. Литвака находится в пределах источниковедческой парадигмы, в основании которой лежит понимание исторического источника как произведения человека / продукта культуры. При таком подходе основное внимание уделяется обстоятельствам порождения массовых источников в обыденной жизни и информации, закладываемой в них в момент создания.
Определение И. Д. Ковальченко практически не принимает во внимание природу массовых источников: ничего не говорится о природе самого источника, речь идет об особенностях отражаемых источником явлений. Это определение соответствует источниковедческой парадигме, в которой в качестве исторического источника понимается все, что дает информацию о прошлом человеческого общества. Очевидно, что в этом определении ничего не говорится о субстанции исторического источника, а лишь указывается на функцию некоего неизвестного объекта. Именно поэтому остается не ясно, что должен представлять собой объект, чтобы он мог дать информацию об историческом событии. Точно так же дефиниция массовых источников, которую дает И. Д. Ковальченко, вызывает вопрос: какими должны быть источники для того, чтобы они давали информацию о массовых явлениях? Причем если при определении исторического источника ответ на этот вопрос обычно дается интуитивно, то при квалификации массовых источников такого не происходит.
Здесь необходимо последовательное рассуждение. Его отсутствие ведет, в частности, к включению в число массовых источников статистических материалов, по-видимому, на том основании, что если в источнике приводится множество цифр, значит отражено массовое явление. То, что статистика может искажать явление до полной неузнаваемости, хорошо известно даже из обыденного опыта. Можно, конечно, возразить, что искаженное отражение – все равно отражение. Но в историографии описаны случаи, когда статистика вообще не отражает того явления, которое она, казалось бы, должна отражать. Приведем лишь один пример. Историки часто используют статистические сведения об урожаях, почерпнутые из приложений к губернаторским отчетам, правда, отмечая при этом неточность данных. Однако в 1964 г. В. К. Яцунский показал, что вся статистика урожаев возникает сразу же на уровне губернаторского отчета. По крайней мере, не обнаружены не то что первичные материалы, но и источники, содержащие поуездную информацию, а это означает, что статистика урожаев – плод творчества губернских чиновников. Подход Б. Г. Литвака исключает статистику из числа массовых источников уже потому, что она не отвечает первому признаку – не возникает в повседневной жизни. В частности, Б. Г. Литвак пишет: «Даже первичное статистическое наблюдение коренным образом отличается от первичного массового источника, так как последний не имеет никакой научно-статистической заданности, не имеет цели изучить данное явление или факт, а только регистрирует его или спонтанно возникает как часть этого факта»[233].
Выяснив таким образом различия этих определений, обратимся к имеющейся в историографии попытке их примирить. Естественно, что она обречена на неудачу. Основной аргумент в пользу объединения этих двух групп – возможность применить к ним методы математической статистики. Логика такова: если можно использовать единый метод, значит эти источники обладают существенной общностью признаков. Непредвзятый взгляд сразу же позволяет увидеть, что познавательная ситуация перевернута с ног на голову. Исследователи, придерживающиеся такой точки зрения, по сути, утверждают: не метод зависит от природы объекта, а природа объекта зависит от того метода, который мы используем. Даже при полном признании значения исследовательского инструментария в процессе исследования такая позиция, будучи доведенной до логического конца, представляется абсурдной. Почему же сами авторы этого не видят? Причина все та же: невнимание к природе исторического источника, его субстанции.
Но возможны и иные возражения, кстати, более обоснованные. Ведь действительно и в том и в ином случае – и при обращении с массовыми источниками, и при работе со статистическими данными – применяются, и на первый взгляд успешно, методы математической статистики. Не тот ли это внешний признак, который должен заставить исследователя обратиться к поиску глубинной внутренней общности? Но методы математической статистики, как, впрочем, и иные, так называемые количественные методы, в их собственно математической составляющей, относятся к уровню не методики, а техники исследования, для которой, в отличие от методики, безразличны как методология исследования, так и природа исследуемого объекта.
Адекватность использования той или иной техники для решения определенной исследовательской задачи также требует обоснования. И, как ни парадоксально, применение методов математической статистики к массовым источникам имеет меньше ограничений, чем к источникам статистическим.
Таким образом, очевидно, что отнесение тех или иных исторических источников к массовым – их качественная, а не количественная характеристика. Массовость не тождественна множественности, понятие массовости противостоит понятию не единичности, но уникальности исторического источника. Поэтому и один или несколько исторических источников, дошедших до нашего времени, относятся к массовым, если они возникли в повседневной жизни, имеют однородное содержание и форму, тяготеющую к стандартизации. Как же узнать, обладает ли этими характеристиками единственный сохранившийся источник? Такие возможности дает исследование исторических источников других видов, чаще всего законодательных. Например, в XVIII в. законодательно был установлен порядок составления формулярных списков при всех перемещениях чиновников по службе, а с 1764 г. такие списки должны были составляться два раза в год. Обнаруживая в архиве единичные формулярные списки вплоть до начала 1780х годов и каждый раз убеждаясь, что их составляли не по каким-то особым поводам, а именно в тех случаях, которые были предусмотрены законодательством, отнесем эти несколько списков к группе массовых источников[234].
На это следует обратить особое внимание, поскольку неотработанность понятийного аппарата исторической науки, а также введение понятия «массовые источники» в научный оборот только в конце 1970х годов[235] приводят к тому, что определение «массовый» в научной и учебной литературе часто относится к тем источникам, которые сохранились в большом количестве. Например, можно встретить фразы типа: «В XIX в. мемуаристка становится массовым источником». Современный исследователь должен строго разграничивать обыденное употребление слова «массовый» и его терминологическое использование.
Четкое отличение массовых источников от статистики заставляет нас включить в учебное пособие отдельную, хотя и небольшую, главу об учетной документации, которая наряду с актами представляет собой наиболее обширную группу массовых источников. Вернувшись к позиции Б. Г. Литвака, разграничивающего массовые источники и статистику, мы можем сказать, что учетная документация «регистрирует факт», а актовые источники «возникают как часть <…> факта». Вместе с тем учетная документация имеет тенденцию к перерастанию в статистические системы.
2.3. Законодательство
Законодательство – вид исторических источников, объединяющий нормативные документы, санкционированные верховной властью.
История государственной власти и управления в России, а следовательно, и история российского законодательства составляют сердцевину многих исторических и современных социальных и политических проблем. Материалы российского законодательства XVIII–XIX вв. активно используются в исторических и историко-юридических исследованиях, но при этом они остаются почти не изученными как целое, как законодательная система. В исторических исследованиях чаще всего используются законодательные источники, отбираемые тематически в соответствии с проблематикой исследования. Параллельно накапливается опыт изучения отдельных законодательных актов – истории их разработки, обсуждения, принятия, публикации.
Комплексно законодательство изучают, пожалуй, лишь правоведы и историки права, но в качестве источника предмета своей дисциплины. В этом случае именно система права (понятие сформировано в правоведении с помощью обобщенного изучения главным образом европейского права, начиная с римского) выступает как основа отбора исследуемых источников, систематизации законодательных актов и определения критериев их эволюции.
Законодательство относится к тем видам источников, которые не возникают в Новое время, а переходят из предыдущего периода. Однако законодательство в это время приобретает ряд новых черт, рассмотрению которых и уделяется преимущественное внимание в данной главе. Поскольку свойства законодательства Нового времени определяются в России на протяжении XVIII в., этот период рассмотрен более подробно. Сразу же отметим, что законодательство XVIII в. отличается рядом особенностей, которые обусловлены двумя группами причин.
Во-первых, в это время, с одной стороны, возникают и проходят длительный и противоречивый путь становления те его особенности, которые можно определить как черты законодательства Нового времени; а с другой стороны, российское законодательство приобретает ряд характеристик, свойственных законодательству империи и сохраняющихся не только в XIX в., но и на протяжении большей части XX в.
Во-вторых, законодательство XVIII в. обладает целым рядом специфических черт, что обусловливае необходимость его специального изучения.
В XVIII в. распространяется философское направление в законотворчестве, которому свойственна «мысль о возможности произвольно устраивать правовую жизнь посредством новых законов»[236], что способствует значительной активизации законотворчества и расширению сферы законодательного регулирования, а также тематики законодательства.
Активизация законотворчества ведет к противоречию между абсолютистской государственной властью и стремлением к детальной (если не сказать мелочной) регламентации жизни общества и частной жизни подданных, которое особо остро ощущалось в XVIII в., когда еще не была окончательно отработана законодательная процедура.
Нестабильность государственной власти на протяжении значительной части XVIII в. ярко выявляет противоречие между устойчивостью (инертностью) законодательства и его зависимостью от политической конъюнктуры, что позволяет проследить стабилизирующую роль законодательства.
Характерная черта законодательства Нового времени – регламентированная публикация законодательных актов – находит в XVIII в. оригинальное преломление. Если рассмотреть ситуацию XVIII в. в сфере информирования населения, то можно предположить, что при зародышевом состоянии газетного дела законодательные акты во многом выполняли функцию средства информации. По крайней мере, ни один другой источник XVIII в. не может быть сопоставлен с законодательством по распространенности. Это подтверждается возникновением и достаточно широким распространением в XVIII в. такой разновидности законодательных актов, как манифесты.
2.3.1. Историография
Наиболее существенные заслуги в изучении законодательства как источника права принадлежат историкам права XIX – начала XX в.[237] История права в XIX в. была одной из быстро развивающихся научных дисциплин. Среди разнообразных теорий происхождения права (теологическая, рационалистическая, «естественного права»), противоборствовавших в XVIII – начале XIX в. в России, как и в Германии, распространялась историческая концепция, изучение которой, в том числе и в русле исследования идейной борьбы западников и славянофилов и более поздней концепции евразийства, представляет самостоятельный интерес.
Суть исторического подхода к проблеме происхождения права формулировали многие авторы. В частности, М. Ф. Владимирский-Буданов, отмечая кризис господствовавшей в XVIII в. теории естественного права, писал: «После переворота XVIII в. и разочарования, постигшего европейское общество в первой четверти XIX в., нельзя уже было признать истинным выражением права ни законы действующие, ни право философски построенное; оставалось признать таким право исторически данное (т. е. выразившееся в целой истории какого-нибудь народа)»[238]. Аналогичную мысль находим у Н. П. Загоскина: «…право не должно и не может быть рассматриваемо ни как исключительный императив разума, ни как исключительный продукт природы, ни как результат непосредственной творческой деятельности человека <…>, право каждого отдельного народа есть продукт всей предшествовавшей исторической жизни его <…>, единственным источником права является правовое сознание народа, представляющееся органической частию всего его мировоззрения»[239]. Но наиболее резко историческую концепцию происхождения права сформулировал И. Д. Беляев, что, учитывая его славянофильское мировоззрение, легко объяснимо: «Самостоятельное общество, пока оно самостоятельно, не может подчиниться чуждым законам, принесенным со стороны; подчинение чуждым законам есть уже явный признак падения общества. Законы должны вытекать из исторической жизни народа. Связь между законом и внутреннею историческою жизнью народа так неразрывна, что ни изучение законодательства не может быть вполне понятно без изучения внутренней жизни народа, ни изучение внутренней жизни – без изучения законодательства»[240].
Значительный интерес среди трудов по истории права представляют работы И. Д. Беляева, Г. В. Вернадского, М. Ф. Владимирского-Буданова, А. Д. Градовского, Н. П. Загоскина, Н. М. Коркунова, В. Н. Латкина, Ф. И. Леонтовича, А. В. Романовича-Словатинского, В. И. Сергеевича, А. Н. Филиппова, И. П. Числова, Б. Н. Чичерина, М. И. Ясинского. В ряде работ интересующий нас период – XVIII–XIX вв. – рассматривается частично, но все эти труды представляют интерес с точки зрения теории и метода историко-правоведческого исследования.
Законодательство в историко-правовых исследованиях рассматривается как один из источников права, и в общих курсах истории права ему уделяется большее или меньшее внимание, в первую очередь в работах В. Н. Латкина. В его «Учебнике русского права периода империи (XVIII–XIX ст.)»[241], имеющем весьма традиционную структуру: государственное право, уголовное право, гражданское право, судопроизводство, – значительное место отводится внешней истории права. В «Лекциях по внешней истории русского права: Московское государство – Российская империя» В. Н. Латкин под внешней историей русского права понимает историю законодательных памятников, а под внутренней историей права – историю юридических норм и институтов[242]. Внешняя история права, по мнению исследователя, «показывает причины появления законодательных памятников, время и порядок их издания: затем источники, внешний состав и содержание памятников и, наконец, их соотношение с другими, как предшествующими им, так и последующими за ними памятниками»[243]. Вслед за Ф. И. Леонтовичем[244] В. Н. Латкин формулирует схему разбора законодательных памятников. Во-первых, надо рассмотреть историю «каждого памятника в отдельности», указав «причины издания памятника – мотивы и цели, руководившие законодателем при издании памятника; элементы, легшие в основание памятника, или его источники; редакцию памятника, т. е. как он составлен, в какое время, при участии каких лиц, учреждений и вообще органов законодательной власти; дальнейшую судьбу памятника – силу и действие его в последующие эпохи развития законодательства; наконец, научную обработку и литературу памятника»; во-вторых, «систему и содержание памятников», причем «само содержание их настолько может быть предметом исследования в этой части науки, насколько это необходимо для общего знакомства с памятниками»; наконец, в-третьих, необходимо «показать общее значение каждого памятника в целой системе современного законодательства, чтобы таким образом яснее определить общее направление законодательства известной эпохи». Как мы видим, задачи изучения памятников законодательства по Леонтовичу – Латкину, относимые В. Н. Латкиным к внешней истории права, во многом совпадают с задачами источниковедческого анализа. Соответствует нашим представлениям о смысле источниковедческого анализа и понимание В. Н. Латкиным значения изучения законодательных памятников при исследовании истории права: «…об истории отдельных постановлений памятников, само собой разумеется, нельзя говорить без предварительного ознакомления с самими памятниками. Таким образом, внешняя история права, рассматривая закон как памятник известной эпохи, исследуя списки его, критически доказывая достоверность, подлинность или подложность его, разлагая его на составные элементы и проч., этим самым работает, так сказать, для очистки материала, оперирование над которым составляет функцию внутренней истории»[245].
К сожалению, интересующий нас период В. Н. Латкин в «Лекциях по внешней истории русского права…» исследует весьма бегло, отводя ему лишь одну главу (глава VI – «Законодательство и кодификация в период империи»). Основное внимание он уделял памятникам более раннего времени. Примечателен подход В. Н. Латкина к изучению этих памятников, что отразилось в названиях глав: глава I – «Развитие законодательства путем издания отдельных грамот» (рассматриваются уставные, судные, губные и прочие грамоты), глава II – «Первые опыты кодификации: Псковская и Новгородская судные грамоты», глава III – «Судебники 1497 и 1550 г. и дополнительные к ним указы», глава IV – «Стоглав», глава V – «Уложение 1648–49 гг. и новоуказные статьи».
Итак, В. Н. Латкин разрабатывал отдельные законодательные памятники и не смог преодолеть этот подход, переходя к изучению законодательства XVIII–XIX вв., исследование которого как анализ отдельных памятников принципиально невозможно в связи с изменением характера законодательства. В. Н. Латкин в рамках выработанного им, да и всей историко-правовой наукой подхода ограничился рассмотрением вопросов кодификации, сосредоточившись на исследовании тех законодательных памятников, которые стали ее результатом.
Определенное внимание законодательству как источнику при изучении истории русского права уделял Н. П. Загоскин. Надо отметить, что труд Н. П. Загоскина задумывался как чрезвычайно обширный. Планировалось 12-томное исследование, которое должно было охватывать период до конца правления Александра II. В соответствии с замыслом исследованию предпослана объемная вводная часть, в которой автор стремился упомянуть все источники (хотя бы на уровне видов и типов), которые могли быть полезны при изучении истории русского права: вещественные памятники, летописи и хронографы, памятники государственного и юридического быта, памятники письменной и устной словесности, записки и письма современников, сказания иностранцев. Законодательные источники он относил к памятникам государственного и юридического быта. По мнению Н. П. Загоскина, законодательные памятники – «памятники юридического быта в тесном смысле этого понятия»[246]. Но из законодательных актов рассматриваемого нами периода автор упоминает лишь Полное собрание законов Российской империи, отмечая его неполноту.
К аналогичному корпусу источников в «Обзоре истории русского права» обращался М. Ф. Владимирский-Буданов. Автор отмечал, что «прежде эта наука именовалась историей законодательства и в соответствии с этим излагала лишь сведения о законодательных памятниках прошлых времен. Теперь же в содержание ее входит изложение не только норм, установленных в законе, но и существовавших помимо закона (в обычном праве)»[247]. И далее: «Источники истории русского права – те же, что и источники самого права, т. е. обычай и закон. Памятниками обычного права являются все памятники русской истории (летописи, записи, акты, отчасти литературные памятники), а равно живое обычное право и юридические пословицы. Памятниками законов служат договоры (международные и внутренние), уставы и указы (отдельные законы) и кодексы»[248]. Упоминая отдельные разновидности законодательных актов XVIII–XIX вв., М. Ф. Владимирский-Буданов наряду с большинством других авторов основное внимание уделяет вопросам кодификации.
В целом анализу законодательных памятников, как и других источников, историки права уделяли мало внимания, используя источники прежде всего в выборочно-иллюстративных целях, что особенно заметно при описании истории права XVIII–XIX вв. Историки права, рассматривая законодательство в рамках исторической концепции происхождения права лишь как один из его источников наряду со многими другими, понимали историю права гораздо шире, чем историю законодательства, но лишь в определенном, историко-правовом смысле. За рамками исследования остался огромный массив законодательных актов, преимущественно XVIII–XIX вв.
В трудах по истории права, написанных в советский и постсоветский периоды, анализу источников, в том числе и законодательных, внимания почти не уделялось, в лучшем случае упоминались основные разновидности законодательных актов и давался очерк истории кодификации[249]. В советский период проблемы истории законодательства затрагивались попутно при изучении истории государства и права, а также истории государственных учреждений[250].
Итак, историки права, обращаясь к законодательным актам как к одному из источников права (наряду с обычаем, отразившимся преимущественно в нарративных источниках) и в силу этого как к источникам по истории права, использовали законодательство XVIII–XIX вв. лишь в незначительной степени, подходя к его исследованию почти так же, как к исследованию законодательства предшествовавших эпох, т. е. рассматривая отдельные законодательные акты, упоминая в качестве обобщающих категорий лишь некоторые их разновидности и сосредоточиваясь на проблемах кодификации. Однако наблюдения и выводы, сделанные при изучении истории права преимущественно исследователями XIX – начала XX в., весьма ценны и для исследования истории законодательства. Это в первую очередь наблюдения над изменением соотношения обычая и закона как источников права и выводы о его причинах и следствиях, которые позволяют опираться на историко-правовые исследования при характеристике нового этапа в истории российского законодательства.
2.3.2. Закон: попытки определения понятия
Основная сложность при изучении законодательства XVIII–XIX вв. состоит в том, что в историко-правоведческих исследованиях не сформировано понятие «закон» применительно к рассматриваемому периоду. Это, естественно, стало следствием отсутствия четкого определения понятия самим законодателем. Историки права давали самые общие определения понятия «закон». Все исследователи отмечали, что в законодательстве оформляется воля императора. Г. В. Вернадский пишет: «Начиная с Петра Великого единственным источником права делается воля законодателя; это период правотворчества императорских указов…»[251]. Более четко определял закон М. Ф. Владимирский-Буданов: «В период империи установилось понятие о законе как о воле государя, правильно объявленной»[252]. На постепенную выработку порядка объявления воли императора обращал внимание и Г. В. Вернадский, который писал: «…сами государи стремились установить незыблемые формы для отправления своей законодательной деятельности». Это проявилось в том, что «определена была непременная форма публикации и регистрации законов – через Сенат» и «постепенно делались попытки установить особую непременную форму для предварительной подготовки или особой прочности юридического бытия группы наиболее существенных законодательных актов»[253].
Идеологизированное, но столь же общее определение закона дает Б. М. Кочаков в работе, опубликованной в 1937 г.: «Закон, являясь общеобязательной, созданной государственной властью нормой, есть <…> определенное, в результате классовой борьбы созданное выражение воли господствующего класса, определенное орудие классовой политики государства…»[254]. Работа Б. М. Кочакова интересна тем, что общее положение автор конкретизирует, исходя из характера эволюции центральной власти, с укреплением которой «появляется необходимость в дифференциации правительственных распоряжений», тогда «закон – это уже определенный вид распоряжения, это указ, издаваемый определенным порядком»[255]. Однако в XVIII в., по мнению Б. М. Кочакова, в России не было точного понятия закона – господствовал «царский указ» и существовало стремление, остававшееся на протяжении XVIII в. безуспешным, выделить из всего многообразия указов те, которые по их юридическому действию можно было бы рассматривать как законы. В XIX в. поиск формальных критериев разделения закона и указа продолжался, и шел он главным образом по пути фиксации законодательной процедуры. Формальным признаком закона со времен Петра I оставалась царская подпись, но это правило в XVIII в. нарушалось объявленными указами, а в XIX в. также и законами Государственного совета, одобряемыми словесно.
Таким образом, при различии исходных посылок определения понятия «закон» и М. Ф. Владимирский-Буданов, и Г. В. Вернадский, и Б. М. Кочаков выделяют два критерия: во-первых, наличие подписи императора и, во-вторых, фиксированный порядок принятия, вырабатывавшийся постепенно на протяжении XVIII–XIX вв.
Понятие «закон» и проблему различия закона и указа в XIX в. разрабатывал Н. М. Коркунов. В «Лекциях по общей теории права» он в теоретическом ключе поставил проблему отличия естественно-научных и юридических законов[256]. В работе «Указ и закон» Н. М. Коркунов подходил к определению закона, отталкиваясь от исторического развития понятия власти и принципа разделения властей. Исследователь отмечал, что говорить об отличии закона от указа можно лишь в том случае, если исполнительная власть отделена от законодательной. По его мнению, в российском законодательстве «со словом указ не соединяется точно определенного значения. До учреждения министерств указами назывались все вообще акты всех органов власти, обращенные к подчиненным им местам и лицам». Для Н. М. Коркунова указ в XIX в. – научная абстракция, собирательное название для «всех общих правил, установленных в порядке управления»[257].
Итак, четкого определения понятия «закон» и критериев для отделения закона от прочих распоряжений верховной власти в российской историко-правовой науке выработано не было. По-видимому, это в принципе неразрешимая задача, поскольку теоретически разграничить закон и административное распоряжение можно, когда исполнительная власть отделена от законодательной (и здесь мы вполне согласны с Н. М. Коркуновым), чего в российской истории не было не только в XVIII–XIX вв., в условиях самодержавной империи, но и на протяжении большей части XX в.
Однако при этом необходимо учитывать, что на практике историки часто относят к законодательным актам второй половины XVII – начала XX в. то, что было отобрано в качестве законодательных актов составителями Полного собрания законов Российской империи.
2.3.3. Изменение соотношения обычая и закона как источников права
Начало нового этапа в истории российского законодательства, а точнее, в истории русского права и законодательства как его источника большинство авторов связывают с изменением соотношения обычая и закона как источников права и относят изменение этого соотношения либо к середине XVII в. (после Соборного уложения 1649 г.), либо к началу XVIII в. (период преобразований Петра I).
Идея приоритета закона как источника права формировалась постепенно. Некоторые признаки ее зарождения можно усмотреть, например, в наказе окольничему князю Львову, определенному воеводою в Казань, «Об управлении казенными и земскими делами» от 31 марта 1697 (7205) г., в котором, кроме указания «всякие дела делать по сему Великого Государя указу», содержится наставление впредь руководствоваться приходящими из приказа Казанского дворца грамотами, «которые наказа противны не будут».
В конце 1710х годов Петр I, по-видимому, считал, что имеющаяся законодательная база, в основе которой по-прежнему лежало Соборное уложение 1649 г., позволяет Сенату решать большинство дел, не обращаясь каждый раз к законодателю. По крайней мере, в именном указе от 22 декабря 1718 г. «О неподаче Государю прошений о таких делах, которые принадлежат до рассмотрения на то учрежденных правительственных мест, и о нечинении жалоб на Сенат под смертною казнью» говорится, что Сенат должен обращаться к царю только в том случае, «разве такое спорное новое и многотрудное дело от челобитчиков объявится, котораго по Уложенью [выделено мной. – М. Р.] решить самому тому Сенату без доклада и без именнаго от Его Царского Величества указу отнюдь нельзя…». Указ из Юстиц-коллегии «О вершении дел без всякаго замедления и волокиты по Уложению и о выписках из судных дел» от 25 мая 1719 г. числит в составе законодательных актов, на основе которых должны решаться дела, кроме Уложения и новосостоятельные указы (по-прежнему при ведущей роли Уложения). Отметим, что данный указ был издан как мера борьбы с волокитой и ускорения судопроизводства. Он не устанавливал новой нормы, а только подтверждал ранее введенные. Эти же нормы подтверждались указом из Юстиц-коллегии от 15 октября 1719 г. «О решении дел в Московском надворном суде по Уложению и по новосостоятельным указам, а не по сепаратным, и о донесении о делах, которых судьи сами решить не могут, в Государственную Юстиц-коллегию». Указом предписывалось Московскому надворному суду дела управлять по Уложению и «по новосостоятельным Его же Великого Государя указам, которые к пополнению того ж Уложения всенародно напечатаны и повсюду объявлены…».
Основным законодательным актом, утверждавшим приоритет закона как источника права, стал именной указ от 17 апреля 1722 г. (опубликован 27 января 1724 г.) «О хранении прав гражданских, о невершении дел против регламентов, о невыписывании в доклад, что уже напечатано, и о имении сего указа во всех судных местах на столе под опасением штрафа». В указе говорится: «Понеже ничто так ко управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских, понеже всуе законы писать, когда их не хранить или ими играть как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было, а отчасти и еще есть, и зело тщатся всякия мины чинить под фортецию правды…». Далее оговорено, что «сим указом яко печатью все уставы и регламенты запечатываются, дабы никто не дерзал иным образом всякие дела вершить и располагать не против регламентов и не точию вершить, ниже в доклад вписывать то, что напечатано, не отговариваясь о том ни чем, ниже толкуя инако».
Хотя в нашу задачу не входит реконструкция постепенно складывавшейся новой законотворческой процедуры, отметим, что указ «О хранении прав гражданских…» закрепил основные элементы системы законотворчества: апробацию указа государем, публикацию и инкорпорирование в соответствующий регламент.
Установив приоритет закона как источника права, законодатель этим не ограничился, поскольку еще сохранялись обширнейшие сферы как государственной, так и особенно общественной и частной жизни, которые продолжали регулироваться обычаем из-за пробелов в законодательстве. С 1720х годов правительство начало прилагать существенные усилия для восполнения этих пробелов. 27 апреля 1722 г. был издан именной указ «О должности генерал-прокурора», а 13 июня того же года – «Инструкция обер-прокурору Святейшего синода», десятые пункты которых почти дословно совпадают. В именном указе «О должности генерал-прокурора» говорится: «О которых делах указами ясно не изъяснено, о тех предлагать Сенату, чтоб учинили на те дела ясные указы, против указа апреля 17 дня 722 года [имеется в виду указ «О хранении прав гражданских…». – М. Р.], который всегда на столе держится; и как сочинят, доносить Нам и, ежели в пополнение сей инструкции что усмотрит, о том доносить же». То же самое предлагалось делать обер-прокурору Святейшего синода с тем отличием, что он должен «предлагать Синоду», а не Сенату, как генерал-прокурор.
Такой способ восполнения пробелов в законодательстве активизировался в правление Екатерины II. Например, в 11м пункте манифеста от 15 декабря 1763 г. «О постановлении штатов…» говорится: «Когда же случится, что к решению дел точных указов не будет, о том не реша в департаментах, но иметь общее рассуждение и представлять, куда надлежит, с мнением…». Аналогичное требование содержит и именной, данный генерал-прокурору, указ «О неотступлении сенатской канцелярии от предписанного образа при докладе, о приезде присутствующим в Сенат в установленное время, о неоставлении заседания прежде положеннаго часа и об основывании определений Сената по всем делам на законах». В нем говорится, с одной стороны, о необходимости точно соблюдать законы, а с другой стороны, «в случае недостатка в узаонениях, по зрелому уважению государственной пользы, доносить Нашему Императорскому Величеству».
Итак, не вступая в дискуссию о праве законодательной инициативы в России XVIII–XIX вв. и считая справедливой существующую в исторической и историко-правовой науке точку зрения, что право законодательной инициативы принадлежало царю, обратим внимание на то, что в XVIII в., особенно в годы правления Петра I и Екатерины II, должностные лица не только имели право, но были обязаны обращать внимание законодателя на пробелы в законодательстве.
С установлением приоритета закона как источника права связаны и попытки законодателя устранить противоречия в законодательстве. В частности, в именном, данном Сенату указе от 11 декабря 1767 г. «Об оставлении в Малороссии установления Магдебургских прав касательно привода к присяге свидетелей из священнослужителей, в своей силе», разрешающем коллизию между Соборным уложением и Воинским уставом в связи с порядком присяги священнослужителей, содержится ссылка на указ, данный Сенату 3 сентября 1765 г. Этим указом «повелевается, если которая коллегия усмотрит в двух равных делах разные Сената решения, то, не чиня исполнения, докладываться о сей разности Сенату и <…> Императорскому Величеству, а Сенат имеет оныя дела с объяснением своих решений <…> Императорскому Величеству взносить…».
Таким образом, к концу правления Петра I не только законодательно утвердился принцип приоритета закона как источника права, но и был принят ряд мер для восполнения пробелов в законодательстве. Впоследствии такая законотворческая деятельность была продолжена. Среди мер, направленных на создание новой законодательной системы, отметим и малоуспешные попытки кодификации.
В последующие годы самым сложным оказалось внедрить принцип приоритета закона в сознание чиновников. Эту цель, в частности, преследовали несколько законодательных актов, изданных в 1740 г. 9 февраля вышел сенатский указ «О нечинении Камер-конторе по таким делам, на которые имеются точные указы, никаких вымыслов и беззаконных волокит». Поводом для издания этого указа послужило рассмотрение конкретного дела винного подрядчика Воронцова. Камер-контора затребовала сенатский указ о мере наказания этому подрядчику за его «продерзость». Поскольку о винных откупах и корчемстве существовали указы от 18 июня 7189 (1681) г., 28 января 1716 г., 6 мая 1736 г., на которые, кстати, в своем запросе ссылается и сама Камер-контора. Сенат указывает, что Камер-конторе «надлежало бы, не докладывая и не утруждая Правительствующий сенат, по вышеозначенным указам, а особливо по Именному Ея Императорского Величества 736 года указу, точное решение чинить…». Более того, в указе подчеркивается, что если Камер-контора, несмотря на ранее данное указание Сената, не приняла решение в соответствии с известными ей указами, а обратилась с требованием указа в Камер-коллегию, то «явная и беззаконная волокита» чинилась «знатно для некоторой страсти или лакомства». И в конце сенатского указа содержится требование не только как можно скорее в соответствии с имеющимися указами решить дело подрядчика Воронцова, но и «впредь той конторе в таких делах, на которыя имеются точные указы (как и на сие дело), отнюдь никаких вымыслов не употреблять и беззаконных волокит к разорению не чинить под опасением тяжкого штрафа».
Правительство не ограничилось разъяснением только конкретного дела. Во время регентства Бирона, 23 октября 1740 г., был издан манифест «О поступании в управлении всяких государственных дел по регламентам, уставам и прочим определениям и учреждениям». Этим манифестом провозглашалась необходимость «во управлении всяких государственных дел поступать по регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великого, и по нем во время Ея Императорскаго Величества блаженныя ж и вечнодостойныя памяти благополучнаго государствования учиненным без всяких отмен». Манифестом подтверждается устав от 6 октября 1740 г., а также «все <…> прежние в народ публикованные указы и манифесты о правосудии».
Но Бирон правил недолго. 11 ноября 1740 г., сразу же после смены правления, издается именной указ «О поступании при управлении государственных дел по регламентам и уставам и прочим учреждениям», содержащий ссылку на указ от 23 октября. В нем утверждается намерение новой власти «все <…> прежние указы <…> еще вновь наикрепчайше подтвердить» и, как и в манифесте от 23 октября, содержится повеление «всем находящимся при Управлении государственных дел, как вышняго, так и нижняго, какого б кто чина и достоинства ни были, каждому по своему месту и званию поступать по регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям от Предка нашего, блаженныя и вечнодостойныя памяти Государя Императора Петра Великого, и по Нем во время Ея Императорскаго Величества, блаженныя ж и вечнодостойныя памяти, Вселюбезнейшей Нашей Государыни благополучнаго Государствования учиненныя, и по вышеобъявленному Нашему, вновь выданному от 9 сего ноября Уставу, без всяких отмен».
Отметим, что, хотя попытки провести кодификацию в первые десятилетия XVIII в. не увенчались успехом, а значит, Соборное уложение 1649 г. оставалось действующим кодексом, в упомянутых законодательных актах именно указы Петра I рассматриваются в качестве основы действующей законодательной системы.
Внимания достоин и тот факт, что именно при быстрой смене временных правителей Российской империи в условиях крайней нестабильности верховной власти один за другим издавались законодательные акты, подтверждавшие необходимость руководствоваться ранее принятыми законодательными нормами. В этом, несомненно, проявилась стабилизирующая роль законодательства при смене правлений.
При Екатерине II усилия власти заставить чиновников руководствоваться имеющимся законодательством были продолжены. В 11м пункте уже упоминавшегося манифеста от 15 декабря 1763 г. «О постановлении штатов…», кроме предложения «иметь рассуждение» о случаях, по которым нет соответствующих указов, содержится и еще одно требование: «…на что точные указы есть, о том отнюдь общаго собрания департаментов не иметь, дабы напраснаго предложения чрез то в делах по проискам каким-либо не происходило, но решить дела в департаментах».
Но самый яркий пример усилий заставить чиновников руководствоваться существующими законами, а не требовать указа верховной власти по каждому конкретному делу, содержит высочайшая резолюция на доклад генерал-прокурора «Об окончании Сенату дел, на которыя существуют ясные законы, не делая по оным особых докладов Ея Императорскому Величеству». В своем докладе генерал-прокурор просил императрицу издать указ в связи с тем, что при рассмотрении четырех апелляционных челобитных на гетманские решения Сенат не смог прийти к единому мнению. Ответ Екатерины II на эту просьбу таков: «Малороссийские правы ясны, определение сенатское 24 сентября 1767 года еще яснее, Мой указ 1768 года 21 марта весьма же не темен, и Мое о сей материи мнение довольно известно Сенату; соглашать же спорющих по законам есть дело генерал-прокурора. И так Я, потеряв целое утро, которого каждая минута для Меня дорога, на такое дело, кое и без Меня по законам [выделено мной. – М. Р.] решить можно было, отсылая оное обратно, дабы Сенат окончал оное по вышеписанному без Меня же».
Постепенно от пожеланий должностным лицам указывать на пробелы в законодательстве через утверждение о необходимости руководствоваться при решении дел имеющимися законами законодатель переходит к требованию строгого соблюдения имеющихся законов. Такие требования содержатся в «Уставе благочиния, или полицейском», принятом 8 апреля 1782 г. Статья 46 «Устава…» гласит: «Управа благочиния имеет почесть противностию закона, буде кто не выполняет слова закона, и нарушением закона, буде кто тонкостию или хитростию избывает силы закона». В 56й статье говорится: «Управа благочиния не дозволяет вчинять новизну в том, на что узаконение есть; всякую же новизну, узаконению противную, пресекает в самом начале». Запрет «вчинять новизну, узаконению противную» содержится и в татье 194 «Устава…», а статьей 236 из раздела «Взыскания» предусматривается за «узаконению противную новизну» отсылать в суд и наказывать «по мере вины или преступления».
В «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. указывается: «Собранию дворянства запрещается делать положения, противные законам, или требовании в нарушение узаконений под опасением за первый случай (т. е. за положения противныя законам) наложения и взыскания с собрания пени 200 рублей; а за второй случай (т. е. за требования в нарушении узаконений) уничтожения недельных требований…» (статья 49). Почти дословно с 49й статьей «Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» совпадает 37я статья изданной одновременно с ней «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи».
В связи с утверждением приоритета закона к концу века законодатель формулирует и новое требование – точности, буквальности воспроизведения законов и цитат из законодательных актов. В именном, данном генерал-прокурору указе от 7 апреля 1788 г. «О неотступлении сенатской канцелярии от предписанного образа при докладе…» подчеркивается, что присутствующие должны «основывать свои определения везде и во всех делах на изданных законах и предписанных правилах, не переменяя ни единой литеры не доложася Нам». А в начале XIX в., уже при Александре I, был издан именной, объявленный министром юстиции указ «Об означении при выписывании по делам законов точных слов оных без сокращения и малейшей перемены». Издание этого законодательного акта связано с казусом – разбором жалобы графини Потоцкой, когда было усмотрено, что неверное решение основано на частичном использовании цитаты из законодательного акта. В связи с этим император повелел, чтобы Правительствующий сенат «подтвердил повсеместно, чтобы при выписывании по делам законов означаемы были точныя слова оных без сокращения и малейшей перемены, изменяющей часто самый смысл».
Таким образом, к началу XIX в. окончательно утвердился приоритет закона как источника права. С этим связано стремление к восполнению пробелов в законодательстве, требование соблюдения законов и точности их воспроизведения при решении конкретных дел.
Изменение соотношения обычая и закона как источников права, утверждение приоритета закона – это основной, системообразующий признак, позволяющий говорить о начале нового этапа в истории российского законодательства. Он хорошо укладывается в принятое нами в качестве исследовательской гипотезы объяснение системы источников Нового времени. Закон, в отличие от обычая, не только, а часто и не столько фиксирует сложившееся положение дел, сколько моделирует будущую ситуацию. Приоритет закона складывается тогда, когда в обществе, и в частности у законодателя, появляется представление о социальной изменчивости в ходе исторического развития и зарождается мысль о возможности влияния на этот процесс.
2.3.4. Расхождение государственного и частного права
Наряду с вышерассмотренным подходом, в котором единодушны не только по сути, но зачастую и по форме выражения мысли многие авторы, существуют и другие подходы к периодизации истории русского права, также приводящие к обособлению рассматриваемого периода. В частности, М. Ф. Владимирский-Буданов, который, как и другие авторы, отмечал утверждение приоритета закона начиная с XVIII в., давал общую периодизацию развития права, исходя из соотношения права государственного и частного. Он выделял три периода истории русского права: 1) «период земский (или княжеский) IX–XIII вв.»; 2) «период московский (правильнее – двух государств Московского и Литовского) XIV–XVI вв.»; 3) «период империи XVIII–XIX вв.»[258] Отмечая, что в первом периоде господствует обычай, во втором – обычай и закон в равной мере, а в третьем – закон, М. Ф. Владимирский-Буданов утверждал, что в первом периоде «начало государственное и частное слиты, как равносильные», во втором периоде «право государственное и частное постепенно обособляются, но прежнее смешение их обнаруживается в том, что в Московском государстве государственное право строится по типу частному», а в третьем периоде «государственное право стремится к полному очищению от примеси частно-правовых начал». Этот критерий начала нового этапа в истории законодательства (хотя, точнее, в истории права) также хорошо соотносится с принятой нами объясняющей гипотезой. Расхождение государственного и частного права свидетельствует о формировании не только государственного права периода империи, но и частного права Нового времени, что вполне соответствует складыванию взаимоотношений между личностью и государством в процессе эмансипации личности при переходе от Средневековья к Новому времени.
2.3.5. Утверждение принципа «Незнание закона не освобождает от ответственности»
Утверждение приоритета закона приводит к постепенному установлению общего для законодательства Нового времени принципа «Незнание закона не освобождает от ответственности». Заметим, что этот принцип известен со времен римского права и зафиксирован в «Законах XII таблиц» (середина V в. до н. э.). Но не стоит рассматривать утверждение этого принципа в российском законодательстве в XVIII в. как рецепцию римского права, поскольку его появление связано с изменением соотношения обычая и закона как источников права и, в свою очередь, обусловливало развитие системы публикации законодательных актов.
Формула «дабы неведением никто не отговаривался» встречается уже в Уставе воинском, утвержденном 30 марта 1716 г. Петр I, обосновывая необходимость предпринятого им труда, в преамбуле к уставу замечает: «…за благо изобрели ино книгу Воинский Устав учинить, дабы всякой чин знал свою должность, и обязан был своим званием, и неведением не отговаривался [выделено мной. – М. Р.]». И в именном, данном Сенату указе «О рассылке книг Воинского устава по корпусам войск, по губерниям и канцеляриям и о принимании его в основание, как по делам воинским, так и земским» присутствует эта формула, приводимая в обоснование необходимости тиражирования устава. (Вообще эта формула очень часто сопровождала указание на порядок публикации того или иного законодательного акта.)
Специально утверждению данного принципа посвящен именной, объявленный из Канцелярии полицеймейстерских дел указ «О наказании за преступления против публикованных указов» от 9 февраля 1720 г. Начинается он формулой «Великий Государь указал объявить всенародно». Такое начало в XVIII в. становилось обычным для тех указов, которые действительно должны были быть доведены до каждого подданного и в которых по этой причине более тщательно описывался порядок их публикации. Например, с такой формулы начинается именной указ «О мерах для искоренения воров и разбойников, о доносе об оных местному начальству под опасением за укрывательство тяжкого наказания» от 7 сентября 1744 г.
В указе «О наказании за преступления против публикованных указов» говорится: «В минувших годах, которые Его Величества указы о разных делах публикованы, и впредь публиковаться будут в народ, чтоб по оным исполнение чинили, как в тех указах предложено будет». Возможность исполнения указов жестко обусловливается их публикацией. Далее указом объявляется, что «кто в какое преступление впадет противу публикованным указам, а другой, ведая те указы, но смотря на других, то же станет делать или, ведая, не известит, тот будет без пощады казнен или наказан так, как в тех публикованных указах за преступление объявлено, не ставя то ему во оправдание, что смотря на другого чинил, чего ради надлежит всякому поступать по указам и хранить оные, и чтоб впредь никто неведением не отговаривался [выделено мной. – М. Р.]».
В целом же указанная формула так прочно вошла в систему публикации законодательных актов (подробно она описывается ниже), которая в рассматриваемый период регламентировалась наиболее тщательно, что мы не найдем отдельного упоминания этого принципа в законодательстве – пожауй, за единственным исключением. 14 декабря 1819 г. был издан Таможенный устав по европейской торговле, параграф 446 третьей главы которого гласит: «Неведением закона никто, российский подданный, ни иностранный, оправдываться не может». Присутствие этой формулы в Таможенном уставе, по-видимому, рассчитано в большей мере на иностранцев, чем на российских подданных, которые к ней уже успели привыкнуть.
Законодатель устанавливал особую ответственность государственных служащих за незнание законов. Именным указом от 22 января 1724 г. «О важности государственных уставов и о неотговорке судьям неведением законов по производимым делам под опасением штрафа» предусматривались достаточно суровые меры наказания за незнание законов[259]. Но этим же указом устанавливался и весьма разумный порядок ознакомления с законодательством государственных служащих, который рассматривается далее в связи с вопросом о публикации законодательных актов.
В рамках заявленного нами подхода утверждение принципа «Незнание закона не освобождает от ответственности» заслуживает особого внимания. Как уже отмечалось, российское законодательство Нового времени, в отличие от западноевропейского и североамериканского, не знало фиксации прав личности, но введением указанной нормы законодатель фактически признавал существование личности – если не через утверждение ее прав, то по крайней мере через признание ее ответственности, и в этом проявлялись новые взаимоотношения личности и государства, характерные для Нового времени.
2.3.6. Складывание системы публикации законодательных актов
Связь возникновения и развития публикации законодательных актов с системообразующим фактором – изменением соотношения закона и обычая как источников права – вполне очевидна. Справедливо замечание на этот счет М. Ф. Владимирского-Буданова: «Меры публикации усиливаются по степени удаленности от народного сознания о праве…»[260]. Действительно, пока основным источником права был обычай, вряд ли требовались специальные меры для ознакомления подданных с указами.
Публикация законодательного акта как необходимый элемент законодательной процедуры
Порядок публикации вновь принимаемых законодательных актов был установлен именным, объявленным из Сената указом от 16 марта 1714 г. «О обнародовании всех именных указов и сенатских приговоров по государственным генеральным делам». Этим указом не только предусматривалась рассылка указов «в губернии к губернаторам и в приказы к судьям», но и говорилось, что «для всенародного объявления велеть в типографии печатать и продавать всем, дабы были о том сведомы». В Уставе воинском Петра I назывались и другие формы публикации законодательных актов. В 35м артикуле говорится: «Все указы, которые или в лагерях или в крепостях при трубах, барабанах или при пароле объявятся, имеет каждый необходимо исполнять». Сам же Устав воинский предусматривалось напечатать в количестве тысячи экземпляров, из которых 300 или более на «словенском и немецком языках для иноземцев».
Кстати, в уже упоминавшемся указе из Юстиц-коллегии от 15 октября 1719 г. «О решении дел в Московском надворном суде по Уложению и по новосостоятельным указам, а не по сепаратным, и о донесении о делах, которых судьи сами решить не могут, в государственную Юстиц-коллегию» подчеркивается, что Московский надворный суд в пополнение Уложения должен руководствоваться указами, которые «всенародно напечатаны и повсюду объявлены [выделено мной. – М. Р.]».
Принципиально важным указом от 17 апреля 1722 г. «О хранении прав гражданских…» также закреплялась публикация законодательных актов в качестве необходимого элемента законотворческой процедуры.
Говорилось и о повторной публикации законодательного акта в случае внесения в него исправлений. Например, 22 февраля 1723 г. Петр I издал именной, данный Сенату указ «О перепечатании Табели о рангах по случаю определения вновь классов для генерал-фискала, обер-фискала государственнаго, обер-фискалов и фискалов». В этом указе, кроме требования перепечатать Табель о рангах в связи с некоторыми изменениями в ней, устанавливалась и общая норма: «Таковым же образом все указы надлежит в народ публиковать, ежели которые для какой нужды исправлены будут».
Законодательный акт публиковали и тогда, когда в него вносились дополнения. Например, 2 июня 1758 г. был издан сенатский указ «О публиковании во всенародное известие указов, выдаваемых в пополнение инструкции о размежевании земель». Следует подчеркнуть, что речь шла не просто о публикации указов, изданных в дополнение к инструкции, – они должны были быть приобщены к ней.
К началу 1720х годов практика публикации актов верховной власти утвердилась настолько, что правительство даже приняло определенные контрмеры, о чем свидетельствует сенатский указ от 5 июля 1721 г. «О присылке в Сенат для апробации из коллегий и канцелярий с состоявшихся указов копий; о непечатании и непубликовании коллегиям и канцеляриям своих приговоров и именных указов без доклада Сенату». Констатировав, что коллегии и канцелярии свои приговоры без апробации Сената «для исполнения и в народ публикования в печать предают», Сенат приговорил: «…ежели когда в коллегиях и канцеляриях какой Его Царского Величества именной указ записан будет, такие для каких ни есть причин по благоизобретению, или партикулярно приговором определится о таких делах, которые во установлении вновь какого дела, или действительную силу имеют в пополонку к регламентам и Уложенью и уставам или к коллежским и прочим инструкциям и указам, утвержденным в Сенате, и вновь о сборах, и по таким состоявшимся в тех коллегиях и канцеляриях указам никаких во всенародное публикование указов не печатать и в губернии и провинции не посылать, а взносить оные для апробации в Сенат, где подпискою всего Сената утверждено и в книгу записано подлинно, и потом печатать и публиковать и исполнять по силе тех указов определено будет, а без того таковых отнюдь в действо не производить…». Таким образом, устанавливается роль Сената как регистратора и публикатора законодательных актов.
Порядок публикации законодательных актов
Как уже отмечалось, указ от 16 марта 1714 г. «Об обнародовании всех именных указов…» предусматривал печатание законодательных актов типографским способом, а Устав воинский признавал и другую форму публикации – публичное чтение. Такой же порядок публикации был предусмотрен в «Инструкции, или Наказе, воеводам», утвержденной в январе 1719 г.: «И понеже простые люди в публикованных указах и уставах, паче же в смертных делах, не весьма все известны, для того воеводе велеть такие уставы и указы по знатным праздникам прихожанам в церквах трижды в году прочитать против указного регламента…».
Упоминавшимся ранее указом от 17 апреля 1722 г. «О хранении прав гражданских…» не только закреплялась публикация законодательных актов в качестве необходимого элемента законодательной процедуры, но и описывался еще один ее вариант: «…по данному образцу в Сенате доски с подножием, на которую оной печатной указ наклеить и всегда во всех местах, начав от Сенату даже до последних судных мест, иметь на столе яко зеркало пред очми судящих. А где такого указа на столе не будет, то за всякую ту преступку сто рублев штрафу в гошпиталь».
Но во всех этих случаях печатание законодательных актов могло быть способом публикации или начальным ее этапом. О необходимости печатать законодательные акты говорилось в именном, объявленном из Сената, указе от 10 февраля 1720 г. «О посылке по губерниям, о сборах печатных, а не письменных указов и о наказании за излишние поборы». Этим указом устанавливался следующий порядок публикации законодательных актов о сборах денег: «…в губернии и в провинции письменных указов не посылать, как прежде сего бывало, а посылать печатные, которые как в городах, так и в уездах в народ публиковать, и по селам разсылать, и отдавать попам; а им в церквах оные указы по вся праздникии воскресные дни для ведома прихожанам читать, чтоб всяк <…> подлинно был сведом». Причем за нарушение этого требования законодателя предусматривалась весьма суровая кара, такая же, как за взимание излишних поборов, – «смертная казнь или вечная ссылка на галеру с наказанием и вырезанием ноздрей и лишением всего имения». Кроме того, законодатель требовал «о тех казнях в указах печатных именно печатать, что так будут наказаны, дабы неведением не отговаривались».
Приведем несколько наиболее ярких примеров описания порядка публикации. О практике публикации дает представление, например, именной, состоявшийся в Сенате указ от 19 февраля 1721 г. «О возвращении на прежняя места беглых крестьян и бобылей», в 13м пункте которого говорится: «Сей Его Царского Величества указ во всех городах и уездах в дворцовых, патриарших и церковных и в вотчинных селах и деревнях всякого чина людям объявить и выставить о том при всех церквах и во всех знатных местах по торжкам и ярмаркам печатные листы, чтоб сей Его Царского Величества указ всем был ведом, и священникам по вся воскресные дни и господские праздники после литургии для ведома прихожан читать, и, кто при том слушании будет, впредь для ведома записывать, чтоб никто неведением не отговаривался».
Именной указ от 11 мая 1744 г. «О запрещении ввозить и о невывозе за границу золотых и серебряных денег, слитков и посуды…» заканчивается словами: «И сей указ, как в городах, так и в селах, во всех церквах для всенародного известия в воскресные дни и господские праздники читать почасту и прибить при церковных дворах и при городских воротах и при публичных и при торжках, где пристойно, дабы о том был всяк сведом».
В ранее упоминавшемся именном указе от 7 сентября 1744 г. «О мерах для искоренения воров и разбойников…» содержалось требование: «…сей указ в городах и на ярмонках в торговые дни во всенародное известие при барабанном бое, а в церквах священникам в воскресные и праздничные дни по окончании божественные службы во всенародной при том слух, в страх другим, читать неотменно».
Но наиболее любопытна, на наш взгляд, форма публикации, предусмотренная именным указом от 21 мая 1733 г. «О нечинении обид и притеснений ясашным людям, живущим в Якутском ведомстве и в Камчатке». Этот указ был обращен к «всякого народа и звания, домами и юртами живущим и кочующим», что и обусловило специфику его публикации: «И сей Наш Всемилостивейший указ, как в Якутске и Охотске, так и во всех острогах и зимовьях и волостях, вкопав столбы и накрыв малою кровлею, прибить и хранить, чтоб всегда всем был известен, а княжцам или старшинам каждого народа раздать, и сверх того при платеже ясачном толмачам перетолмачивать всем в слух на их языке…».