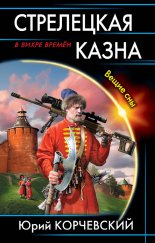Хьюстон, у нас проблема Грохоля Катажина
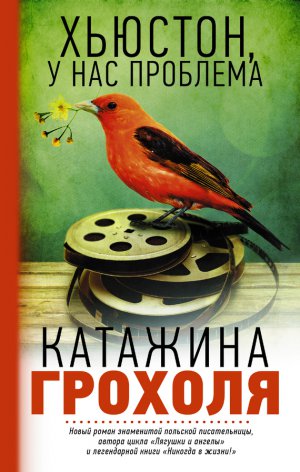
– А ты тут вообще ни при чем. Почему ты никогда не слушаешь до конца?
Истинная дочь своей матери.
– Речь-то обо мне. Я бы такого щеночка взяла, вырастила, воспитала. Если бы ты поговорил с моей мамой и убедил ее, что такая собака хорошо повлияет на характер, и встал бы на мою сторону… потому что она меня не хочет даже слушать. Женщины никогда не слушают, а только перебивают на полуслове… – говорит она то, что известно всем мужчинам на свете без исключения.
– Я? – удивляюсь я.
– Да. Потому что, знаешь, моя мама считает, что ты герой. И что у тебя горизонты. И что ты очень чувствительный, хотя этого не показываешь. У тебя ведь в родне наверняка какой-нибудь убийца есть, да?
Если бы я не был таким усталым и не так нервничал, если бы я хоть чуточку представлял, что мне теперь делать и как выходить из создавшегося положения, – я бы обязательно не выдержал и расхохотался.
Но сейчас мне было не до смеха.
Мне нужен Геракл – не позже послезавтра.
Ну почему он не мог пропасть через три дня хотя бы?!!
Я не могу так поступить со своей матерью. Со своей больной матерью.
– Аня, – начал я, она встала и вздохнула:
– Что ж, я вижу, что не могу рассчитывать на тебя в этом вопросе. И это немножко односторонне, потому что ты на меня всегда, всегда, в любом деле можешь рассчитывать.
Я чуть не упал.
– Анка!
– Я даже стих сочинила на тот случай, если твой пес не найдется. Что-то вроде некролога. – Она встала в дверях и продекламировала: – Спи спокойно, дорогой Геракл. Ты не много ел и мало какал. Все тебя любили и ласкали, не нашли тебя, хотя искали. А ты в приюты звонил? – И она ушла.
А я бросился к Интернету. Ведь это надо было сделать сразу – а у меня словно мозг вырубился.
Но надежда на чудо прожила недолго – я позвонил по четырем номерам и выяснил, что никакого чихуахуа на этой неделе не находили. Но у них есть множество других замечательных собак, которые тоже нуждаются в любви и ласке.
Я тоже нуждаюсь в любви и ласке.
К чертям других собак! Не заводить собаку – гуманно по отношению к другим членам общества.
Геракл, вернись!
И что?
Я смотрел на розовую сумку с окошком, а там не было этой заполошной морды.
Операция – это не страшно, нечего ее бояться. Даже врач сказал, что это только операция.
И будут лечить.
Если бы не стали лечить, это было бы совсем другое дело.
А операция – это всего лишь операция. Заснул – проснулся. И все.
Марта как-то раз рассказывала, что у какой-то ее подружки на предплечье появилось какое-то темное пятнышко. Она впала в истерику, тут же кинулась звонить своему семейному врачу, который сказал ей прийти утром, она в панике села за компьютер, про всех дерматологов все разузнала, записалась в специальной клинике к дерматологу, четыре недели ждала приема, заплатила сто пятьдесят злотых – за информацию, что это коричневое пятнышко от шоколада и его надо бы смыть…
Но пса мне надо найти.
Мне к пятнице надо иметь пса.
Какого угодно, лишь бы был похож.
Это не обман – это во благо.
А потом уже буду пугаться.
Матушка должна знать, что все в порядке.
Я вхожу в кухню, включаю свет, начинаю искать на холодильнике. Где-то тут должен быть этот чертов ринграф, я ведь сам его сюда положил, шарю рукой, нахожу пакет с черствым и уже заплесневевшим хлебом, вот откуда он там взялся, интересно, я ведь его искал, но не нашел, а теперь он сам нашелся, когда не надо и когда ему прямая дорога в мусорку.
А ринграфа нет.
Если я его потерял – все пропало.
Тогда точно все пропало.
Надо его отнести матери, она в него верит, она мне свою веру отдала, а мне эта вера не передалась.
Может, хотя бы Геракл найдется?
Когда он найдется – все будет хорошо.
Я влезаю на стул – может, он где-то сзади? Инга его рассматривала, может, переложила куда-нибудь? Да нет, точно нет, я у нее его забрал и сто процентов положил на место. То есть на холодильник.
Потом я залил кухню. Все двигал. И ринграф мог упасть. Да точно упал. Я отодвигаю холодильник – нет. Обыскиваю методично кухню метр за метром – нет. Как будто его черти забрали. Ну вот только этого мне не хватало!
Да нет, он должен тут быть, я просто плохо посмотрел, нужно собраться и еще раз все проверить. Чудес не бывает. Я выкатываю холодильник на середину кухни, залезаю за него, потом вижу, что между шкафчиками и стеной тоже есть немного места, ищу там…
Ринграфа нигде нет.
Да что же это за проклятие надо мной висит?
Я поворачиваюсь – и вдруг вижу, как он покачивается прямо перед моим носом: шнурок зацепился за решетку сзади холодильника, Дева смотрит на меня и смеется мне прямо в глаза, слегка покривившись.
Я мою кулон под теплой водой жидкостью для мытья посуды и насухо вытираю. Отнесу его матери в больницу, он ей пригодится, я не верю в такие вещи, но раз уж она в них верит – то он ей наверняка поможет. Плацебо же помогает.
«Положение серьезное, мы не знаем, как ваша мама отреагирует на лечение, вы должны быть готовы…»
Готов к чему?
Я знаю одно: раз я его нашел – значит, теперь и матушка выздоровеет. Это несчастья ходят парами, счастье одно, а несчастий тысячи, здоровье одно, а болезней миллион, любовь одна, а ненавистей множество. Все изменится. Все изменится – стоит только измениться одной маленькой вещи, с изменения которой начнется изменение всего.
Я выхожу из дома и еду как на казнь. Проезжаю госпиталь строителей, проезжаю пересечение с Торуньским шоссе, поворачиваю на Соколовскую, паркуюсь перед Вольской. Рядом с большим костелом. Сам не понимаю почему.
Костел пуст – красивый готический костел, мимо которого я езжу каждый раз, когда направляюсь в центр и обратно.
Я сажусь на скамеечку сзади и опускаю голову.
Я не знаю, что нужно делать. Не знаю, о чем и кого просить. Я один. С ринграфом.
Если ты есть, Господи, сделай что-нибудь.
Моя мать на закате жизни лишилась защиты, я сжимаю в руке ринграф, чистый и такой же чужой, как и раньше, поэтому, Господи, сделай что-нибудь, ведь она хотела как лучше для меня.
Пусть этот пес найдется – тогда все будет хорошо.
«Все будет хорошо» – это название фильма, там герой тоже с Богом пытается договориться и у него тоже болеет мама. Которая, кстати, умирает, несмотря на то что он идет за помощью к Божьей Матери.
Понятия не имею, что я тут делаю.
Я стискиваю ладони изо всех сил, ринграф впивается мне в пальцы.
Предпоследний раз я был в костеле на похоронах отца, а последний – на похоронах бабушки Марты. А потом уже не был.
Я оглядываюсь по сторонам – холодно и пусто. Из боковой двери выходит ксендз, я смотрю на него, он останавливается, делает неуверенный шаг в мою сторону. Я встаю, как ученик, которого вызвали к доске.
– Вам нужно… поговорить?
– Нет. Я не хожу в костел, – отвечаю я быстро.
– Но это именно костел.
– Ну… да, – я слышу в своем голосе отчаяние, и меня это пугает.
Он садится рядом со мной, я двигаюсь. Нас в костеле только двое.
– Может быть, тебе просто некуда больше пойти… ничего, Господь Бог ждет каждого из нас.
Вот с ними всегда так. «Вам нужно поговорить?» – и сразу «может быть, тебе некуда больше пойти…». И кстати, значит ли это, что я с ним тоже могу разговаривать на «ты» – или только он со мной?
– Я скорее не верующий… – шепчу я.
– Ничего… Он в тебя верит…
Я вдруг почувствовал усталость, смертельную усталость.
Мне хотелось заснуть и забыть обо всем. И не думать.
И проснуться, когда все уже будет позади.
– Я устал, – ответил я. – Все рушится…
– Что-то случилось?
– Нет. Дело в собаке. В основном.
– Твоя собака?
– Нет, матери… Мать больна, а ее пес пропал. И если он не найдется…
Тут я спохватился и рассказал ему обо всем по порядку: о ненавидимом мною Геракле, о болезни матери, о том, как эти две вещи связаны между собой, и о своем бессилии что-либо сделать.
– А почему ты так думаешь? Тут же магия не нужна… Твоя мать тяжело больна – так, может быть, тебе просто проще думать о собаке? Так меньше болит, правда?
Я возмутился.
– Да никто не говорит о магии… Но мать дала мне ринграф, – я вытащил свою Деву с когтями и подал ксендзу. – Она в нашей семье уже много лет. Видите вот эту ямку? Мать говорит, там пуля застряла, вот здесь… Он нашу семью защищал и спасал… и мать подарила мне его на день рождения. Чтобы он меня охранял. И как только она мне его отдала – сразу рак…
– Пресветлая Дева, – подтвердил ксендз. – Красивая вещь. Отличный подарок.
– Но он не работает, – брякнул я, не успев подумать.
– Хочешь со мной помолиться? Молитва работает…
– Я не умею, – признался я, чувствуя ком в горле.
– Просто повторяй за мной.
Мы опустились на колени.
– О Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, высшая ангел и архангел и всея твари честнейшая…
– …твари честнейшая…
– …чистая Дево Марие, миру Благая помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление!
– …избавление…
– Ты еси заступница и предстательница наша, ты еси обидимым защищение, скорбящим радование…
– …скорбящим радование… – повторял я.
– …сирым прибежище, вдовам хранительнице, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление…
– …немощным исцеление…
– …грешным спасение.
– …грешным спасение.
– Помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.
– Аминь.
Во вспотевшей ладони я сжимал покалеченный ринграф.
– Верь Господу, – произнес ксендз и встал.
И перекрестил мою склоненную голову.
Великая мистификация
В восемь двадцать три в дверях возникла Инга. В руках она держала бронзового цвета дорожную сумку – с окошком, а как же. В окошке виднелась морда пса – а как же, ни дать ни взять гераклоподобный, только чуть другого оттенка. И хвост другой, непонятно почему. Пес повел себя фантастически – он сразу же схватил меня за штаны и начал верещать, как придавленная мышь, подключенная к электрической зубной щетке.
Матушка с первого взгляда поймет, что это нечто с Гераклом не имеет ничего общего, разве что они принадлежат к одной породе.
– Не ссы, прорвемся, – заявила Инга (понятия не имею, кто ее этому научил!). – Ты просто покажешь его матери из окна. И все получится.
– Мама… из окна, – уточнил я. – Посмотрит из окна, да?
А это могло удаться. Профессора не нужно посвящать в наш замысел, потому что он же «порядочный человек» и может не понять, но я могу позвонить матери и сказать ей, чтобы она выглянула в окно, я ей пса подниму в руках, она порадуется, потом я пса спрячу в сумку, сумку в машину, а сам пойду к ней с чувством выполненного сыновьего долга.
Пес с прекрасным звучным именем Шварц (разумеется, в честь Шварценеггера) улегся на коврик около двери и лупал глазами.
– Только ни на секунду не отпускай его с поводка, – Инга вручила мне его упряжь. – Завтра с утра, сразу после занятий, я за ним приеду, потому что мне его одолжили только до вечера. Я сказала, что он будет сниматься в кино. Ты его снимешь? Я потом скажу, что сцену вырезали. И я даже не наврала – ведь ты же кинооператор, правда ведь? – она слегка смутилась, а меня позабавила эта комбинация вранья с ощущением вины. Не говоря о том, что это было чисто по-польски.
Женщина должна иметь для всего оправдание. Она не может смириться с тем, что все так, как оно есть. И иногда врать необходимо. Она должна знать, что у нее не было другого выхода, – и подогнать под свой поступок соответствующую идеологию. А отсутствие других вариантов – отличное оправдание, все сразу становится легко и просто. Никакой вины нет, если у тебя не было выбора. Если не было выбора – то вранье перестает быть враньем, а становится «необходимостью». А необходимость уже преодолевает все препятствия. А вина… виноват Геракл, что пропал. Или я, что это допустил.
Хотя надо признать, что когда они любят – они свою любовь защищают как могут.
Он не напился – он просто с утра ничего не ел… а блевал он потому, что салат несвежий был, она и сама это почувствовала, только не стала говорить ничего; ребенок – нет, он не лентяй, на котором негде пробу ставить, а это учителя на него почему-то взъелись; мусорника отродясь не было там, где любимый в него въехал, не посмотрев в зеркало заднего вида при парковке, его, этот мусорник, кто-то только что туда поставил, а проспал он не потому, что раздолбай, а потому что будильник не сработал. И даже последствия стихийного бедствия им важны только потому, что кто-то кого-то не предупредил.
Логика у них удивительная: как будто если бы тот мужик, который о погоде рассказывает, предупредил о стихийном бедствии – ничего бы не случилось.
Но они сделают все, чтобы тебе помочь. Это правда.
– Инга, ты просто мой ангел-хранитель, – сказал я. – Я никогда тебе этого не забуду. Ты даже не представляешь, что для меня сделала.
– Мне надо идти, Иеремиаш, – вздохнула она. – До завтра.
Я проводил Ингу до остановки – а вдруг где-нибудь своего уродца увижу все-таки? Прошелся по району. Мне попадались навстречу самые разные собаки: мастифы, волкодавы, которых я знаю, – один из моего дома, а второй из тринадцатого, такса моего соседа снизу, которая еле шла, два веселых йорка… но моего Геракла не было.
Я вернулся домой. И, поскольку я люблю свою мать, остался наедине с чужим псом породы, которую не перевариваю. А матушка о моих страданиях даже не догадывалась. Жизнь несправедливая штука. Чужая псина сидела у батареи и чутко следила за каждым моим движением. Мне надо было наконец расставить книги на полках, но времени не было. Да ничего с ними не случится. Я включил новости, экран замигал, но на нем появился мой самый нелюбимый политик, и я переключил на CNN. Все-таки забавно, что один и тот же мир в новостях разных компаний выглядит совершенно по-разному! Как будто они говорят о разных планетах. А я Инге удивляюсь…
Пес у батареи замер. Положил голову на передние лапы – у этих коротконогих уродиков это выглядит довольно курьезно. У него между ушами были темные пятна, а глаза – темные и внимательные. Он не спускал с меня взгляда. Глупое маленькое существо… Он страшно боялся, но притворялся храбрецом.
Я пошел на кухню и вынул миску, в которой давал Гераклу еду.
Еда еще не протухла, не воняла, хотя я и достал ее еще вчера, в надежде, что уродец найдется. Я налил холодной воды и порезал еду на мелкие кусочки, положил обратно в миску, помыл доску и поставил на место. Мне достаточно бардака в комнате, в кухне я стараюсь не разводить грязь, хотя это и нелегко.
Пес поднял голову, когда я к нему подошел, и тревожно поставил уши торчком. Пытался было заворчать, но у него получился только тихий жалобный писк. Я поставил перед ним миску и сел на диван. Краем глаза я наблюдал за тем, что он делает. Осторожно, на прямых, негнущихся лапах он подошел к миске и встал в стойку, забавно подняв переднюю лапку, как будто у него в роду были охотники. Трясся. Уж такая у этих мышеподобных собак особенность. А потом опустил мордочку и начал трескать, аж уши ходуном ходили. В десять секунд миска опустела. Он посмотрел на меня и шмыгнул снова к батарее. Не сказав «спасибо», не проявив хоть какой-нибудь благодарности… как будто так и должно было быть.
А потом мы с ним пошли гулять. И искать Геракла.
Матушка не берет телефон, а пес сидит, испуганный, в чужой сумке – в сумке Геракла – и попискивает.
Я останавливаюсь прямо перед окнами больницы, две десятки сую в руку охранника, чтобы не возникал. Слегка приоткрываю окно, закрываю машину и бегу на второй этаж. Мать сидит на лавочке в конце коридора вместе с двумя другими женщинами. Одна уже мне знакома, а вторая пришла кого-то навещать, о чем свидетельствует отсутствие на ней халата. Я вежливо кланяюсь, целую матушку в щечку.
– А где Геракл?
– Внизу. Не могу я его сюда принести, меня задержали на входе… – вру я. И это неправда только наполовину: принести сюда Геракла я действительно никак не мог.
– А я разговаривала с такой милой медсестрой, и она сказала, что мне можно спуститься…
– Мама, – я пугаюсь не на шутку, – об этом и речи быть не может, ты из больницы не выйдешь, а Геракл…
– Но ведь мой песик чистенький, он никого не заразит, – пытается убедить меня мать.
– Зато он может чем-нибудь заразиться! – говорю я. – А сейчас за него отвечаю я.
– Ваш сын прав, – мяукает посетительница. – А у вас завтра операция, лучше не надо.
– Я тебе его покажу снизу, а ты смотри в окно своей палаты. Я специально там машину поставил, – я подаю матери сеточку с ананасами в собственном соку, знаю, что она их любит, и соком.
– Не нужно, милый, зачем ты покупал, здесь есть магазинчик, все можно купить, – матушка встает и обнимает меня, ненавижу такие сцены при посторонних. Чужая посетительница тоже встает. Матушка идет к палате, посетительница провожает меня до двери отделения.
– Вы не нервничайте, – произносит она утешительно, а я, во-первых, не нервничаю, а во-вторых – вовсе не нуждаюсь в утешении, – они всегда говорят, что рак, на любую опухоль, а рак может быть и не злокачественный.
Вообще-то рак всегда злокачественный, хочется мне возразить, это опухоль может быть доброкачественная, но потом я решаю не связываться. И операция сама по себе несложная, во-первых, а во-вторых – мне вообще есть о чем переживать. Матушке опухоль удалят – и она уже через три дня будет дома, а там окажется, что собаки-то нет. И вот тогда… тогда будет караул.
Вот это настоящая проблема, да.
– Спасибо, – говорю я чужой посетительнице так, словно она мне показала свет в конце туннеля.
Сбегая по лестнице вниз, я натыкаюсь на кучку пациентов, стоящих между этажами прямо под табличкой «На территории больницы курение строжайше запрещено!». Услышав мои шаги, они прячут недокуренные сигареты в кулак, а потом на их лицах появляется выражение облегчения, когда я пробегаю мимо, не обращая на них никакого внимания. Воняет тут как в сортире в моей школе на большой перемене, но и фиг с ним.
Бегу за собакой.
Матушка машет из окна, я машу ей в ответ с широкой улыбкой. Вынимаю сумку, ставлю на землю, чтобы она видела, что в ней Геракл. Сумку видно лучше, чем пса. Лезу за псом, он ворчит и пытается спрятаться поглубже, но у меня нет выхода: я поднимаю Шварца, сопротивляющегося, повыше, матушка улыбается, я прижимаю его, он со зверским выражением морды тянется к моему лицу, пытаясь меня укусить, я его отталкиваю, матушка смеется, представление продолжается.
– Гераклик, собачка моя! – кричит она из окна, а я щиплю этого сукина сына, чтобы он хотя бы поменьше махал своими недолапами.
Пес в стрессе, я в еще большем стрессе.
– Я здесь, здесь! – кричит мать, я поднимаю его повыше, и он перестает вырываться и прикидывается пластиковым. Но прикидывается недолго, а потом снова пытается меня укусить.
Я опускаю его на землю, он поджимает хвост и стоит на газоне неподвижно, не желая двигаться. Я силком впихиваю его обратно в сумку: он знает, что это не его сумка, я знаю, что это не его сумка, но матушка-то этого не знает и знать не должна. Закрываю молнию, кладу сумку обратно на сиденье, машу матери, закрываю дверцу, иду обратно наверх, мокрый, как мышь под метлой.
– Он как-то изменился, – говорит мама. – Как-то по-другому лает.
Ни о каком лае и речи быть не может – эти короткие попискивания и визг ничего общего с лаем не имеют, но что уж теперь.
– Если бы не то, – матушка начинает смеяться, – что малыш на тебя снова кинулся, я бы подумала, что это вообще не Геракл. Но в этот момент я узнала своего малыша, по его боевому духу узнала!
Мама, милая мама…
Хорошо, что он со мной не подружился после того, как я его накормил.
Боевой дух.
Псы любят запах напалма обычно, да.
– Посиди со мной, милый, ты ведь не спешишь?
Я не знаю, что ответить, потому что, разумеется, спешу. Мне нужно ехать в центр, причем с этим псом, потому что какая-то плазма светится в ночи без повода, надо посмотреть, что там такое случилось, да и деньги нужны. А потом мне надо отдать пса.
– Я немножко боюсь завтрашнего дня, – произносит мать, но я не слишком хороший собеседник в том, что касается подобных дел.
– Нечего бояться, мам, – успокаиваю я ее. – Это просто маленькое хирургическое вмешательство.
– Я не очень уверена в этом, милый, – отвечает она и гладит мою ладонь. – Ты ведь справишься со всем?
С чем – всем?
Мне пса надо найти.
Марту я не найду уже.
А все остальное как-нибудь уладится само.
– Я вот думаю, милый, если со мной что-нибудь случится…
– Ничего с тобой не случится, – перебиваю я, потому что мне это карканье ни к чему – я его не люблю. Если женщина ничего не боится, значит, она уже умерла. А моя матушка в этом особенно сильна.
– Я тоже так думаю, – вздыхает она, и клянусь – в ее голосе звучит какая-то неловкость.
В палату входит медсестра, раздает градусники.
– Пани Юстина, вам на завтра было назначено?
– Да, – кивает мать и ставит градусник под мышку. – Как это – было назначено?!! – она реагирует быстрее, чем я.
– Операция ваша переносится.
– Как переносится? – матушка бледнеет, я тоже ни жив ни мертв.
– Звонил доктор Колач, он только во вторник вернется из Брюсселя.
– Как это во вторник?
– Ну так – во вторник, – пожимает плечами медсестра. – Но мы все-таки вас пока не выпишем, чтобы вы там какую-нибудь заразу случайно не подхватили. Но на прогулку можете сходить – по парку.
Вид за окном вполне приятный. Старые деревья, солнце, клонящееся к закату, красиво играет лучами в листьях. Небо порозовело, желтые стены палаты тепло отражают последние лучики солнца. А эта палата, пожалуй, даже симпатичная, если бы сюда поставить диванчики и столики какие-нибудь – так вообще шикарно было бы. У окна одна кровать свободна. Я смотрю на мать вопросительно:
– А ты не хотела бы лежать там?
– Нет, меня и так потом переложат.
– Куда?
– В послеоперационную палату, если все будет хорошо.
О господи, я этого не выдержу.
– Сегодня еще кто-нибудь к тебе придет?
– А кто должен прийти?
– Ну не знаю… пан профессор, пани Юлия…
– Нет, сегодня они уже были. Я хотела вечер с тобой провести…
Какой вечер? Разве тут не выгоняют посетителей в определенный час? Нет? Я беспокойно кручусь на стуле.
– Так может, пойдем попьем кофе?
– Ты голодный?
– Нет, я только подумал, что можно пойти в буфет… если ты хочешь. Я не голодный, я ел, – вру я. – Но знаешь, я думаю, мне надо идти к… – на кончике языка у меня вертится имя «Шварц», но я вовремя спохватываюсь и говорю правильно: – …к Гераклу. И еще у меня сегодня в центре работа.
– Так что же ты не сказал, милый, я бы тебя не задерживала, – матушка всплескивает руками, встает. – Пойдем, я провожу тебя до лифта.
Я не хочу ехать на лифте, хочу идти пешком и как можно скорее оказаться подальше отсюда.
Коридор почти пуст, только медсестра входит в очередную палату, собирает термометры.
Две другие сестрички сидят в открытой дежурке и раскладывают лекарства по пластиковым баночкам.
Пластик – это беда нашего времени. В желудке одного альбатроса нашли двести семьдесят три пластиковых предмета. Он умер от голода: птицы думают, что то, что мелькает на поверхности воды, – это рыба или планктон, ныряют, хватают, глотают… А в Тихом океане миллиарды тонн пластика создали остров, который больше Польши по размеру. На килограмм планктона приходится сорок шесть килограммов отходов. Которые никогда не распадутся и не сгниют. Они только будут съеживаться, разваливаться на миллиметровые кусочки и загрязнять воду все сильнее. Каждый час в воду Мирового океана попадает семьдесят тонн отходов. Именно поэтому я не покупаю воду в пластиковых бутылках.
– Мне бы хотелось, чтобы это все уже было позади. Ну, ладно.
– Не бойся, – говорю я твердо, хотя чувствую себя очень усталым и уже совсем не так оптимистично настроенным, как пытаюсь ей продемонстрировать.
А ведь со Шварцем-то все получилось!
Мать выходит вместе со мной в коридор. На полпути к лифту я вспоминаю про ринграф – я ношу его с собой со вчерашнего дня.
– Я мобильник оставил. – Я быстро возвращаюсь в палату, кладу ринграф в ее косметичку. Навредить-то он точно не навредит, хотя и в пользе его я совсем не уверен.
Я догоняю матушку уже у лифта.