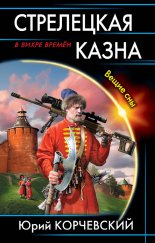Хьюстон, у нас проблема Грохоля Катажина
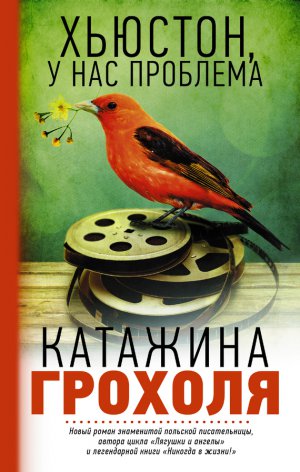
– Я могу на тебя рассчитывать?
– Так ведь это моя мать, – напоминаю я ему раздраженно. И вообще-то, если уж на то пошло, это я должен был бы у него спрашивать, могу ли я на него рассчитывать.
– Твоя мать может не выжить, ты вообще отдаешь себе в этом отчет?
А вот это как раз совершенно невозможно.
И выходит за все рамки.
Что он несет? Мне надо поговорить с врачом, я, видимо, что-то пропустил – с какой стати этот старый пердун устраивает мне сцены, как в зале суда? Тоже мне, специалист! У юристов вообще есть такая склонность, особенно у пожилых: их хлебом не корми, дай только устроить кому-нибудь судилище…
– Я бы хотел, чтобы у тебя был мой номер телефона. – Голос профессора звучит печально, когда он диктует мне цифры, которые я послушно забиваю в свой мобильник.
– Да, да, – повторяет он как бы самому себе, а потом снова смотрит мне прямо в глаза: – Это очень важно, но это моя роль. Женщины после операции часто чувствуют себя ущербными, твоя мать должна понять, что для мужчины, который ее любит по-настоящему, все это не имеет никакого значения.
Для меня – конечно, не имеет, что он меня поучает, ей-богу!
– Ну, и еще мы должны с тобой как-то поделить обязанности, ей нужно будет, чтобы рядом все время были люди, которые ее любят.
Я надеюсь, мне не придется с ней жить. Ну или хотя бы пусть она переезжает ко мне. У меня, по крайней мере, есть лифт. Хотя, насколько я знаю свою матушку, – об этом даже речи быть не может.
– Твоя мама уже пару недель знает, что положение очень, очень серьезное. Она не хотела тебе об этом говорить, пока не будет уверенности на сто процентов. Но теперь я рад, что…
Хьюстон, у нас проблема!
– Я рад, что все разъяснилось, – он подает мне руку.
Что разъяснилось-то? И что должно было разъясниться?!!
Я смотрю, как он уходит размашистым шагом, как будто идет на заседание суда, а не за мороженым. Вынимает телефон, разговаривает. Вот интересно: со мной матушка ничего не хочет, а профессора, своего партнера по бриджу, гоняет за мороженым. Как будто она как минимум беременна от него.
Я взбегаю на второй этаж, потому что рядом с лифтом собралось много народу, даже коляска инвалидная стоит.
Матушка сидит на постели, элегантная в своем халате. Она подставляет мне щеку для поцелуя, три бабы по соседству пялятся на меня, это у них такое развлечение – попялиться на сына пани с раком.
Матушка встает с постели, берет меня под руку, чего я не люблю, потому что это старомодно и глупо, а кроме того, выглядит так, будто я ей в какой-то степени принадлежу. Я никогда не любил с ней так ходить, а у нее на улице, бывает, случаются такие заскоки.
– Пойдем в комнату для посещений, я Зигмунту сказала, что мы там будем.
Мы садимся у окна, матушка смотрит на деревья, словно забыв о моем присутствии.
– Зигмунт мне обо всем рассказал, – начинает она.
– О чем – всем? – задаю я глупейший вопрос, потому что и правда не понимаю, о чем вообще идет речь.
– Понимаешь, у меня такое впечатление, что до тебя не совсем все доходит. Но я даже рада, что ты… что ты не чувствуешь себя неловко.
Не знаю, как я должен себя чувствовать. Если бы знал – может быть, и чувствовал бы себя неловко.
– Я так боялась. Ужасно. Но я всегда в тебя верила, сынок. Ты так по-взрослому реагируешь на известие.
Господи, умереть не встать – это что, прощание? Она никогда в жизни со мной так не разговаривала!
– Я не знаю, мама, заметила ли ты, но с некоторых – причем довольно давних! – пор я действительно стал взрослым.
– Понимаешь, я имею в виду, что волновалась, как ты это воспримешь…
Да мне все равно, будут у моей матери сиськи или нет, – лишь бы она была жива-здорова! Но она волновалась, ты ж понимаешь. Какого же она обо мне мнения?!!
– Мама, ну разумеется, я воспринял это как надо. Главное – чтобы ты была жива. И даже не переживай на эту тему.
– О, Зигмунт, ты так быстро! – матушка сияет при виде профессора, который несет ей ванильное мороженое, его матушка любит больше всего. – Садись, садись…
– Видишь, любимая, зря ты волновалась… Мы с Иеремиашем серьезно поговорили и все выяснили.
Любимая?
Что это значит – любимая?
Эти юристы… вообще, что ли, не соображают, что говорят?
Но любимая? Это уж слишком.
– Мы можем съехаться, тебе нельзя будет жить одной, – профессор берет матушку за руку, но смотрит на меня. – Твоей матери, Иеремиаш, нужен будет близкий человек рядом.
А я, дурак, об этом и не подумал. Матери ведь действительно понадобится помощь, хотя бы первое время.
– Честно говоря, мы уже много об этом думали, но твоя мама так волновалась за твою впечатлительность…
– Да что вы имеете в виду, прошу прощения?!! – я понятия не имею, о чем он болтает!
– Да ведь я же сказал тебе, что между мной и твоей матерью чувство. И оно возникло давно.
– Чувство?!!
– Иеремиаш, ну не будь ребенком, твоя мама – взрослая красивая женщина, я – взрослый мужчина.
О господи. Моя матушка… занимается сексом?!! И что мне теперь с этим делать?!!
Я вынимаю из кармана телефон и прикладываю к уху.
– Нет, я позвоню через секунду, я в больнице, – произношу я в молчащий телефон.
Мне нужно немедленно уйти отсюда, я должен их оставить, потому что у меня внезапно закипает кровь.
– Прошу меня простить, очень срочный звонок, – я посылаю им извиняющуюся улыбку, матушка улыбается мне в ответ, а профессор не улыбается – он понимает, что это обман, он более прозорлив.
Я выхожу из комнаты посещений с телефоном в руке. Изображаю разговор, а сам дышу, как будто пробежал марафон. Вдох, выдох, вдох, выдох… О господи.
О господи!
Какой же дурак!
Слепой!
Глупый!
Ну конечно – поэтому я должен был звонить и предупреждать, когда собирался приехать. Не приезжать неожиданно, информировать.
Я придурок – меня целую жизнь обманывали. И сейчас она тоже меня обманывает.
Надо вернуться и вести себя как ни в чем не бывало.
Я возвращаюсь, но чувствую себя непотребно. Они болтают о каких-то пустяках: что, может быть, вечером сыграть прямо здесь робберок-другой, что, может, Юлия с мужем пришли бы, было бы мило, с медсестрами можно было бы договориться, а кофе можно принести в термосе, и если я хочу – то тоже мог бы присоединиться, а как Геракл, а как работа… Мне даже не хочется рассказывать сейчас матери о том, что через месяц я приступаю к съемкам фильма, а в понедельник должен получить сценарий, ведь это может ее расстроить. Как это – «я болею, а ты будешь занят?». Я уже прямо слышу: «Ты же знаешь, я никогда… но я не думала, что именно сейчас, когда мне нужна будет твоя помощь…»
Как-нибудь все уладится.
Я думал, она хочет со мной поговорить, что-то такое важное сказать, а оказывается, речь шла только о том, что я должен подружиться с ее любовником-профессором. Какое-то недоразумение просто.
– Иеремиаш, что с тобой? – мамуля решила обратить на меня внимание.
– А что со мной может быть? Ну, кроме того, естественно, что у тебя рак, – ляпаю я, и лицо маменьки тяжелеет. Профессор хватает ее за руку.
– Он просто никак не освоится с этой мыслью, – говорит он ей ласково, словно ребенку.
Он еще будет меня переводить, ну нет уж!
Пес меня доконает этот, а не мать! Мне хочется дать этому профессору в рожу. Мать-то по-любому выздоровеет, а этот уродец норовит издохнуть – и только потому, что я один раз, один-единственный раз! по доброте душевной спустил его с поводка!
У меня своих проблем хватает.
Мне нужно поговорить с Алиной, нужно сделать ремонт на кухне соседки, которую я залил, нужно как-то смириться с тем, что я испортил сам себе жизнь, – а он тут будет меня оправдывать! Переводчик!
Ведь это не я врал, что мне предстоят только дурацкие анализы и обследование, это не я врал, что несчастный и одинокий, что мне нужно видеть своего сыночка все время, без перерыва, потому что он моя единственная опора и самый главный человек в моей жизни!
Все, я умываю руки.
– Мама, я приеду к тебе завтра, сейчас мне надо кое-что сделать. О’кей?
– Иди, милый, если надо, – матушка снова в хорошем настроении, она почти не обращает на меня внимания. – Я так рада, что мы все вместе.
Черт!
Вместе.
Я, он и она.
Счастья полные штаны.
Я все никак не могу прийти в себя, меня просто разрывает на куски от злости, вот-вот хватит удар.
Да что они все со мной делают?
Я возвращаюсь из больницы в таком бешенстве, что практически не вижу ничего перед собой. Но напиваться не хочу, потому что хочу иметь ясную голову. В лифте набираю телефон Инги.
– Иеремиаш, как дела у мамы?
– Ты можешь приехать?
– С мамой плохо?
– Со мной плохо, – говорю сквозь стиснутые зубы.
– Сейчас буду.
На третьем этаже лифт останавливается непонятно почему и входят две дамы. И я еду с ними почему-то снова на первый этаж, а уже только потом – на свой седьмой. Зубы у меня сжаты так, что вот-вот начнут крошиться.
Бедный пес. Только бы он выжил.
– Ты расскажи по порядку, что случилось.
– Да, собственно, ничего, – я настолько злюсь, что мне даже говорить не хочется. – Что я могу тебе рассказать? Что моя мать, как всегда, с тринадцати моих лет, меня обманывала?
– Обманывала в чем?
– Она знала, что у нее рак, уже больше месяца. А теперь выясняется, что она с Зигмунтом.
– Не понимаю. С тем профессором, с которым у нее отношения?
У меня чуть чайник из руки не падает.
– Так ты знала?!!
– Ну разумеется. Собака при виде него всегда радуется. Они вместе – только живут раздельно. Это же очевидно. Я это поняла сразу – когда мы первый раз были с родителями у твоей матери.
– Интересненько. А я вот вроде не слепой – а ничего не видел!
– Иеремиаш, ну ты что, ты маму ревнуешь, что ли?
Как-то это грубо прозвучало.
– Ни о какой ревности речь не идет. Но почему я узнаю обо всем последним? Ты понимаешь, как я себя чувствую?
– Как? – спрашивает она сладким голосом. – Как дурак, да?
– Хуже!
– Так в чем проблема-то?
– Проблема во вранье! В обмане! В неуважении!
– Значит, ты бы хотел, чтобы мама… что? Пришла к тебе и рассказала, что спит с мужчиной, и попросила благословения?
От мысли, что моя мать может спать с мужчиной, мне снова делается дурно. Нет, Инга не может так думать на самом деле!
Да нет, не спят они друг с другом, не спят!
– Сказать тебе правду, Иеремиаш?
– Правду о моей матери? Ты что-то знаешь?
– Правду о тебе.
– Ну, слушаю, – я сажусь за стол в кухне.
На улице неожиданно начинается дождь, из открытого окна веет свежестью. Капли стучат по карнизу. Я слегка прикрываю окно и смотрю на Ингу.
– Ты и сам это все знаешь. Только не хочешь в это верить, сопротивляешься… защищаешься тем, что не говоришь об этом. Ты не звонишь Алине, ты не…
Да что она снова несет? При чем тут Алина вообще?
– У меня сейчас есть более важные дела, – перебиваю я ее на полуслове.
– Ты сказал, что слушаешь, – так слушай, – Инга наклонилась над столом и помолчала. – Ты до сих пор, как ребенок, думаешь, что если ты чего-то хочешь – то обязательно так и будет. Ты и кино любишь потому, что любишь иллюзию, сказку. А реальнастость ты видеть не хочешь?
– Реальнастость?
– Реальности.
– Реальность.
– Ну да, реальность. Life is life. Жизнь есть жизнь. У тебя нет времени на разговор с Мартой, нет времени на разговор с Алиной, у тебя может не быть времени на разговор с матерью, а ведь она может умереть! На такой, знаешь, настоящий разговор. Чтобы понять друг друга, а не просто обменяться словами. Это может быть последний раз, последний разговор с этим человеком в твоей жизни – ты это понимаешь, don’t you? Но нельзя прятать голову в песок, потому что тогда твоя задница оказывается наверху… Ты сейчас злишься, ты так напуган, потому что твой отец тоже dead!
Вообще-то мой отец в могиле вот уже двадцать лет как лежит и никому не мешает, а она мне про отца талдычит. Какое он-то к этому отношение имеет?
– Ты сердишься. Ты очень сердишься. Как Марта тебя такого выдерживала?
Как, действительно?
– Не беси меня, Инга, – говорю я, жалея, что позвал ее. Это у меня затмение какое-то было. Надо было просто нажраться – и самому во всем разобраться.
– Я за тебя – и поэтому говорю тебе правду. Зачем тебе неправда? Так не делает друг. А я твой друг. И я тебе говорю: перестань злиться, поговори с ней, ты же уже не ребенок!
Я не ребенок? Где-то я уже это слышал…
А может быть, всем женщинам на свете загружают диск с одними и теми же словами в память: ты не ребенок, остановись, делай то-то и то-то? Ты надеваешь короткие штанишки, а снимаешь длинные?
С чего бы моей матери умирать?
– Ты меня не понимаешь, Инга, – говорю я наконец, а дождь все льет и льет, наконец-то, такой был зной, что дышать нечем было. – Речь ведь идет не о том, что я чего-то боюсь…
– А хуже всего то, что ты все отрицаешь… Все боятся потерять родителей. А ты одного уже потерял.
– Потерял? Да я с двенадцати лет один бьюсь со своей матерью, потому что отец счел за лучшее внезапно переселиться в мир иной, – это тоже моя вина, да?!!
Я услышал свои слова – и замолчал.
Инга тоже услышала – и деликатно тронула меня за рукав:
– Твою маму ждет сложная операция. И самое важное сейчас – не ты.
В ожидании Годо
Пес лежал рядом со мной всю ночь и почти не шевелился.
Нужно что-то делать. Нужно позвонить Алине, договориться с ней.
Нужно съездить в Раковец, к той женщине, у которой я монтировал оборудование, она умоляла, чтобы я приехал, потому что она не может работать, она переводчица, как Марта, и у нее перед глазами диалоги, а фильм она посмотреть не может, а без этого как она переведет? А завтра уже сдавать. А на компьютере фильм не запускается.
Мне нужно как-то связаться с Мартой. Но что я ей скажу? Слишком поздно. Я сам себя-то простить не могу – так с чего бы ей падать ко мне в объятия? Хочется съездить к Бартеку и Аське, нужно встретиться с кем-нибудь, нельзя же все время нарезать круги вокруг больной собаки и больницы. Вечером посижу над сценарием. И книжки же надо расставить наконец, я же их разбросал, они валяются теперь везде, только не на полках, но сейчас мне не хочется этим заниматься.
Я сползаю с постели, выношу Геракла на травку, без поводка, он едва стоит на ногах, писнул там, где стоял, и посмотрел на меня умоляюще.
Я выпиваю просроченный кефир с орешками и миндалем, который остался еще со времен Марты, потом вливаю в себя два кофе и отправляюсь с Гераклом в клинику.
Очередная капельница. Посижу с ним, потом оставлю его у Крыси, а сам поеду улаживать свои дела.
Сижу в клинике и жду, когда закончится капельница. Хоть бы он выздоровел. Лежит там, такой несчастный, с иголкой в лапе…
Я сижу в углу с закрытыми глазами, мне не хочется сейчас общаться с людьми, пусть они думают, что я сплю. Всего-то час, я выдержу.
До меня долетает монотонный голос старичка с таксой.
Он был здесь вчера и позавчера. И сегодня он здесь. Он приветствует меня как старого знакомого, его собака лежит в корзинке, которую хозяин прижимает к животу обеими руками, как будто кто-то хочет вырвать у него из рук эту бесценную ношу.
– Вот ведь правительство глупое какое, а жадные до чего! Пихают, пихают себе в горло, а все мало и мало! Я-то уж давно никому не верю. А вы? Вы тут давно сидите?
Мужчина рядом со мной кивает – ему тоже неохота разговаривать.
Я закрываю глаза. Нужно позвонить Алине, договориться с ней о встрече, поговорить. Ведь этого же не может быть – чтобы она сказала, будто я не заинтересован в работе по профессии. Это какая-то ошибка. Я вчера получил сценарий, он великолепен, я могу быть спокоен, фильм должен получиться очень хороший, на следующей неделе надо будет начать размечать сценографию.
– Женщина сюда не сядет, потому что грязно, я говорил им, что надо убирать, но они еще не убрали, им же не горит, они-то сами внутри сидят, у них чисто, только деньги дерут, а ты вот сиди и маринуйся тут. Женщина побрезгует. А ему-то что? Бельмо? Вон та пани пришла с бельмом… Человеку никто не поможет. А что, с бельмом жить нельзя? Дорого это лечить? Я только спрашиваю, я не вмешиваюсь, это вообще не мое дело. Вот так сидишь, сидишь, ждешь неведомо чего, время тратишь, я тут уже полтора часа сижу.
Мать выздоровеет. Не может она со мной так поступить.
Пса надо вылечить.
А потом жить нормальной жизнью. С чистого листа.
– Тут очередь! И каждый говорит, что только спросить, а потом сидишь и сидишь, а они входят – и не спросить только, а все свои дела делают, а ты, дурак, веришь каждому. Вот этот пан спрашивал из-за двери, он не заходил. А этот ждет с утра с самого. Спит? Красиво спит. Они ведь добро-то чувствуют, не то что человек. А тут… найдешь что-нибудь, испугаешься, а потом и последние деньги отдашь, лишь бы вылечить. Ну такая уж жизнь, что поделаешь. Я вам скажу, если у вас болезни нет какой – то еще можно выжить, но если, не дай бог, заболели – о, это, я вам скажу, беда. Не напасешься. Мне вот дочка помогает немного, но с чего ей-то тоже особенно помогать, если у нее трое человек детей-школьников. Вот я и спрашиваю – с чего?
Старичок поворачивается на своем стуле. Нас тут шестеро, а разговаривает только он. С кем он разговаривает? С нами? Сам с собой? Со своей собакой?
Я не ревную свою мать. И никогда не ревновал. Но это мерзко, когда твоя собственная мать делает из тебя дурака. Она что думала – я этому герою-любовнику в горло вцеплюсь, что ли?
– Но их же это не касается. Они вообще хотели бы, чтобы все умерли – о, это прямо мечта у них. Чтобы все пенсионеры так: утром – на пенсию, вечером – на кладбище. Вы садитесь, дамочка, я подвинусь. Ой, беда какая! Ножку сломали? А выглядит, будто сломали. А что это он такой тихий? Когда тихий – нехорошо.
У меня тихонько звонит телефон – и глаза всех присутствующих обращаются на меня.
– Алло? – отзываюсь я так тихо, как только могу. Выходить мне никуда не хочется. После вчерашнего дождя воздух влажный и горячий. Как в бане. В семь утра было двадцать шесть градусов, я вообще не помню такого жаркого лета. А тут по крайней мере почти прохладно.
– Пан Иеремиаш Чакевич? Меня зовут Генрик Аркадовский, и я звоню вам, чтобы сообщить о том, что вы выиграли приз. Вас ожидает памятный подарок. Могу я у вас попросить ваш адрес, мы пришлем вам на него приглашение?
– Приглашение или приз? – уточняю я.
– Приглашение на презентацию одеял, а на этой встрече вас ждет ваш подарок, серебряный…
– Спасибо большое, – говорю я спокойно, – возьмите себе этот подарок.
– Благодарю вас за уделенное мне время. – Мужик отключается.
Вот у кого работа не дай бог. Каждый раз врать, каждый раз пытаться кого-то развести – и выхода нет. И получает он в час наверняка не больше восьми злотых. А палата в больнице стоит тысячу сто пятьдесят. Что же удивляться, что бабки за каждые пять злотых трясутся?
– Сейчас вы? А мне казалось, что сейчас того пана очередь, – старичок устанавливает порядок. – Нет, не вы, я вам говорю! Нет, я уж попрошу. Я тут с десяти сижу. Целый день насмарку теперь. Все спешат, а вы думаете, я здесь для удовольствия сижу? Входите, пани, входите, я же вижу, что ему больно. Я подожду. Мне уже торопиться-то некуда. Ну, в таком переносном смысле. А вы, пан, дождитесь, когда ваша очередь будет.
Если съемки начинаются через месяц, это значит, что с утра до ночи я буду отсутствовать. А мать ведь надо будет возить на химию. Нужно будет попросить кого-нибудь. Нанять. Или отказаться от съемок. Но от съемок нельзя отказываться, только не сейчас!
Надо все это как-нибудь организовать.
Жаль, что я столько денег потратил на Канары.
Кому я хотел сделать назло?
Канары с Мартой были бы совсем другими. Но Марты нет. И не будет.
Если я сейчас откажусь – меня уже больше никто и никуда не позовет. Такой случай бывает раз в жизни. И это очень редкое явление – чтобы актриса могла сама выбирать себе оператора. Это могут себе позволить только настоящие звезды.
Что же мне делать?
– Как ее зовут? – старичок склоняется к большой легавой. Та не обращает на него никакого внимания. – Длинное имя какое. Я-то предпочитаю покороче, оно сподручней как-то, но это, конечно, дело вкуса, о вкусах не спорят. А короткое имя и выговаривать легко, Джек, например.
А может быть, Инга права?
Если бы я не был таким мямлей, то жизнь моя была бы в разы лучше, это точно. Позвоню Алине, может, она прямо сегодня со мной встретится. Набираю ее номер, жду десять гудков, автоответчик не работает. Пишу смску: «Пойдем перекусим вечером? Я хочу с тобой поговорить. И.».
– Вы заходите, я могу подождать. Столько ждал – пять минут еще подожду, что уж.
Старичок цепким взглядом осматривает приемный покой, не упускает из виду никого. Вот сейчас он хватает за руку молодого человека с пластиковым контейнером.
– А у вас тоже собачка?
Молодой человек не отвечает, садится рядом со мной.
– Такое время, кто мог подумать. Раньше-то как-то более по-божески было. Животных хоронили, а теперь чего только не придумают, чтобы с человека лишнюю денежку вытянуть.
Пусть себе болтает, мне лично он не мешает.
Неужели старость всегда выглядит именно так? Он пропустил вперед уже четверых, ему явно вообще некуда спешить. И где еще он мог бы найти столько слушателей? Значит, именно так выглядит одиночество? А моя мать – она доживет до старости? Ей ведь всего пятьдесят восемь. И вот уже двадцать лет она вдова. Она была, следовательно, ненамного старше меня, когда осталась одна. Черт возьми – всего-то на шесть лет старше!
– А как заболеют, так человек мучается, что помочь не может. Мой вот тут, в корзинке. Знаю, что выглядит неважно, потому что болеет он. Ему в феврале семнадцать лет исполнилось. Ну и что, что старый? Я вон тоже не молодой. Врач-то блондинчик сказал, что, если не поправится, – надо будет усыплять. А он не поправился. Может, еще что придумают. Только жалко живое существо мучить-то. Потому что они же так норовят полечить, чтобы у тебя в кошельке ничего не осталось. Ну и вот, мучаешься с этим своим животным и его мучаешь. И что делать – не знаешь. А врач говорит – сами решайте, он и сам не знает, что делать. А я что, Господь Бог или кто? Вы заходите со своей собакой, я еще подожду. Мы можем и подождать. Нам не к спеху, правда, Шарик? Разве же мог я подумать, что так мне с собакой повезет?
Вокруг тишина. А я всегда думал, что в таком месте, где собираются собаки, кошки, хомяки и попугаи, ну, то есть всякие животные, – там всегда драки и вопли. А тут – абсолютная тишина. И только этот несчастный старик все время говорит.
– Видите, пани, как дышит? Только мучается, бедняга. На прошлой неделе капельницы ему ставили. С начала месяца двести злотых уже потратил. А не помогло.
Женщина с маленькой собачкой на руках входит в приемный покой, от двери идет волна жара. Женщина оглядывается, я встаю, уступаю место. Старичок оживляется.
– Если вы торопитесь, так я вас пропущу, вы только спросите, не нужно по-хамски вперед лезть. Нет-нет, я не говорю, что вы хамка, боже упаси, я вообще говорю. Что вообще это правильно было бы. А я посижу, подожду, что уж, могу и посидеть. – Он склоняется к корзинке: – Ну что, маленький, посидим еще чуть-чуть? – Этот его пес еле дышит.
А потом старичок поднимает на меня глаза – они у него очень синие и печальные.
– А можно я выйду еще разок, вы мне место займете, хорошо? Пройдемся немножко. И вернемся. Сразу вернемся. Я его вынесу на улицу, пусть еще посмотрит на мир. Да? Ну, спасибо вам большое. Пани, вы пропустите этого пана, у них же кровь вон течет! Они зашьют, раз-два – и готово, он даже не почувствует, вот увидите! Простите, простите, я скоро вернусь.
Я беру своего Геракла на руки, ветеринар мне улыбается – может, все-таки выздоровеет?
– Я уже ухожу, пусть вон тот пан вам посторожит место, ладно?
Пакую Геракла в розовую сумку, ну и что, что она розовая? А какую матушка должна была купить, черную? Траурную? Понятно же, что собака не моя.
– Я же говорил, будет лучше. Этот пан уже с прошлой недели ходит, – вдруг сообщает старичок, как будто это всем должно быть очень интересно.
И поднимает свою корзинку. Таксик свернулся калачиком в самом углу. Я пропускаю их в дверях вперед.
– Спасибо, спасибо. Хорошо, что лучше-то собаке, как хорошо.
– Да, это очень хорошо. У меня мать болеет, а этот пес – это ее единственная радость и утешение, – объясняю я и вижу в глазах старичка слезы. – Ваш тоже прожил хорошую, долгую жизнь с вами рядом, долгую счастливую жизнь, – говорю я ему, потому что понимаю, что ему предстоит со своим таксиком попрощаться.
– Это да, это точно. А вот теперь мне надо такое решение за него принять… – Старичок вздыхает и отходит.
Такой фильм сделать. Об этом старике и его Шарике – о них двоих. Больше я его здесь не увижу, это точно. Смотрю на сгорбленную фигуру, на огрубевшие, скрюченные пальцы, крепко держащие корзину с собакой.
Он ставит корзину на газон, пес даже не поднимает головы.
И я оставляю их одних, отворачиваюсь и несу Геракла домой. Положу его в ванной – там, по крайней мере, прохладнее.
Жалкие слова
В больницу я приезжаю около пяти. Мы выходим с матерью во двор и садимся, как парочка пенсионеров, на лавочке под каштаном. Внутри ужасно жарко, я просто не понимаю, как там вообще можно находиться. Все палаты нараспашку, и окна и двери, но все равно как в бане. И жарко везде, даже тут, под деревом, тоже нет прохлады, хотя тут и тень. Я мокрый как мышь, потому что у меня в машине, разумеется, сломался кондиционер, который я поставил совсем недавно.