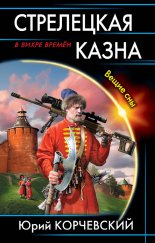Хьюстон, у нас проблема Грохоля Катажина
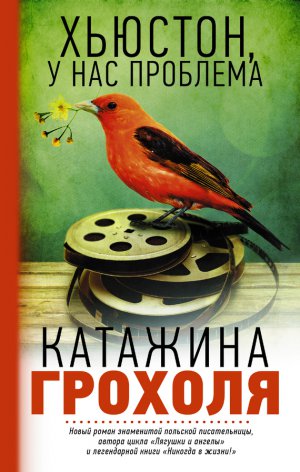
Инга меня толкает локтем. Терпеть не могу, когда меня толкают локтем.
– Oh shit, – спохватывается она. – Иеремиаш, дай мне ключи, я сумку в машине оставила, а там у меня подушка, должна быть подушка – такая, другая, у меня в машине она лежит для йоги, она с крупой, ее под голову хорошо подкладывать.
Матушка смотрит на нее неуверенно, я даю ключи, Инга выходит. Вот ведь зараза, я же знаю, что она специально сумку оставила.
Я спрошу – что мне мешает спросить?
– Мама, а почему ты мне не рассказывала о Зигмунте?
– Я так рада, что ты воспринял это хорошо.
– А тебе не кажется, что я все-таки должен был узнать это от тебя?
– Милый, ну что у тебя, глаз нет? Ведь мы уже много лет встречаемся. Ты видел его у меня неоднократно, на всех праздниках. Я просила, чтобы ты звонил, прежде чем приехать, потому что у меня есть своя жизнь… Не могу же я все время находиться в твоем распоряжении.
Я ей, конечно, в этом не признаюсь, но меня это немножко раздражает.
– Я была уверена, что ты знаешь, что по крайней мере догадываешься… Ты же знаешь, я никогда не выставляла это напоказ, чтобы не задеть твои чувства. Но не притворяйся, что ты не знал.
– Мама, я действительно даже не догадывался! – кричать шепотом довольно трудно, но у меня получается.
– Ты меня всю жизнь воспринимаешь исключительно как свою мать. А я ведь кроме того еще и профессионал, женщина, подруга своих друзей, ну что ты думал – что весь мир крутится только вокруг тебя?
Нет, я так не думал. Никогда я так не думал. К сожалению.
– У меня тоже есть право на жизнь, – она вдруг начинает злиться, а ее слова, которые она говорит, лежа на больничной койке с забинтованной грудью, звучат как-то двусмысленно.
Я не готов к такому повороту. Что это значит – что я испортил ей всю жизнь?! Или наоборот?
– Мама, но ведь ты сама говорила мне приходить в любое время, звала по воскресеньям на обед, я тебе это чертово белье таскал…
Она перебивает меня на полуслове:
– …Чтобы мне приятное сделать? Я же видела, в каком ты был состоянии после расставания с Мартой! Это был мой долг. А пока вы были вместе – я не вмешивалась.
Очень странно так разговаривать с матерью, которая лежит рядом с тобой, беспомощная и слабая, но голос которой звучит сильно и решительно.
– Ты всегда вмешивалась. Марта тоже была плохая. Как и все остальные девушки, которых ты знала.
– Милый, я всегда была на твоей стороне, ты знаешь. Когда вы расстались – мне надо было тебя поддерживать. Не могла же я тебе сказать, что ты идиот и неудачник, раз не смог удержать рядом с собой такую женщину? Ты говорил, что она исчадие ада, – я поддакивала. Должен же был кто-то быть на твоей стороне.
Я что, сплю?
Мать смотрит на меня со своей койки с явной улыбкой. Клянусь, меня это задевает. И мне сейчас как-то совсем не до смеха.
– Баська тоже не была твоей любимицей, – припоминаю я ей.
– Нашел кого сравнивать с Мартой! – матушка слегка фыркает и показывает мне на чашку. Я подаю ей чашку, помогаю ей поднять голову, в чашке соломинка, мать морщится, любое движение причиняет ей боль. Руки у нее лежат неподвижно.
Я никогда не договорюсь со своей матушкой. Никогда. Она всегда все перевернет по-своему.
– Давай оставим это, сынок, я устала. Моя жизнь ведь тоже не была легкой. Эти твои девицы не имеют никакого значения… Не о том речь, совсем не о том. Ты всегда поступаешь импульсивно. Всегда – и до сих пор. А у меня и правда нет сил. Я уже просила у тебя прощения, может быть, я и правда совершала ошибки, но время ведь не повернешь вспять. У нас есть только сегодня. И неизвестно, что со мной будет дальше. А жизнь я прожила хорошую.
Прожила?
– Мама… – перебиваю я ее, но она не позволяет мне закончить.
– Открой косметичку и возьми ринграф. Я знаю, что ты его там оставил… Я знаю, что ты боишься, но на все Божья воля. Возьми его – он твой. Тебе больше нужна защита Господа.
– Больше, чем тебе? – я беру в руки Пресвятую Деву. На фоне орла.
– Обо мне заботишься ты. Не бойся, сынок, не переживай заранее. Мы как-нибудь с тобой выплывем. Когда начинаются съемки?
Я сжимаю ринграф в ладони, он такой привычный, холодный, мой… Мне нужно за что-то держаться.
– Мариан? – голос матери вдруг начинает звенеть, как колокольчик.
Я поднимаю голову и вижу в дверях своего крестного отца. Лицо у него бледное и вытянутое – он не притворяется, что не волнуется. Он делает шаг в сторону постели моей матери и останавливается в нерешительности. Плечи у него падают, мать протягивает руки ему навстречу. Он делает еще шаг – и падает на колени на серый пол. Я встаю со стула.
– Ты приехал? Невероятно! Я бы никогда не собралась… – я вижу, как матушка гладит своего брата по лысой голове, а его плечи вздрагивают от сдерживаемых рыданий.
Я стою около них и боюсь пошевелиться.
Дядюшка поднимается с колен, вытирает тыльной стороной ладони глаза и только тогда смотрит на меня и кивает. Я подхожу к нему, он крепко обнимает меня, как когда-то в детстве. И я снова чувствую, как у меня ком встает в горле.
Хлопнув меня по плечу, он сморкается.
– Привет, Иеремиаш…
А до меня вдруг доходит, что я ведь даже не подумал ему позвонить, даже не спросил у матери, сообщила ли она ему, что мне даже в голову не пришло, что, кроме меня, у матери есть еще брат, который, правда, уже больше трех лет обитает в Лондоне, но ведь от этого он не перестал быть ее братом.
– Нам теперь надо вместе держаться, – заявляет Мариан решительно. – Мы ей не позволим никуда от нас уйти, правда?
Я киваю.
– Зигмунт тебе даст ключи, – улыбается матушка. – Милый, неужели ты специально приехал?
– Сразу, как только он мне позвонил, заказал билет, – рассказывает мой дядюшка, мой крестный отец, благодаря которому меня зовут так, как зовут. – Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо.
Ненавижу это выражение. Это же самое лживое утверждение на свете. Никогда все не бывает хорошо.
Никогда.
Может быть, что-то, может быть – когда-то, может быть, даже что-то очень важное – но не все.
– Иди, милый. Мариан со мной посидит, – матушка отсылает меня взмахом руки. Я наклоняюсь и целую ее в щеку.
И тут нарисовывается Инга, которая в руках держит постельное белье и подушку.
– Вот! – кричит она триумфально. – Достала!
– Это мой дядя, – представляю я ей Мариана.
– Вы должны мне помочь, – она кладет белье на стул и наклоняется к матери. – Иеремиаш, ты подними маму осторожно, а я вот тут подвину, да, вот так, и сразу новое, вот туда подсунь, ага, очень хорошо, – командует Инга, а я держу свою мать в объятиях, первый раз за много лет, а может быть – вообще первый раз в жизни, она кажется мне хрупкой и маленькой. А потом я очень осторожно кладу ее обратно на постель.
Инга поднимает ей ноги, ловко стягивает пододеяльник, быстренько надевает новый, вынимает из-под спины подушку, мать морщится от боли, хотя Инга все делает действительно очень осторожно. И через минуту мать уже лежит в чистой постели.
– Идите, идите, спасибо, дети, – матушка гладит Ингу по лицу, я наклоняюсь к ней и целую ее в лоб. Лоб у нее влажный.
Мать прижимает меня к себе.
– Спасибо, милый. Мариан останется со мной, а ты иди и занимайся своими делами. Делай все как положено, ладно? Геракл здоров?
– Ты его не узнаешь, – обещаю я ей и добавляю: – Отдыхай.
– Покойтесь с миром, – говорит Инга.
Мы с Марианом оба замираем на месте, даже пани, которая лежит у окна и притворяется, что вяжет на спицах и не замечает нас, невольно останавливается, а мать начинает хохотать.
– Ну нет, еще подожду, – машет она нам здоровой рукой на прощание.
Я выпихиваю Ингу за дверь.
– А что я такого сказала?!
– «Покойтесь с миром»! Так говорят на похоронах. И в костеле.
– А как надо было сказать? Покойся в палате? Что за язык, мамочки, это же невозможно… Ты же сам говорил…
Да какая разница, что я там говорил. У меня больше нет сил разговаривать с женщинами. Я прячу ринграф в задний карман штанов и отвожу Ингу домой.
Олений фарш
Как же было бы хорошо, если бы рядом была Марта.
Инга, конечно, потрясающая, она мыслит как женщина – мне бы в голову не пришло ни притащить подушку, набитую гречкой, ни поменять постельное белье с больничного на свое. Но я все равно тоскую сейчас по Марте. Как никогда.
Родители Марты погибли в автомобильной катастрофе, бабушка, с которой мне посчастливилось познакомиться, воспитывала ее одна. Она умерла больше года назад.
Марта тогда вернулась домой и ничего не говорила, молчала как мертвая, на ней лица не было. Я ей сделал ванну, посадил в воду, она уткнулась лицом в коленки и сидела так, неподвижная, как статуя.
Я тоже залез в ванну, сел позади Марты, прижал ее к своему животу – и только тогда она начала плакать. Плечи у нее сотрясались, я видел только ее затылок, она вся дрожала, а у меня сердце рвалось на части.
Я гладил ее по волосам и только приговаривал: «Марта… Марта… я с тобой». И она все больше обмякала, все сильнее прижималась к моей груди и все сильнее плакала.
Я вытер ее, как ребенка, и отнес в постель.
Она отвернулась к стене, я лег рядом, снова гладил ее по волосам, я просто не знал, что надо делать со страдающими женщинами, я не мог ей ничем помочь – и это было ужаснее всего.
А потом я услышал, как она тихонечко произнесла: «Спасибо тебе, что ты есть».
Катастрофа, в которой погибли родители Марты, случилась где-то в Германии и была отвратительно бессмысленной. Была пробка, они стояли, а цистерну с бензином почему-то занесло, она на них обрушилась всем своим весом – там нечего было собирать, от них мокрое место осталось, погибли на месте. Тогда на автостраде образовалась пробка на несколько сотен километров – это даже у нас в новостях показывали.
Бабушка была для Марты всем. И никогда Марта не упрекала Господа и не жаловалась на то, что ей выпала такая горькая судьба, наоборот – всегда говорила, что счастлива от того, какая ей досталась замечательная бабушка.
Перед похоронами я разговаривал с ксендзом, который должен был служить мессу. Я упросил его, чтобы он вместо погребальной музыки разрешил во время службы включить музыку из фильма «Смешная девчонка», – бабушка обожала Барбару Стрейзанд и этот фильм – один из немногих американских фильмов, которыми она восхищалась.
Ксендз удивился, но разрешил, и я был горд собой, как павлин. И похороны, благодаря этой музыке, получились очень красивые.
Тогда я знал, что делать. И сейчас надо только вспомнить.
Я бы дал себя на куски разрезать – лишь бы она не страдала.
Я не совсем еще пропащий.
Нет, наверно.
Иначе я не мог бы так хорошо снимать.
Я стою в магазине перед холодильником с замороженными смесями и глазам своим не верю.
Смотрю на объявления, написанные большими печатными буквами. На одном – простое и незатейливое: «Зовите из колбасного». А второе торчит из какой-то миски: «Фарш олений».
Может быть, я должен позвать из колбасного: «Ветчина! Ветчина!» – и она сама себя порежет?
Я нажимаю на звоночек, откуда-то из-за прилавка появляется толстая женщина.
– Слушаю, – говорит она и так тепло и искренне улыбается, что просто удивительно: я бы так не улыбался, если бы работал в таком месте.
– А этот… олений фарш вкусный? – спрашиваю я невинно, как будто ничего в этом особенного нет.
– Вы знаете, я такие изыски не особенно уважаю, – пожимает плечами продавщица, – взяли бы вы лучше свининки или еще чего.
Я беру «еще чего» – куриные грудки для Геракла и кровяную колбасу для себя. У нее есть неоспоримое достоинство – она в холодильнике не портится несколько дней.
Жары как не бывало, на улице снова восемнадцать градусов, для матери это лучше – вообще лето не самое лучшее время для операций, потому что когда такая жара – недолго и осложнение какое-нибудь подцепить.
Сегодня утром я принял мужское решение. Я еду на телевидение и там буду караулить Алину. Она так и не ответила ни на одну из моих смсок – может быть, у меня получится поймать ее на рабочем месте.
Мне без проблем удается проникнуть внутрь, потому что администратор меня узнает сразу, и я бегу наверх, к секретарше.
Пани Алина на месте, но сейчас она на еженедельном совещании редакционной коллегии. Вместе с другими власть имущими телевидения. Это может и весь день продлиться – неизвестно, когда они закончат.
Ничего, я подожду.
Договариваюсь с секретаршей, что она мне даст знать, когда Алина выйдет.
Варшава опустела – и на телевидении тоже все повымерло. Какое совещание, когда по телевизору сплошные повторы идут?
В коридоре появляется высоченный мужчина, рядом с ним семенит маленькая женщина на огромных каблуках, она буквально наседает на него, до меня долетают обрывки ее нервной, быстрой речи:
– Пан Владислав, это прекрасная идея, чтобы сегодня хлопнуть… можно в осеннюю сетку вставить. Деньги… постпродакшен… лучше на английском… но я не знаю… вам бы с Грачиком поговорить… Но на самом деле…
Они удаляются.
Слов я уже не разбираю, слышу только какой-то клекот и щебетание.
Жду.
В кафетерии заказываю себе кофе и бутерброды, телевизор настроен на шестой канал. Звука нет, я смотрю на то, как там, в телевизоре, люди шевелят губами и при этом ничего не слышно.
Рядом со мной мужчина довольно громко разговаривает по телефону:
– Можно попробовать, продюсеры дадут деньги, рискнем.
Наконец звонит мой мобильник.
– Пани Конярская выходит через выход W.
Я иду по коридору, ведущему к выходу W.
Алину я вижу издалека. Она стройная, эффектная, великолепная прическа – прямо-таки икона стиля, лицо современного телевидения. Идет в сопровождении нескольких серых, непримечательных, одетых в костюмы мужчин. Одного я узнаю – это Круцкий. Надо же – а я думал, его давно убрали.
Алина выглядит в этом окружении как яркая, цветная птица.
Она сменила прическу, волосы у нее теперь светлее, ей, наверно, это идет, но я с трудом ее узнаю. Туфли на высоком каблуке, которых она никогда не носила, изменили ее походку, шаги у нее стали размашистые и решительные – в каждом движении видна безграничная уверенность в себе.
А я ведь видел ее недавно, в мае – как же я ничего этого не заметил?
Она замечает меня, останавливается, обменивается парой слов со своими спутниками, отдает ближайшему из них какие-то бумаги и идет ко мне, широко улыбаясь.
– Иеремиаш, а ты что здесь делаешь?!!
– Тебя жду.
– Ну, понимаешь, я сейчас не очень могу…
– Алина, нам нужно поговорить.
– Что-нибудь случилось?
– Да.
– Тогда знаешь что? Мне тут понадобится еще минут сорок пять, – она смотрит на часы, очень дорогие. – Ты иди в «Золотистый» и жди меня там, поедим вместе, ладно? Может быть, удастся пораньше освободиться, ладно?
– Я буду ждать.
И больше часа я жду, сидя со стаканом минеральной воды.
Но мне надо, очень надо прояснить парочку вопросов. А в жизни иногда бывает так, что надо подождать.
Алина вбегает в кафе, склоняется ко мне, целует меня в щеку.
– Прости, так трудно было вырваться, страшная запарка. Ты уже заказал?
Она улыбается мне – и я впервые понимаю, что она похожа на птицу Aesplo milca. Как же я раньше мог этого не замечать?!!
– Нет, не успел еще.
– Я предлагаю мидии, они здесь вкусные очень. Хотя… погоди-ка… сегодня какой день? Среда? Нет, мидии надо есть по четвергам, в четверг они как раз получают новую партию. А вот кролик в горчичном соусе… может, кролика? Как мы давно с тобой не виделись! Я так рада, что мы можем вместе пообедать! – она радостно возбуждена. – А ты знаешь, что мы с тобой никогда не были вдвоем в кафе? Ну разве это не забавно? Пан Стасик, мне кролика, а моему другу…
– Минеральной воды, – говорю я.
– Ну не дури. Пан Стасик, два кролика и вина, ты на машине? – она не ждет моего ответа. – Бокал красного вина, какое-нибудь французское, только чтобы хорошее было… Ну, говори, ты соскучился?
– Алина, – произношу я. – Наверно, ты должна мне кое-что объяснить.
Ее лицо вдруг гаснет, как будто кто-то выключил у нее внутри лампочку.
– Объяснить что? Я ведь тебе давным-давно все объяснила, что могла. А ведь я собиралась тебе как раз звонить, потому что у меня для тебя замечательная новость! – она понижает голос, и я вдруг замечаю, что все это ее радостное возбуждение, вся энергичность, которую я принимал за оживление и спонтанность, на самом деле ненатуральные.
Она ведет себя как гальванизированная лягушка.
Я молчу.
– Тебе не интересно? Ах ты! Да ты будешь прыгать до потолка, когда услышишь! – Если бы я не знал того, что знаю, я бы поверил в ее радость. А сейчас я вижу, что это игра.
– У тебя для меня есть работа?
– Слушай, это все не точно, но… режиссер ищет… я подсунула ему твою кандидатуру… он почти согласен, это вопрос времени… Конечно, это было нелегко… – Снова появляется официант, Алина награждает его самой своей ослепительной улыбкой. – Спасибо, пан Стась, – подносит к губам бокал с вином и делает маленький глоток. – М-м-м… хорошее, да… может, чуть кисловатое… хотя нет, хорошее, спасибо.
– В каком фильме?
– В новом фильме с Агатой Кулебяк в главной роли!
И смотрит на меня, ожидая моей реакции.
Я молчу. Не реагирую сразу.
Потом говорю:
– Алина, это хорошо. Но я тоже хочу поделиться с тобой хорошей новостью: я в этом фильме буду главным оператором.
– А, так они тебе уже позвонили?! Ну так чудесно, давай выпьем за это!
Не хочу больше притворяться, что это разговор двух друзей.
– Алина, скажи… почему ты это сделала? – спрашиваю я очень серьезно и очень спокойно. Как только могу серьезно и спокойно.
Не хочу я играть в ее игры.
Она смотрит на меня некоторое время, а потом лицо ее перекашивается некрасивой гримасой. Она понимает меня с полуслова. Мы ведь с ней столько лет дружим. Она знает, о чем я спрашиваю.
Мне интересно, что она скажет в свое оправдание, как объяснит, что обманывала всех, кто хотел предложить мне работу, – говорила, что я занят или что я вообще не работаю больше по профессии.
– Почему? Ты еще спрашиваешь – почему? А почему нет? – в ее голосе звенит вызов, словно у ребенка, которого поймали на мелкой пакости.
– Алина, но мы ведь столько лет дружили…
– Мы дружили?!! Это была дружба?!! А ты никогда не думал, что просто использовал меня все эти годы, – так же, как использовал тогда, на съемках «Тисков»? Ты эгоист, я бежала со всех ног по твоему первому зову, я всегда действовала в твоих интересах – а ты был глух и слеп! Алина – друг… Алина – мой приятель… даже не подруга! Алина, которой можно доверить все, которая всегда поймет и всегда поможет!
Сейчас она уже совсем не красивая, она наклоняется над столиком в мою сторону с отвратительной гримасой на лице.
– Больно тебе было от того фото? От такой невинной шутки! Дружеской! Как бы между нами, мужиками! А что твой романчик закончился – так меня-то в чем винить? И это даже не моя была идея – я это в сценарии вычитала! Ну и что?
Я не мог выдавить из себя ни звука. И, кажется, первый раз в жизни был готов упасть в обморок.
Нужно прийти в себя. Нужно прийти в себя.
– А сказать тебе, Иеремиаш, какие это были отношения? Да никакие! Марта… – Никогда не думал, что в одном слове может уместиться столько отвращения и ненависти. – Марта! Девица ниоткуда! И отправилась она в отставку. А ведь мы были на правильном пути… когда ты расстался с этой дурой Баськой, я столько тепла к тебе проявила… Я ведь была с тобой все время…
Я смотрю на нее и вижу, как лицо ее изменяется, как злоба кривит ее красивые губы, а глаза становятся узкими и холодными.
– Да кто такая эта Марта вообще?! Что она собой представляет? Как она тебе помогла? А я бы для тебя все сделала, все! Все, понимаешь? А ты не хотел этого видеть… и относился ко мне как к удобной сестре милосердия. Ты что думаешь, я мечтала о том, чтобы выбирать эти дурацкие подарки для твоей матери?!! Но Иеремиаш не знает, что делать, – значит, Алинка ему поможет! Иеремиаш пьяный звонит – Алина слушает. И теперь у тебя еще ко мне претензии?!!
Я молчу.
Я сижу словно мешком стукнутый.
Это Алина прислала фото.
До меня только сейчас это дошло.
Это она разрушила мою жизнь.
Она сводила на нет все мои усилия и попытки вернуться в профессию.
Алина. Моя подруга Алина.
Как такое может быть?
– Ты разрушила мою жизнь, – говорю я.
– А ты? Что ты сделал с моей жизнью?!! Ты посмотри на меня! Ведь ты же был моим первым мужчиной! Я же была… – Голос у нее прерывается, и я вижу, как из-под этой кошмарной маски появляется та, прежняя Алина.
Молодая, полная надежд, радостная, всему удивляющаяся. Я вижу, как она вбегает на площадку, чтобы поправить макияж, невинная, возбужденная атмосферой съемок, полная страсти и энтузиазма…
Я вижу ее восхищение, восторг, когда все хлопали после снятой сцены, вспоминаю, как она плакала, когда мы снимали сцену расставания героев…
Вспоминаю «экватор» и то наше злосчастное свидание… но ведь она мне по-настоящему нравилась! И это ее «не имеет значения, я все понимаю…», и мое облегчение, что мы можем остаться друзьями и общаться, несмотря на то, что переспали.
– Но ты же сама сказала, что это ничего не значит… один раз… – говорю я тихо, потому что и правда ничего не понимаю.
– Да ты только послушай себя! – она краснеет от злости и смотрит на меня с настоящей ненавистью. – Один раз! Да это было единственное, что я могла сказать, чтобы остаться рядом с тобой! Ты ведь даже ездил со мной к моим родителям!
Я вспоминаю эту поездку на моем старом «Форде», мы ехали через всю Польшу, часов, наверно, десять, остановились в «ТИР де Люкс», там за четыре пятьдесят съели потрясающую рульку, потом искали мастерскую, потому что пробили колесо, Алина спала на заднем сиденье…
Ее родители?
Костистая, сухая, мелкая женщина, которая все время суетилась, пытаясь нас накормить, а на столе стояли пять видов колбас, сало, изумительные пироги, специально испеченные по случаю нашего приезда и густо посыпанные шкварками, мы были не голодны, а она жарила лук и не присела ни на минуту.
Отец Алины откупорил пол-литра, пил со мной, хотя я и не хотел пить, но отказаться было неудобно.
Потом он водил меня по усадьбе, показывал хозяйство: как раз отелилась корова, маленький теленок качался на тоненьких ножках, а он хлопал корову по мощному заду: молодец, молодец, Красуля. В хлеву было жарко и влажно, Алина была слегка пьяна, а я был в полнейшем восторге, думал, что такое только в кино бывает, сценография, как из «Холопов».
Ее отец покрикивал, командовал и матерью, и дочерью, но все-таки мне все это ужасно понравилось. Этакий Борына.
Меня вывели в поля, солнце садилось, кукуруза дозревала, высокая и буйная.
– Это мое, – говорил он, обводя поле рукой. – Это наследство. Хотели взять в аренду – но разве не свое будешь беречь? Картошка у меня вот такая! – он сжимал обе руки в замок. – Мать, а ну иди сюда!
И мать Алины бежала, вытирая руки о фартук.
– А ну покажи Иеремиашу свинарник! К праздникам будем забивать. Ветчина будет отличная, а кровянку возьмете в город… Вы-то артист, это понятно, – в голосе его звучало что-то вроде снисходительности, – но Алинка-то выучится, и у ней все будет хорошо. Это все для нее – образование-то недешево обходится. И вы бы тоже нашли себе какую-нибудь настоящую работу. Дочка-то моя будет директором, она учится как следует, у нее будущее…
Алина делала мне знаки молчать, но я и без этого понимал, что нужно молчать и кивать. Она, конечно, училась как следует, но целыми днями вертелась около киностудии, очень любила кино. И хорошо знала, кем будет.
И свою мечту она исполнила.
– Ну да, ездили, но ведь…
– А ты думал, это так, ерунда? Что ты просто насладишься фольклором – и все? А ведь это не фольклор – это моя жизнь, Иеремиаш! У отца тяжелая рука – это мы обе с матерью на своей шкуре испытали. Я тебя впустила в свою жизнь, я думала, что ты что-нибудь поймешь, а ты… ты решил, что это такая познавательная краеведческая экскурсия!
– А как я должен был это воспринимать? Ты же просила меня отвезти телевизор, не помнишь?
Я вообще-то не то хотел сказать. Я вдруг понял, что она не может иначе. И никогда не могла. И поэтому она там, где есть, и достигла того, чего хотела.
– Да это же был предлог, неужели ты не понял?!! Ведь ты же вроде не похож на идиота. Люди на селе воспринимают жизнь очень серьезно. Мать мне все время говорила, что терпением я могу добиться своего. И я ей поверила!
– Своего?
– Никто не подходит тебе лучше, чем я, – голос у нее изменился. – А ты был для меня всем. Я помню, как ты меня обнял после съемок, как мы стояли на площадке и сколько у тебя в глазах было радости…
И я это помню. Хотя это было тысячу лет назад. И озеро помню, и деревянную, покосившуюся площадку. После последнего хлопка всех всегда охватывает эйфория. И мы все скакали, прыгали, обнимались и благодарили друг друга, извинялись за все, как обычно, – так бывает всегда, когда заканчиваются съемки.
А Алина восприняла это как что-то особенное? Иначе? Мы поэтому и оказались в постели?
– На меня никто никогда так не смотрел. Я знала, что у нас общие планы, общие интересы, что это будет совсем другая жизнь, а не только работа и работа, и крики, и подгоняния… – теперь она жаловалась, как маленький ребенок.