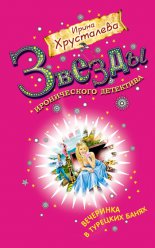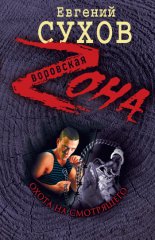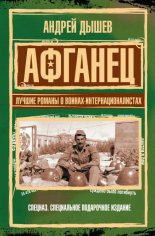Клинок Минотавра Лесина Екатерина
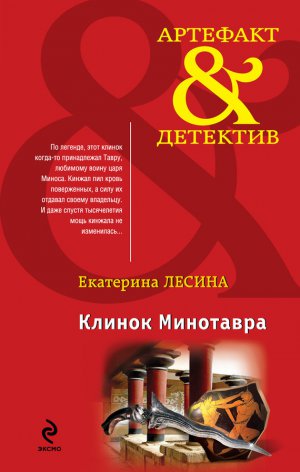
Читать бесплатно другие книги:
Щедрость и благородство – хорошие качества, но способность превращать воду в горючее ценится куда вы...
Ника никогда не знала, что в следующий раз выкинет ее экстравагантная маман. Выйдя замуж за пожилого...
Варяг мертв. Коррумпированный ментовский генерал отправил хранителя российского общака на зону, отку...
Кто такие «афганцы»? Пушечное мясо, офицеры и солдаты, брошенные из застоявшегося полусонного мира в...
Американская «Крисчен сайенс монитор» назвала его одним из лучших авторов современности в жанре поли...
…Исчез сын крупного бизнесмена. Исчез бесследно, словно и не было его на свете. Исчез, хотя и отправ...