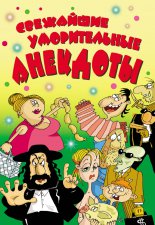Автохтоны Галина Мария
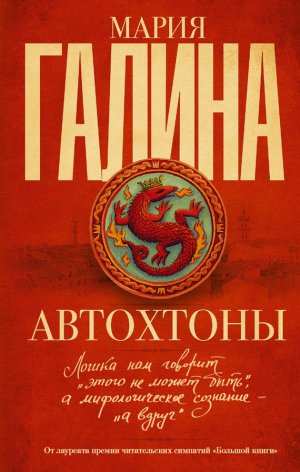
– Конечно! – сказал он. – Ни в коем случае нельзя отчаиваться. Эксельсиор! Бороться и искать, найти и не сдаваться. Главное, помните, серебро и осина, серебро и осина. Не провожайте меня, я сам пойду.
Руки в карманах, он брел по Банковской, потом по Обсерваторной, потом по Сиреневой. Клуб пара вырвался изо рта и уплыл в темноту, словно бы он выдохнул свою печальную полупрозрачную душу. Красноглазый гигант высился над крышами, макушка тонула в тумане. Как же он испугался в тот зимний вечер! Утоптанная снежная тропинка была исчерчена синими и розовато-желтыми полосами, фонари сияли ярко, не то что теперь, и он ехал на санках, закутанный, неуклюжий в плотном своем коконе, и мороз щипал за нос и щеки, и отец бежал впереди, таща веселые санки, и он видел отцовскую черную спину и мелькающие вспышки света в сугробах, и вдруг фонари кончились, и снег погас, и его сильно тряхнуло на льдистом ухабе, и он, задрав голову на туго обмотанной шарфом негнущейся шее, увидел страшное черное небо, и огромные колючие звезды, и ниже, над черными вырезными деревьями с толстыми снежными обводами, два страшных неподвижных красных глаза. Кто-то очень большой смотрел на него сверху, и от ужаса и беспомощности он заплакал, он не мог ничего выговорить и только показывал рукой в мокрой колючей варежке на резинке – там, там! И отец остановил свой бег, и вернулся, и сел на корточки, и обнял его, плачущего. Ну что ты, что ты! Это же просто телебашня. Телевышка! Ты же любишь смотреть телевизор, правда? И он перестал плакать и повторил, еще всхлипывая и судорожно втягивая воздух, – телевышня? Да, да, рассмеялся папа, вот именно, телевышня, эти огоньки загораются на ней вечером и горят всю ночь, чтобы самолеты видели, куда лететь. Чтобы самолетам не было страшно, чтобы нам не было страшно. Когда горят огоньки, ведь не так страшно, правда? И он вытер мокрой варежкой мокрый нос и кивнул.
Он брел мимо рюмочной, где молчаливые мужчины за пластиковыми столиками сурово ели пельмени, мимо окна, в котором причесывалась девушка в маленьком черном платье, мимо темного зева подворотни, мимо «Синей бутылки» и ресторации Юзефа, и улицы были пусты, и пани Агата, наверное, уже спала в своей узкой постели, и собачка спала у нее в ногах, и лапки подергивались во сне…
За спиной слышался цокот копыт. Все ближе, ближе. Из тумана выплыла белая лошадь, плюмажик над ушами устало покачивается, сонный возница в фантазийном камзоле свесил голову на грудь.
– Не подвезете?
Лошадь дернула храпом, плюмажик закачался бойчее, и возница вздрогнул и проснулся.
– Смотря куда, – флегматично сказал возница.
Он назвал улицу, и возница так же флегматично кивнул.
Сиденье было плюшевым, истертым, в свете проплывающего мимо фонаря оно отливало апельсином, наверное, когда-то было красным, но вылиняло… У возницы из ушей тянулись проводочки плеера.
Что сейчас делает Урия? Смотрит на своих маленьких футболистов? Обнимает Марину? Где сейчас вольные райдеры? Какой рассекают мрак? Все они, все бросили его, и Урия, и Вейнбаум, и Мардук с Упырем, и он остался один, беспомощный, спутанный золотистыми нитями чужого вымысла.
От лошади пахло навозом и прелой соломой и конским потом, а от возницы перегаром и человеческим потом и жвачкой «Орбит», и когда он спрыгнул с подножки, он услышал тихую музыку, ворочающуюся в коробочке плеера… Возница слушал «Волшебную флейту».
Веронички не было. За конторкой сонный юноша прихлебывал кофе из огромной голубой кружки с нарисованным на боку опухшим зайцем.
– Доплачивать будете? – спросил сонный юноша, не поднимая головы. – У вас срок кончается.
– Нет, я завтра уезжаю.
– Жаль, – неуверенно сказал юноша. Он читал «Социологию политики» Бурдье.
– Да нет, – сказал он, – не жаль. У вас поесть нечего?
– Контики только.
– Что?
– Ну, контики. Печенье такое. Круглое.
Юноша рассеянно бросил на конторку початую пачку. Он взял печенюшку, потом подумал и взял всю пачку. Почему контики? От «Кон-Тики», что ли?
– Спасибо. Красивая чашка. Эта, голубая.
Корш сошла с ума, потому что жила одновременно в разных временах. Я бы тоже свихнулся.
– А по-моему, она зеленая, – возразил юноша. – И заяц этот… мне не нравится, как он на меня смотрит.
* * *
Надо будет завтра купить майку и трусы. И носки. Надо было купить носки еще утром, о чем он вообще думал? Позвонить, что ли, Воробкевичу, спросить, как все прошло? Да нет, поздно уже.
Синенькие тома Гайдара жались друг к другу, словно бы в испуге. Раньше они, вроде бы, стояли ровней. Им тоже неуютно, подумал он. Книги, которые никто никогда не будет читать.
А почему она сердилась? Ведь они не разбивали чашку. Потому что взрослые тоже бывают не правы. Иногда они сердятся, потому что устали на работе или потому, что на них накричал начальник, а они не могут на него накричать в ответ. А иногда потому, что на самом деле должны сердиться на себя. Поэтому они обиделись и ушли? Да, поэтому они обиделись и ушли. А почему они вернулись? Потому, что на самом деле они все друг друга очень любили, а когда любишь, надо уметь прощать даже горькую обиду и несправедливость. Да, они вернулись и принесли котенка. А потом что было? А потом котенок рос и однажды, когда играл, разбил еще одну чашку, но никто на него не сердился, все только засмеялись. У этой истории хороший конец, сказал он, и отец подтвердил, что да, у этой истории хороший конец.
Ты тогда соврал мне. У этой истории плохой конец. Полярного летчика убили на войне. Папу Светланы убили на войне. Папу Маруси, старого большевика, посадили как врага народа, а потом расстреляли, Марусю посадили как дочку врага народа, и она умерла на лесоповале, а Светлана… наверное, умерла в детдоме, в эвакуации, от какой-то несерьезной болезни вроде дизентерии, но она была уже истощена, потому что завхоз детдома вместе с поварихой сбывали продукты налево. А вот что стало с котенком… С котятами обычно все тоже бывает очень грустно.
Он протянул руку и взял с полки сначала одну книгу, потом другую. Он не помнил, в каком томе «Голубая чашка». Ага, вот. «Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу».
Они были очень молоды, а тут еще полярный летчик…
Исчерканный листок бумаги выпал из синенького томика и плавно спланировал на пол. Он поднял его. Вырван из блокнота. Аккуратно. Торопливый почерк. Почерк книжного человека.
Заяц, не успеваю письмо, я знаю, ты когда-нибудь обязательно приедешь, это очень важно, мы станем другие, это все для тебя… Заяц, еле успел письмо. Не верь этому человеку. Заяц, когда ты получишь это письмо… очень важно и совсем не то… Я слышал музыку сфер… Это Грааль, и я…
Привычка аккуратно расставлять знаки препинания остается с человеком, когда его покидает все остальное.
Он осторожно разжал зубы. Челюстные мышцы болели. В окне светало.
– Вы уходите? – сонный юноша был совсем сонный. – А когда вернетесь?
– Не знаю, – сказал он. – Наверное, никогда.
Со слежавшихся плотных небес опять сыпался снег, тихий и умиротворяющий, предутренний город был как умолкшая музыкальная шкатулка. Пап, а пап, что это за вещица? Это музыкальная шкатулка. Это что, такая раньше музыка была? Дааа. Давно была? Даааа. Папа, а какой тогда был папа? Папа? Папа был такой! Папа, а какой тогда был мальчик? Мальчик? Мальчик, мальчик был вот такой…
Тихий снег и тихий город и присыпанная снегом брусчатка. До чего же это хорошо вот так идти одному, ты сам себе дом, ты всех носишь с собой, под этой теплой кожаной оболочкой, всех твоих близких, все голоса, все лица, все книги, все чашки… Воробкевич это понял раньше, Воробкевич молодец, Воробкевич никогда не будет одинок.
Вдалеке протрусила белая лошадь, цокот копыт, смягченный снегом, катился по тихим улочкам…
Но теперь там что-то сломалось что сломалось там какой-то секрет что за секрет сам разберись попробуй ты уж не маленький ты просто лишняя деталь тебя и выбросить не жаль…
Театр был как шкатулка в шкатулке, китайцы любят такие штуки, шары, бесконечное число резных хрупких шаров, заключенных друг в друга. Одинокая лампочка под козырьком парадного подъезда светилась уютным желтым светом, в конусе света опадала и вздувалась снежная сетка.
Он обогнул здание, медленно, засунув руки в карманы, все глубже погружаясь в тихий теплый снежный сон, когда раз за разом запускаешь одну и ту же мелодию, но подкручиваешь невидимый рычажок так, чтобы она звучала все мягче, все нежнее, все минорнее…
Звонок у служебного хода был утоплен в гнездо, наверное, на него слишком часто жали. Ему пришлось сильно давить красным холодным пальцем, и звонок был тоже холодный и красный… Смешно. Он стоял и слушал шарканье шагов по паркету, потом тихий металлический звук отодвигаемых засовов.
– Я могу пройти?
– Можешь. – Темный силуэт чуть покачивался на фоне освещенной каптерки. – Ноги вытри.
Он вытер ноги.
Старый электрочайник с торчащим из него чиненным проводом, и газета на столе, вся в сморщенных кольцах от мокрого подстаканника, и койка, укрытая старым фланелевым одеялом. Плюс швабра с распластавшейся на полу, точно битая летучая мышь, мокрой тряпкой. Еще тут был старый электрический обогреватель, с открытой спиралью, убранной в сетчатый короб. Их вообще по технике безопасности можно?
– Вон туда можешь сесть.
Он сел на продавленный стул, предварительно придвинув его ближе к обогревателю, потому что у него замерзли ноги.
– Вертиго, – сказал он. – «Смерть Петрония». Загадочная история, верно?
Его собеседник неопределенно хмыкнул.
– У меня есть одна версия. Могу изложить, если интересно.
– Валяй.
Спираль электрообогревателя тихонько зудела, у него зачесалась шея.
– Очень, как бы это сказать, нравоучительная. Вертиго был бездарен. Он так прекрасно все устроил, с этой оперой, с этой расстановкой фигурантов, с этим действом, и сам же все погубил, потому что сочиненное им либретто плохо повлияло на тонкие вибрации. Все адепты новой жизни как правило бездарны, иначе зачем им желать этой новой жизни? А талант такая штука, если его нет, никакие гармонии не помогут. И он продолжал что-то там пописывать, и продавался то одним, то другим, потому что люди – это всего лишь инструмент, какая разница… Но, как все тираны и графоманы, он жаждал любви и признания, вот в чем беда. И узнав, что кто-то там всерьез занимается его творчеством, а они все любят говорить о себе – мое творчество, он не выдерживает и отправляет рукопись по почте, и списывается с этим бедным книжным червем, и вызывает его к себе, и открывает ему свою истерзанную душу… Ну, а потом спохватывается, конечно. И убивает беднягу, чтобы окончательно затереть следы. Неплохая версия, верно?
– Может быть.
– Только она, конечно, полное фуфло. А кто на самом деле прислал рукопись?
– Дочка Корш. Сама Корш была уже глубокой старухой с эротической манией, ей казалось, все в нее влюблены. Но архив сохранила. И дочку воспитала в почтительности к папеньке. Так что дочка, уже сама старушка, перепечатала рукопись и держала ее под рукой на случай, если кто заинтересуется. И они как две маньячки следили за всеми публикациями, академические журналы выписывали. Так что когда им попалась статья, где было упоминание, они очень воодушевились. Спросили адрес автора в редакции, и…
– А сам Вертиго?
– Умер в семьдесят первом. Ему было уже под восемьдесят тогда. А ты вон каким вымахал. А был тюфяком. Толстым, неуклюжим. Все ронял.
– Но почему?
В немытое забранное решеткой окно мягко, точно рой бабочек, бился снег. Пожелтевшая газета была развернута на странице анекдотов. And I’m turning To the horoscope And looking For the funnies.
– Почему? – Его собеседник, кряхтя, уместился в драном кресле с плоскими ручками и рахитичными ножками. – Да просто так, вот почему. Пора уже на вокзал ехать, я заскочил по пути в кофейню, рюмку пропустил, еще одну, ну, напоследок, и вдруг в голову как стукнет. Что, опять все сначала? Архивы эти пыльные, грязь, шум, метро-работа-дом, метро-работа-дом. Денег ни хрена все равно нет, баба пилит, стерва, истеричка, я думаю, такой и осталась, ты-то, вроде, выправился, смотрю, а был плаксивый, нежный, чуть что не по тебе, заходился в истерике… Боялся всего, помню, огней на телебашне испугался, это надо же! Ах, как же вы оба меня достали! Все меня достало, боже ж мой, а ведь можно исчезнуть по-тихому, просто исчезнуть и все… Напустить туману, намекнуть, так невнятно, мол, я приблизился к страшной тайне, а уж дальше вы сами гадайте, что со мной сталось. Рано или поздно найдется подходящий труп, трупы всегда находятся, паспорт я порвал и в унитаз спустил, а потом Нинка помогла на работу устроиться, она тут уборщицей, и засвидетельствовала, что я есть ее двоюродный брат, бежавший из горячей точки. Так что у меня теперь новая фамилия и ксива новая, никто не подкопается. А как ты догадался?
– Можно написать письмо в смятенном состоянии духа. Даже отправить его. Но у таких писем не бывает черновиков.
– А ты чего приперся? Меня искать?
– Я приехал убить Вертиго.
Мигала спираль в электрокамине, и лампочка над головой тоже мелко-мелко мигала. Словно крохотные существа, обитающие в замкнутом ее пузыре, тщетно пытались передать окружающему миру какое-то очень важное послание. Рецепт всеобщего счастья, например.
– Ты что, поверил во всю эту херню? В бессмертных творцов истории? Ну да, ты всегда был доверчивый дурак, помню, как побежал к какой-то бабе на улице. Она была с зонтиком, и ты решил, что это Мэри Поппинс.
– Это и была Мэри Поппинс. Я и потом ее видел.
Его собеседник пожал плечами.
– Чего ты, собственно, от меня хочешь?
– Убить Вертиго, – повторил он тихо и посмотрел на свои руки.
Ах так могу я дать ответ уж я-то знаю где секрет секрет какой ещё секрет секрета никакого нет ты просто лишняя деталь тебя и выбросить не жаль.
– Очень трогательно. Ах, какой пафос! Прямо «Звездные войны». Люк, я твой отец! Ну валяй, попробуй, у меня, правда, травматик, мне по штату положено, но ты же бесстрашный маленький сукин сын. Ты больше не боишься телевышек!
За спиной раздался шорох, тихий, словно бы пробежала мышь. Он обернулся – она стояла в дверях, маленькая, скособоченная, с серым дергающимся лицом, в сером форменном халате, водянистые бесцветные глаза перебегали с одного лица на другое, в них была тревога и тихая покорность, и ему стало стыдно.
– Ты что стала, дура, ничего он мне не сделает. Ступай, ступай отсюда. И это… саламандре угольков подкинь.
Она так же тихо вышла, ступая скованно и напряженно, словно мир вокруг был стеклянным и неосторожное движение могло его разбить.
– Уродина, но покладистая, – сказал его собеседник. – И маменька оставила ей квартиру. Он служил в каком-то управлении, дали трехкомнатную. А зачем ей одной трехкомнатная?
И всё ж я знаю в чём секрет и я могу вам дать ответ секрета нет секрета нет секрета никакого нет.
Он поднялся со своего скрипнувшего стула, здесь плохо пахло, немытым старым телом, сырыми тряпками, носками, спитым чаем, скудные запахи скудной усталой жизни… Саламандре? Наверное, какая-то их интимная шутка, только для двоих.
– Ладно, – сказал он устало, – я и правда пойду.
Ему никто не ответил.
* * *
Утренний город раскрывался, словно устрица, непроницаемо-серая снаружи, но постепенно кажущая нежную переливчатую перламутровую изнанку. Первый трамвай проехал, звеня и светясь изнутри; деловитые люди в комбинезонах расставляли позади Ратуши прилавки и ведра, выносили из фургончиков охапки цветов. Заляпанная грязью маршрутка выталкивала усталых темных пассажиров в таком количестве, словно она была волшебным шкафом фокусника. Он поискал взглядом Марину, но она, наверное, приехала еще раньше. Потряхивая плюмажиком, процокала белая лошадь, еще бодрая, с весело поднятой головой.
Он шел мимо безводного фонтана, на кромке которого мокрыми комочками спали голуби, мимо статуи Нептуна и статуи Марка Евангелиста, мимо аптеки номер один, где на витрине белели старые фарфоровые плошки и ступки для растирания трав, давно рассыпавшихся в прах…
Надо в «Криницу». Он всегда в это время завтракает в «Кринице». И он сядет за свой столик, и будет фургончик, и дождь, и женщина с зонтиком, разглядывающая свое отражение в витрине. Марина нальет ему кофе и капнет туда бальзаму и снова устроится за прилавком читать свой одноразовый любовный роман.
Но за его столиком у окна пристроился другой – одинокий клиент, явно приезжий, потому что у него не было зонтика, но был толстый, в потертостях, портфель. И Марины за стойкой не было, была другая женщина, молодая и рыжая, с яркими алыми губами, подправленными контурным карандашом, и кельтской татуировкой на запястье.
– Как всегда, – рассеянно сказал он, глядя, как она кладет лопаточкой на тарелку запеканку и щедро поливает ее сливками, – спасибо. А где Марина?
– А на этой неделе у нее вечерняя смена, – сказала рыжая.
Он взял поднос с тарелкой и чашкой дымящегося кофе и отнес в глубь зала. Отсюда не было видно ни грузовичка с рекламным кузовом, ни витрины сувенирной лавки напротив, а был виден кусочек крыши дальнего дома с белой летающей тарелкой, торопливо присевшей на карниз. Потемнело, ударил дождь, уже без снега, сильный и злобный, и крыши не стало, словно бы мир за стеклом кто-то торопливо стирал тряпкой, чтобы инсталлировать более продвинутую версию.
Запеканка была вкусная, собственно никакой разницы, кто накладывает запеканку на тарелку, а повар у них, видимо, один и тот же. Он доел и встал, оставив поднос на столике. Командировочный у окна тыкал пальцем в ноут. Добротные кожаные ботинки потемнели на мысках и вокруг подошвы.
Он натянул влажную куртку, нахлобучил капюшон и вышел. Девица за стойкой таращилась в плеер, наверное, смотрела какое-нибудь кино про любовь. Жаль, он не попрощался с Мариной. Интересно, кто из них притворяется – он сильфом, волшебным созданием света и воздуха, чтобы угодить ей, или она, подыгрывая ему, полагающему себя нечеловеком, прекрасным, бессмертным существом?
Спешить было совершенно некуда. Подъехал еще один трамвай, и он поднялся по мокрым блестящим ступенькам, трамвай приятно погромыхивал, наверное, его когда-нибудь заменят на скоростной, гладкий, хищномордый, и поставят на остановках электронные табло. Жаль. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть проплывающий мимо черствый торт театра, трамвай постоял немного на остановке, распахнул двери, замкнул их, погромыхивая, двинулся дальше. Кто-то постучал его по плечу.
– Вейнбаум, вы мне надоели, – сказал он, не открывая глаз.
* * *
– Вы полагаю, собрались на поезд.
Вейнбаум был в бейсболке, уши оттопырены, пятнистые лапки лежат на рукоятке трости. Безобидный старик, даже трогательный. Вейнбаум был опасней гремучей змеи, та хотя бы предупреждает о нападении.
– Я хорошо знаю этот поезд. Вы таки успеете выпить чашечку кофе. Две! «Синяя бутылка» ждет вас. Ради вас она даже откроется раньше времени.
– Мы ее давно проехали.
– Мы просто подъехали к ней с другой стороны, мой молодой друг. Этот трамвай сильно петляет. Можно сказать, скрадывает следы. Ну же! Кстати, на вокзале мерзкий кофе. А уж что они кладут в пирожки, я и сказать боюсь.
– Вы когда-нибудь оставите меня в покое? – спросил он устало.
– Буквально через пару часов! Сядете себе в поезд, чай, матрас, чистое белье, нет, правда чистое, не то что раньше. Раньше проводники практиковали китайку, знаете, что это значит? Нет? Использованное белье прыскали водой и складывали заново. Доверчивые пассажиры полагали, что это оно после стирки такое влажное. Теперь нет, теперь все отдается в руки механизмам, а механизмы не умеют врать. Люди умеют, в этом вся проблема.
Трамвай выплюнул их на остановке. Серые дома, серые дворы. Бастионы цивилизации. Вейнбаум бодро скакал впереди, время от времени делая выпады тростью.
– Нам сюда! А теперь сюда! О, вот оно!
Они протиснулись меж двумя мусорными баками, на бортике сидела ворона и держала в клюве кусочек фольги. Фольга дрожала, ловя скудный небесный свет. Ворона была в таком восторге, что даже не взлетала при их виде, лишь немного попятилась, сжимая в клюве обретенное сокровище.
«Синяя бутылка» обнаружилась в соседнем дворе, дверь в темную пахучую полутьму, прошитую узелками свечных огней, но ему показалось, что это не совсем та «Синяя бутылка», словно бы Вейнбаум просочился в параллельную реальность, где все почти такое же, но дверь чуть пошире, стена чуть поуже, одинокий вяз чуть ближе к стене соседнего дома. И вообще, это не вяз, а липа.
И девушка была другая, не русоволосая, пухленькая, с фарфоровыми кукольными зубками и ямочками на щеках, а чернявая, сухощавая, бледно-смуглая. Но Вейнбауму она кивнула вежливо, и он уселся на свой обычный стул, укрепив трость меж острыми коленами.
Они поменяли всех девушек в городе, подумал он.
Кофе, впрочем, оказался хорош. Даже лучше, чем обычно.
– А, вы виделись с Вертиго. Судя по вашему унылому виду.
В зрачках Вейнбаума одинокий огонек свечи распался на две красноватые точки.
– Да, – сказал он и хотел взять печеньку, но нечаянно нажал на нее слишком сильно, и она рассыпалась крошками. Он пошевелил кучку крошек пальцем. – Классический сюжет, да. Заезжий рыцарь и увечный король. Рыцарь должен победить короля или исцелить его. Исцелить предпочтительней, поскольку тогда, по канону, рыцарь должен узреть Грааль. Только Грааля нет, вот в том-то и беда. Нет и не было. Здесь, кстати, кажется, есть еще один театр, в городе? Драматический.
– Был. Но, можно считать, прогорел. В переносном смысле. Держится только на местных графоманах. Графоманы, видите ли, тщеславны, а некоторые еще и богаты. Они готовы финансировать свои опусы. Но, к сожалению, богатых графоманов всегда меньше, чем просто графоманов.
– А голодных актеров – много.
– Да уж больше, чем богатых графоманов.
– Зачем все это? Ах, да. Вам скучно. Вы очень долго живете, и вам скучно. И вы держите эту ресторацию, и еще две ресторации. И, возможно, прикупаете еще парочку. Таких, чтобы туристам понравилось. Но туристам все время нужно что-то новенькое. Им надоело слушать про черную вдову и могилу вампира. Про масонов и про сильфов. Даже про сопротивление надоело, уж это-то вдвойне, поскольку там слишком много правды. И да, есть еще Валек, а он бывший историк. У него наверняка есть кое-какие идеи. Касательно туризма. И касательно истории. Индивидуальный подход. И каждый приезжий уезжает обратно со своей историей. И в конце концов все эти истории…
– Все не так, как вы думаете, – сказал Вейнбаум.
– Разве? – в свою очередь спросил он. – Разве не весело устраивать все эти розыгрыши? Нанимать актеров, дурить бедных приезжих? Так, наверное, было весело меня пугать… спасать, водить за нос. Сбивать с толку. Подбрасывать идеи и тут же отрицать их. Это он вам все рассказал, да? Когда-то давно, со смешком, за чашечкой кофе, за рюмочкой настойки. За третьей, четвертой кружкой пива. Он много пьет. Так ему легче.
– О! – Смуглая и чернявая подавальщица поставила перед Вейнбаумом томно истекающую ромовую бабу, и Вейнбаум энергично ткнул в нее ложечкой. – Теперь вы демонизируете меня! Вам просто обязательно нужно кого-нибудь демонизировать!
– Нет-нет. Я знаю, вы не ради собственной выгоды. Просто история – это кровь и грязь. Это позор и предательство. А городу нужен миф. Полнокровный настоящий миф. Свои гении. Свои мученики. Баволь отлично пойдет. Кружки с Баволем. Принты с Баволем. Небольшой магазинчик при музее. И еще парочка – один на площади Рынка, другой на Ратушной. А еще чуть-чуть, и можно будет раскрутить Ковача. Фестиваль его имени, конкурсы его имени, все такое.
– Но вы же поверили? – весело сказал Вейнбаум. – Признайтесь! Вам же самому хотелось, чтобы было что-нибудь этакое. Всем хочется. Такова человеческая природа. Отыскать среди крови и грязи, среди безнадежности потаенную дверь и ускользнуть через нее и там, за дверью, увидеть свет, и буколический пейзаж с горами и морем, и ангела с оливковой ветвью. И, там за этой дверью, никто не умирает, и не расстается, и чудо щекочет тебя нежным перышком.
– Поверил? – наверное, все-таки лучше было бы пересидеть до поезда в вокзальном буфете. – Возможно. На какой-то миг. Костжевский… он переигрывал. Вы подобрали хороший типаж, но это не Костжевский. Тот Костжевский давно уже мертв.
– Не согласен, – сказал Вейнбаум. – Всегда должен быть Костжевский. Если есть город, должен быть Костжевский. И Валевская. И Ковач. А как же иначе.
– Каббалистика, – сказал он устало. – Опять каббалистика. Кстати, а куда на самом деле подевался Шпет?
– Ах, Шпет? Его срочно попросили прочесть лекции в одном загородном клубе. За очень неплохие деньги. За ним приехал прекрасный новенький автомобиль и увез его. Еще пара дней, и он вернется, и знаете, он абсолютно ничего не заметит. Но, конечно, ему придется извиняться перед Воробкевичем. Впрочем, они помирятся. Такое уже бывало.
– Музей восковых фигур тоже принадлежит вам?
– Ах, нет. Мареку.
Огонек свечи в плошке метнулся, присел, подпрыгнул, черты лица Вейнбаума на миг исказились, маска, сквозь которую проступает иная, нечеловеческая сущность. Может быть и другая история, подумал он, история о древних существах, незаметно, исподволь, опутавших город медовыми нитями своих странных интриг, своих непонятных стороннему глазу игр, своих привычек, своего постоянства, но такие истории, кажется, уже выходят из моды, да и вообще это, кажется, тоже уже было. Нет, Вейнбаум – тоже орудие. Это город творит свой миф, по своей прихоти вызывая из небытия тени и управляя ими.
– Я рад, что Шпет жив, – сказал он. – Он мне по-своему даже понравился.
– А вот это вы зря! – воскликнул Вейнбаум жизнерадостно. – В Шпете нет абсолютно, абсолютно ничего такого, что могло бы вам понравиться! Вы просто плохо знаете Шпета. Я его знаю хорошо, и уверяю вас… Я вижу, мое лицо вам более невыносимо! Вы ерзаете на стуле и думаете, как бы тактично смыться.
– Нет, – сказал он. – Просто я не спал эту ночь и плохо спал предыдущую. А в поезде койка и чистое белье. И никакой китайки.
– Хотите, Валек вас отвезет?
– Упаси боже! – честно сказал он. – И, да, Лидии привет. Она ваша родственница?
– У меня нет родственников, – спокойно сказал Вейнбаум. – Вернее, есть, но они лежат там, откуда уже не встают. Привет я передам, да.
Он обернулся, выходя. Вейнбаум продолжал сидеть, уместив трость меж колен и положив острый подбородок на рукоятку, так что волчья серебряная голова, казалось, вырастала у Вейнбаума из шеи.
* * *
Пани Агаты не было, зато на перекрестке стоял солидный господин с собачкой. Господин был в котелке и двубортном пальто. Собачка была тоже маленькая, но мохнатая, с усами и шкиперской бородкой. На печальной мордочке оседала морось.
Голубь у скамейки лениво клевал остатки гамбургера. Бронзовая девушка у фонтана пошевелилась и переступила с ноги на ногу. Стайка туристов расступилась, огибая его, обогнал, покачиваясь, великан на ходулях. Ему захотелось дать великану подножку, чтобы тот закачался, и рухнул, и рассыпался на несколько составных частей, и лежал бы вот так, словно сломанная гигантская кукла. А он тогда будет Джек, победитель великанов. Он еле удержался.
Девушка, увитая хмелем, предложила ему пива в пластиковом стаканчике, и он выпил его, а потом еще один стаканчик, хотя горло тут же начало саднить.
Нищий на углу прилаживал к граммофону огромную трубу, поворачивая ее разверстый зев в сторону гуляющих. Сейчас было видно, что пальто у нищего когда-то было зеленое. И что застежка на женскую сторону. Он подошел поближе.
Нищий шевелил опухшим вялым лицом.
Он достал из кармана мелочь и со звоном ссыпал ее в раскрытый ящик из-под патефона. Нищий поднял голову.
– Кто поет? – спросил он и присел рядом. – Кармен я имею в виду.
– Старая Валевская, – сказал нищий.
Он вытащил из кармана пачку и протянул нищему сигарету. Какое-то время они молча курили, сидя на корточках. Он подумал, что после бессонной ночи, в куртке с зашитой прорехой на спине и несвежей рубашке он и сам на сторонний глаз выглядит таким же нищим, разве что не до самого дна опустившимся.
– Ковач знаете, где ошибся? – сказал он, щелчком сшибая пепел с сигареты, – посчитал девять планет, а Плутон-то, оказывается, не планета, так, планетоид. А планетоиды не в счет.
– Плутон вроде реабилитировали. – Нищий смотрел перед собой и выпускал облачка дыма, как паровозик. – Опять стал планета. Никак не могут определиться. Так что девять планет. Все верно. Но я не знаю, надо ли учитывать пояс астероидов. Там засада с этими сферами. И вообще – как считать? Геоцентрическая система? Гелиоцентрическая? Но Солнце это просто желтый карлик на краю галактики. Тогда откуда начинать, если у вселенной нет центра.
– Да, – сказал он, – это ловушка, Ладислав, ловушка богов. Они любят такие ловушки. Такие шутки.
– Ты меня с кем-то путаешь, чувак, – сказал нищий. – Никакой я не Ладислав.
– Прошу прощения, – сказал он. – Обознался. Кстати, не вы мне звонили в хостел? Поговорить о музыке?
– Откуда? – лениво спросил нищий. – С этого граммофона?
– И верно. Вот, сигареты возьмите. И деньги, я бы и больше дал, но больше нету. Я только на обратный билет оставил, ну и поесть в дорогу.
Он встал и пошел дальше, разминая затекшие ноги. И как этот нищий не устает все время сидеть на корточках?
Он шел, сунув руки в карманы, огибая прохожих, сплошь приезжих, потому что был будний день, а в будний день отличить приезжего от местного очень, очень просто. Он шел и думал, как это хорошо, что у него почти нет вещей. Легко идти. Вообще легко.
* * *
Даже когда умерли все паровозы, запах остался. Окалины, жженого угля, дыма. Сухой, жесткий, змеиный запах.
В привокзальном буфете он купил пирожок с мясом, из тех, что настоятельно не рекомендовал Вейнбаум. Прирожок оказался неожиданно вкусным. Еще он взял сто грамм, потому что спирт убивает микробов.
В здании вокзала было полным-полно цыган, с мешками, с детьми, босиком шлепавшими по холодному полу. Цыганка в нескольких юбках, из-под которых виднелись тренировочные штаны, расположившись на просевшем мешке, кормила грудью ребенка. Еще был старик с козой и женщина с корзиной, накрытой пуховым платком. В корзине что-то шевелилось, он не понял что.
Цыганам плевать на красиво обставленные выходы. Им вообще плевать на чужаков. Потому ее никто и не заметил. Хотя выглядела она очень даже мило в этой своей черной короткой шубке, на очень высоких каблуках, добавляющих к ее маленькому росту еще несколько щедрых сантиметров. Вокруг была толкотня, цыганские дети кричали, коза блеяла, и он, чтобы удобнеее было разговаривать, взял ее за маленькую холодную руку и увел за киоск с товарами первой необходимости, и они стали там, рядом с зубными щетками и шариковыми дезодорантами, что было, честно говоря, не так романтично, как ей, наверное, хотелось бы.
Она молчала, только голое белое горло дрожало, словно бы она только-только закончила петь. Зря она ходит без шарфа, еще застудится, а ведь певицам нельзя. Хотя она, наверное, перед тем, как войти сюда, сняла шарф для красоты и форсу.
Пассифлора. Витекс священный.
– Ты зачем пришла? – получилось невежливо. Жаль. Он не хотел невежливо.
Несмотря на высоченные каблуки, она казалась очень маленькой и беззащитной. Испуганный ребенок в маминых туфлях. А он большой и сильный, сейчас он шагнет к ней, и обнимет ее, и подхватит ее на руки, и увезет далеко-далеко. Желательно, в СВ. И они будут жить долго и счастливо, а потом навеки застынут в пурпурном сердечке на фоне красивого стимпанковского паровоза, и Марина за стойкой откроет бумажную обложку и перевернет первую страницу.
Да, точно, вот и чемоданчик, маленький, зачем ей большой, когда там, куда они наконец приедут, он купит ей все-все-все. А за особняком присмотрят, особняк никуда не денется, это ее музей, ее дом, никто его больше никогда не отберет, тем более коммуналку все равно оплачивает город.
– Янина, – сказал он. – Маленькая Янина. Там, куда я еду, ничего нет. Ничего, понимаешь? Только страшные железные звуки и люди с песьими головами, и мрак, и грязь, и стыд, и иногда кровь, и ужас длящейся бессмысленной жизни, и сам я с первым светом встану совсем другим, я стану таким же человеком с песьей головой и больше никогда не скажу ни слова, а буду только рычать алчной своей глоткой. Осталось совсем немного, близится финал, и я вот-вот сниму свое лицо, и под ним окажется морда чудовища. Такие у нас метаморфозы, маленькая Янина, такие страшные чудеса, и мы не умеем делать иных. Ты ошиблась, маленькая моя Янина. Я не граф Монте-Кристо, а ты не Гайде. Я не увезу тебя с собой. Мне некуда. Я такая же иллюзия, как все здесь, Янина. Я растворюсь, как соль в воде, я уже растворяюсь, скоро меня совсем не будет. Совсем. Совсем.
Она молчала. Ресницы дрожали, и еще дрожала маленькая мышца в углу скорбного рта. Цыганка смотрела на них конским лиловым глазом и мяла в пальцах папиросу.
– У меня узелок на связках, – сказала она тихо. – Пока маленький. Пока один.
– Бедная ты моя, – сказал он, и обнял ее, и прижал к себе, и отпустил. – Бедная.
И еще сказал, прощай, маленькая Янина, и помни меня, потому что, пока ты меня помнишь, я буду, а когда ты перестанешь меня помнить, меня не будет совсем.
Но ее уже не было рядом. Она скользила прочь так плавно, словно грязные плиты вокзала вдруг задвигались, как льдины на темной и холодной реке, унося ее с собой.
* * *
На верхней полке ехать лучше, чем на нижней. На нижних шуршат пакетами и раскладывают на столике курицу и мокрые помидоры и время от времени бросаются к своим койкам и поднимают их, потому что они забыли в багажном ящике что-то важное, и это важное надо немедленно достать, а другое важное положить обратно. А ты лежишь наверху, как князь, как царь, озирая с высоты свой маленький мир, и никто, никто не может тебя потревожить. И начинают стучать колеса, и наступает веселое опустошение, потому что те, кто остался там, за твоей спиной, больше не могут тебя потревожить, а будущее, в силу твоего отсутствия в определенной точке бытия, не ловит тебя в перекрестье своего прицела.
Секрет секрет стучали колеса теперь я знаю в чем секрет секрета никакого нет ты просто лишняя деталь тебя и выбросить не жаль. Быть лишней деталью не так уж плохо, поскольку в противном случае ты становишься частью репетира и обречен вечно двигаться в раз заведенном порядке, и нет надежды на спасенье. И когда телефон засветился и задергался и запел волшебной флейтой, он с минуту колебался, но потом все-таки протянул руку и взял в ладонь своего говорящего электронного зверька.
– Да, – сказал он, – да? Только быстрее, я в поезде. Сигнал может пропасть.
– Почему вы уехали? – голос Урии был тихим, но таким отчетливым, словно бы сам маленький Урия вылез из телефонной коробочки и стоял теперь на его ладони, улыбаясь и блестя светлыми глазами. – Почему оставили все как есть?
– Потому что ничего нет, Урия, дитя света, – сказал он тихо, чтобы не потревожить спящего напротив юношу, бритого наголо и с татуированным бицепсом, но с детским, обиженным лицом. – Ничего нет, кроме наших страхов и надежд.
– Вы слишком легковерны. Он наговорил вам, вы поверили. Он ведь ловец душ. Он метит всех своих потенциальных противников. И потенциальных преемников. Он пометил вас и теперь знает ваши уязвимые места. Вы разве не бегали ночью во сне? Так приятно бегать ночью во сне…
– Я не бегал ночью во сне, – сказал он сквозь зубы. – Все это выдумка, Урия. Игрушка одиноких стариков. И ты тоже – выдумка. Иллюзия. Не бывает сильфов, и саламандр не бывает, и мысли читают только фокусники.
– Мой дорогой, – сказал Урия, – мой прекрасный возлюбленный. Мое утерянное сокровище. Город – живое дышащее существо, ворочающееся в своем полуразумном сне, он сам творит свои легенды, он вызывает из мрака тени и управляет ими. Он мечет лучи света, как рыба икру. И мы призвали вас, и вручили светящийся меч, и поставили против врага… – Сигнал пропал, вернулся. – … ак надеялись. … ам так помогали. А вы просто взяли и уехали. Разбудили дракона и уехали. Он проснулся, и он страшен. Вам мало Шпета?
– Шпет жив и здоров, – сказал он. – Все это иллюзия, розыгрыш. И знаешь, Урия, я устал. И я хочу спать. Я уже сплю. Ты не разговариваешь со мной, Урия. Ты мне снишься. Ты – порождение моего сна. Прекрасное, сияющее, совершенное существо, которому нет места в грубом мире. Я поймал тебя и заключил в коробочку своего сна, теперь ты будешь со мной, Урия, и я никогда не буду одинок.
Из края в край окна проплыл элеватор, потом водокачка, потом домик станционного смотрителя с чахлым палисадником. Чернила сумерек замазывали окружающий мир до смутных, почти неразличимых очертаний…
– Но ведь хрустальный шар был, – сказал Урия очень отчетливо. – Хрустальный шар был. Он настоящий. И я настоящий, я свободен, а то, что тебе кажется мной, лишь плод твоего бедного воображения. А хрустальный шар был, ты сам видел его, мой предатель, мой бежавший возлюбленный.
Он хотел сказать, просто китайская игрушка, микросхемы, линзы, оптоволкно, но понял, что сигнал пропал и телефон, который он держит в ладони, мертв. И он сказал – прощай, Урия, дитя света, и Урия ответил ему, нет, не прощай, я с тобой, я всегда буду с тобой, а хрустальный шар настоящий, и чудо всегда робко стоит на пороге, ожидая, когда ты его заметишь.
Хрустальный шар, думал он, устраиваясь поудобней и поправляя жесткую подушку, если б я был очень, очень маленький, я бы попал туда и разгадал бы, в чем секрет, но я уже не маленький и не могу попасть внутрь. В том-то и беда, Урия, я уже не могу попасть в волшебную шкатулку, даже если она размером с город, ибо чудо герметично и впускает в себя лишь детей и безумцев.
И наивысший небесный круг, несущий на себе звезды и вращающийся более быстро, двигался, издавая высокий и резкий звук; и с самым низким звуком двигался вот этот, лунный и низший круг; поскольку Земля, девятая по счету, всегда находится в одном и том же месте, держась посреди мира. И восемь путей, два из которых обладают одинаковой силой, издают семь звуков, разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел всех вещей, поскольку, воспроизведя это на струнах и посредством пения, ученые люди открыли себе путь для возвращения в это место…
И колеса стучали, и он спал и не видел, как снег за окном истлел, а потом и вовсе сошел на нет, уступая место сначала мягкой робкой зелени, потом яростной кислотной торжествующей зелени, и деревья оделись в розовое, и далеко-далеко, на краю дымящегося поля, вставало багряное солнце. А он все спал на верхней полке, сжимая в руке мертвый телефон, и ноги его подергивались во сне.
КОНЕЦ